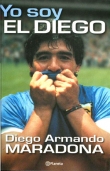Текст книги "Диего Ривера"
Автор книги: Лев Осповат
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
– Там заодно и договоримся насчет росписей в Препаратории, – добавляет он, отводя глаза.
Из поездки на Юкатан Диего возвращается в декабре. Распираемый впечатлениями, спешит он с вокзала домой, готовясь поэффектней рассказать о том, как уломал, наконец, Васконселоса, как бродил по развалинам древних городов – Ушмаля и Чичен-Ицы, воздвигнутых когда-то индейцами майя, но прежде всего о том, как с первых же шагов по юкатанской земле повеяло на него дыханием еще не отбушевавшей революции. В Мериде, столице штата, повсюду висели черно-красные и просто красные флаги, на фасадах домов красовались надписи: «Да здравствует аграрная реформа!», «Смерть помещикам!», «Долой буржуазию!» Сбежавшие из своих имений помещики отсиживались в особняках, не смея высунуть нос на улицу, где кипели митинги и толпа одобрительным ревом встречала призывы немедленно отдать плантации индейским общинам, разделить между бедняками неправедно нажитые богатства.
Живым олицетворением этой мятежной стихии, воплощением силы ее и слабости стал для Диего человек, осуществляющий, как ни странно, верховную власть на территории штата, – Фелипе Каррильо Пуэрто, «красный губернатор» Юкатана. Один из немногих народных вожаков, еще удерживающихся на высоких постах, куда их выдвинула революция, он стремился к решительным социальным преобразованиям, с благоговением говорил о Ленине и даже именовал себя коммунистом. Созданная и руководимая им рабоче-крестьянская «Лига сопротивления» наводила ужас на богачей, не останавливаясь перед беспощадным террором. И в то же время он был предан Обрегону, которого считал защитником интересов трудящихся, преклонялся перед ученостью Васконселоса и искренне недоумевал, почему центральное правительство не оказывает поддержки режиму, установившемуся в Юкатане.
Интересно, что скажет отец обо всем этом…
Вот и дом. Мать, рыдая, бросается навстречу ему: отец при смерти.
Неделю спустя отупевший от горя Диего бредет за гробом.
И все-таки еще до наступления Нового года он принимается за работу.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
IТак вот оно, поле битвы, от которой зависело его будущее, а возможно, и будущее монументальной живописи в Мексике! Казалось, трудно найти что-либо менее отвечающее целям Диего, чем это здание в стиле колониального барокко, воздвигнутое еще в начале XVIII века… С тех пор оно не раз перестраивалось, так что первоначальный вид сохранили лишь внутренние помещения, в частности просторная аудитория с рядами скамей, спускавшихся амфитеатром к закругленной сверху стене, которую и предстояло расписывать. И хоть бы сплошная стена, так нет: центральная ее часть отступала вглубь, образуя квадратную, метра на три не доходящую до потолка нишу, где стоял старинный орган. Этот орган злил Диего больше всего: он заранее убивал любые фигуры, которые вздумалось бы поместить по соседству с ним.
Но разве полководец всегда волен выбирать себе поле сражения? И не требует ли военное искусство умения использовать территорию, навязанную противником?
А что, если и впрямь заставить работать на себя само разноликое здание? Что, если связать тему росписей с историей, которая оставила след в архитектурных формах, наслоившихся здесь друг на друга? Скажем, представить в серии картин процесс духовного развития человечества за несколько столетий – тех столетий, на протяжении которых складывалась мексиканская нация… А картины эти расположить таким образом, чтобы зритель, двигаясь из глубины здания к вестибюлю (кстати, пристроенному недавно и выдержанному в современном вкусе), мог восстановить по ним весь путь самопознания, пройденный его народом.
В воображении Диего начал вырисовываться целый комплекс росписей. Особенно воодушевляла его задача найти пластическое выражение для различных этапов философской мысли, от учения пифагорейцев до диалектического материализма. Напрасно напоминал он себе, что в его распоряжении пока что только одна стена. Все равно, теперь он рассматривал ее не иначе как исходный пункт будущего комплекса, как некий очаг, из которого его живопись распространится дальше, покрывая свод, боковые стены и даже пол, выйдет за пределы аудитории и постепенно заполнит пространство Подготовительной школы.
Теперь уж и причудливая форма первой стены не смущала его, а, напротив, подхлестывала изобретательность. Фигуры здесь следовало расположить симметрично, живым полукружием, охватывающим нишу. А в глубине пиши требовалось поместить такое изображение, в которое бы вписывался целиком весь орган со своими вертикальными трубами, похожими на древесные стволы. Может быть, это сходство и натолкнуло Диего на мысль изобразить позади органа дерево – разумеется, не просто дерево, но Древо Жизни.
– Над этим Древом, в самой верхней части стены, – разъяснял Диего министру, склонившемуся над его наброском, – я опрокидываю голубой, усеянный звездами полукруг, откуда исходят три луча – один прямо вниз, два в стороны, – оканчивающиеся изображениями рук. Лучи символизируют солнечную энергию, источник всякой жизни на земле.
По левую сторону ниши, внизу, – обнаженная женщина, девственная и могучая, словно только что отделившаяся от животного мира. По правую сторону – такой же обнаженный мужчина. Это прародители человечества, Адам и Ева нашей земли, сидящие у подножья Древа Жизни. А над ними, поднимаясь все выше, – аллегорические фигуры, которые олицетворяют собой различные порождения человеческого духа и в то же время наделены расовыми чертами тех племен и народов, которые образовали мексиканскую нацию.
Женщина внемлет Музыке, наслаждается Песней, любуется Танцем. Улыбающаяся Комедия осеняет ее ласковым жестом. Над ними стоят Милосердие, Надежда и Вера. Еще выше, под самым сводом, в непосредственной близости к голубой полусфере парит Мудрость.
Мужчина вопрошает Познание, а оно поясняет ему смысл Легенды. За ними – Поэзия, Традиция и Трагедия, прикрывающая свое лицо скорбной маской. Далее выступают Благоразумие, Справедливость, Сила и Целомудрие. И наконец, восседающая на облаках Наука.
О планах на дальнейшее Диего предпочел умолчать, чтобы не настораживать Васконселоса, который был приятно удивлен традиционным характером представленного эскиза. От композиционного решения будущей росписи веяло иерархической упорядоченностью византийских мозаик. Оказывается, этот упрямец способен прислушиваться к разумным советам! И как же все это должно называться? «Созидание»?.. Ну что ж, в добрый час!.. «Утверждаю», – аккуратно вывел министр в углу наброска.
Да, а в какой технике собирается Диего выполнять свою роспись? Энкаустика, то есть восковая живопись по подогретой основе? Но ведь это, кажется, чрезвычайно трудоемкий и дорогой способ?
В ответ Диего принялся загибать пальцы. Во-первых, он считает, что технология живописи должна максимально соответствовать теме, и для росписи, посвященной первым шагам духовной культуры, ничто так не подходит, как энкаустика, применявшаяся еще в Древнем Египте. Во-вторых, какая другая техника настенной живописи позволит добиться столь чистых, глубоких и звучных тонов? В-третьих, картины, выполненные энкаустикой, практически вечны, не нуждаются в подновлении и реставрации, и это со временем полностью окупит повышенные затраты.
Ладно, энкаустика так энкаустика. Окончательно раздобрившись, Васконселос позволил Диего занять под мастерскую любое пустующее помещение в бывшем монастыре Петра и Павла, переданном министерству, а также набрать помощников сколько понадобится.
Помощников искать не пришлось: прослышав о крупном государственном заказе, безработные художники сами осаждали Диего, предлагая услуги. Он не устраивал им профессионального экзамена, а просто делился своими дерзкими замыслами, излагал проекты один фантастичнее другого, например: покрыть революционными росписями стены Национального дворца… Тем, кто не проявлял достаточного сочувствия либо поддакивал лишь из вежливости, он отказывал наотрез. Тех же, в ком удавалось встретить или зажечь неподдельный энтузиазм, он брал, невзирая на молодость и неопытность.
Без колебаний остановил он выбор на Хавьере Гер-реро, работавшем до того под началом у Монтенегро. Чистокровный индеец-тараумара, низкорослый и плотный, со скуластым узкоглазым лицом, лоснящимся, словно медная кастрюля, Герреро не был дипломированным живописцем, зато происходил из семьи потомственных маляров – «пато», как их называли в Мехико. С малолетства помогая деду и отцу расписывать церкви и пулькерии, Хавьер выучился фамильному ремеслу раньше, чем грамоте. Он был сдержан и немногословен, не легко воспламенялся, но, уже решившись на что-либо, шел до конца.
Полную противоположность ему представлял двадцатипятилетний француз Жан Шарлот, порывистый и насмешливый. Мировая война застала его студентом Школы изящных искусств в Париже, швырнула на фронт, сделала артиллерийским офицером. Сытый по горло европейской цивилизацией, он захотел обрубить все связи с прошлым и, как только дождался демобилизации, отправился в Мексику, где нашел настоящую родину. Среди помощников Риверы не было, пожалуй, более страстного мексиканского патриота, чем этот щеголеватый парижанин.
Самым младшим был Фермин Ревуэльтас, отчаянный забияка и драчун, анархист не столько по убеждениям, сколько по темпераменту. В свои двадцать лет он успел приобрести шумную известность картинами, эпатирующими обывателей, а также тем, что постоянно ввязывался в стычки с полицией.
Вскоре к ним присоединились и другие: гватемалец Карлос Мерида, мексиканцы Фермин Леаль, Рамон Альба де Каналь, Эрнесто Каэро, Амадо де ла Куэва, уроженец США Пабло О'Хиггинс. Всех их объединял интерес к монументальной живописи и горячее восхищение Риверой, за которого они – во всяком случае, на первых порах – готовы были в огонь и воду. Остряки из академии Сан-Карлос прозвали их «Диегитос» – «маленькие Диего», но молодые художники приняли вызов и стали с гордостью носить эту кличку.
Ну и задал же им Диего работу! Одни помощники, вооружившись мраморными пестиками, день-деньской растирали краски на мраморных плитах под присмотром Карлоса Мериды, а тот, похожий в своем белом халате скорее на фармацевта, чем на живописца, с величайшим тщанием взвешивал порции красочного порошка, дозировал смеси и растворял их в специальной эмульсии, составленной из нефти, воска и копалевой смолы. Другие тем временем, стоя, сидя и вися на лесах, воздвигнутых в аудитории, разравнивали цементную поверхность стены, вычерчивали детали композиции, резцами просекали контуры, а после промазывали поверхность расплавленной смолой.
Диего то и дело наведывался в аудиторию, придирчиво проверял работу учеников, поправлял ошибки, давал следующее, задание и вновь возвращался в мастерскую к своим этюдам и картонам. Полуразрушенный монастырь, в котором он обосновался, за годы революции не однажды менял хозяев: служил он и казармой и госпиталем, а при Уэрте в нем помещалась тайная полиция, и в полузатопленных подвалах до сих пор еще можно было наткнуться на скелеты замученных здесь людей. Впрочем, зловещая репутация этого здания не смущала ни самого Диего, ни его многочисленных посетителей.
Вернее, посетительниц. Среди двадцати фигур, которые решил он изобразить на стене, окружающей нишу, была лишь одна мужская (для нее Ривере позировал Амадо де ла Куэва); остальные девятнадцать женских фигур требовали соответствующей натуры. Притом Диего не мог обойтись профессиональными натурщицами – ведь согласно замыслу каждый аллегорический персонаж должен был представлять собою и определенный этнический тип, олицетворять одно из слагаемых, составляющих мексиканскую нацию. Пустив в ход все знакомства, он вербовал натурщиц в самых разнообразных кругах столичного общества. Иные женщины соглашались позировать ему по дружбе, иные из любопытства, иных соблазняла перспектива остаться увековеченной на стене Подготовительной школы. Ежедневно в пустынных замусоренных коридорах бывшего монастыря раздавался стук каблучков, и очередная модель, опасливо переступая через вороха заскорузлых бинтов, избегая коснуться штукатурки, на которой местами сохранились кровавые отпечатки ладоней, торопливо поднималась на верхний этаж и входила в большую, залитую светом комнату, где ее с нетерпением ждал художник.
Для Комедии, которую Диего замыслил изобразить разбитной, лукавой креолкой, позировала его приятельница Лупе Ривас Качо. Для Трагедии – оливково-смуглая художница, носившая ацтекское имя Науиль Один. Фигуру Надежды в виде юной испанки-монахини он писал с белокурой и голубоглазой красавицы Марии Долорес, жены скульптора Асунсоло. А моделью для Справедливости он уговорил послужить, аристократку Лус Гонсалес, которая гордилась тем, что происходила по прямой линии от древних владык Теночтитлана.
И лишь для единственной фигуры, едва ли не ключевой в композиции, Диего никак не мог подобрать подходящую модель. В целом Мехико не отыскалось пока женщины, чья наружность отвечала бы мощному образу индейской Евы. Он переменил с десяток натурщиц, увешал и завалил мастерскую набросками обнаженных тел, широкобедрых и полногрудых. Но все эти наброски не удовлетворяли Диего. Ни в одном из них не нашла своего воплощения та чувственная стихия, та вожделенная и грозная сила, воспоминание о которой жгло его с детских лет, с далекой ночи, когда задыхающийся от волнения мальчишка кубарем скатился по лестнице старого дома в переулке Табакерос.
IIА ведь женщины приходили к Диего в мастерскую не только затем, чтобы позировать. Его частная жизнь была более чем беспорядочной. Одно увлечение сменялось другим, рассказы о них распространялись по столице, приукрашенные молвой, превращавшей Диего в сущего Казанову, что в высшей степени льстило его самолюбию.
Весною 1922 года он не на шутку влюбился в популярнейшую исполнительницу народных песен Кончу Мишель, со страстью отдававшуюся борьбе за равноправие женщин. Ее диковатая степная красота, независимый и безудержный нрав, острый язык и в особенности ее неподражаемый надтреснутый голос, исторгавший рыдания у свирепых и чувствительных мексиканцев, околдовали Диего настолько, что временами он забывал даже о работе, но не пропускал ни одного концерта Мишель, дежурил на всех митингах, где та выступала.
Внимание Диего не оставило певицу равнодушной, однако чем неудержимей тянуло ее к нему, тем яростней сопротивлялась она этому темному чувству. Конча была счастлива в браке, уважала своего мужа, и теперь вся ее гордость вскипала при мысли о том, что она может поддаться презренной женской слабости, унизиться до адюльтера… При встречах она осыпала художника колкостями, издевалась над его внешностью и манерами, нападала на его беспутное поведение. А Диего, от которого не укрылась истинная причина такой враждебности, лишь посмеивался и продолжал осаду, терпеливо ожидая своего часа.
Возможно, он и дождался бы, если бы Конча не решилась прибегнуть к поистине крайней мере, чтобы побороть искушение. Как-то утром она сама зашла к нему в мастерскую, и, когда Диего, истолковав это как капитуляцию, хотел уже повернуть ключ в двери, певица торжественно объявила, что нашла наконец-то средство избавиться от его преследований. В ответ на его недоверчивую усмешку она выглянула в коридор и позвала:
– Эй, Лупе! Иди сюда!..
И в прямоугольном дверном проеме возникла, точно в раме, молодая женщина, поразившая Диего с первого взгляда.
Первым, что бросилось ему в глаза, были руки, которые эта женщина держала перед собой, словно собираясь во что-то вцепиться, – сильные, превосходно вылепленные руки, оканчивающиеся гибкими хищными пальцами. Мальчишески-стройный торс казался небольшим по сравнению с длинными мускулистыми ногами – их совершенная форма, как признавался Диего впоследствии, привела его в восхищение, граничащее с испугом. Над округлыми плечами вздымалась точеная шея, а из-под шлема черных густых волос слепо смотрели прозрачные светло-зеленые глаза, зрачки которых почти сливались с радужной оболочкой. Эти глаза на смуглом лице напоминали овальные кусочки кварца, какие можно увидеть под надбровьями ольмекских погребальных масок. Сходство с маской дополнялось неподвижностью лица. Но вот полные губы с приспущенными углами («словно у тигрицы», – подумал Диего) дрогнули, приоткрылись, обнажив два ряда белоснежных зубов, и низкий голос произнес довольно сварливо:
– Черт побери! Долго же ты заставила меня торчать в этой вонючей дыре! Я натерпелась там страху и набралась блох, а то и чего похуже!
Пристально глядя не на нее, а на художника, застывшего с разинутым ртом, Конча сухо представила:
– Гваделупе Марин. Диего Ривера.
Женщина двинулась в мастерскую, по-прежнему неся руки перед собой. Все тем же невидящим взглядом обвела она стены, увешанные рисунками, потом уставилась на Диего, бесцеремонно осмотрела его с ног до головы и, обернувшись, воскликнула с дикарским простодушием:
– Так это и есть знаменитый Диего Ривера? Ну и страшилище!
– Страшилище? – сардонически повторила Конча. – Вот увидишь, еще я не успею дойти до угла, как вы с ним поладите.
– И ринулась из комнаты. Гваделупе Марин, казалось, готова была последовать за нею. Но тут в ее поле зрения очутилась горка бананов и апельсинов на расписном подносе посреди стола.
– Послушайте… – нерешительно проговорила она. – Эти фрукты, они здесь зачем, чтобы рисовать их?
– Нет, Гваделупе, просто-напросто чтобы есть…
– Значит, и мне можно съесть?
– Ну, разумеется, Лупе, – спохватился Диего, – сколько угодно!
Присев на табурет у стола, женщина протянула руку к подносу, взяла банан, очистила его и поднесла ко рту. Челюсти ее равномерно задвигались в то время, как длинные пальцы с обезьяньей ловкостью уже обдирали следующий банан. Поколебавшись, Диего уселся напротив, развернул альбом и принялся набрасывать эти руки, эту божественную линию бедра, обрисовавшуюся под платьем…
Наступившая тишина заставила его поднять голову. Опустевший поднос сверкал всеми своими узорами. Лупе смотрела в пространство, недовольно оттопырив нижнюю губу, Диего кликнул прислуживавшего ему старика индейца, велел принести еще фруктов и вернулся к прерванному занятию. Оба молчали.
Второй поднос был опустошен почти так же быстро. Не ожидая приказания, старик принес холодной воды в глиняном кувшине. При виде кувшина – изделия гончаров Халиско – Лупе впервые за все время улыбнулась, осушила его единым духом и, поглаживая запотевшую поверхность, пробормотала:
– Ах, хорошо!.. Землицей отдает!
И по тому, как выговорила она это уменьшительное «tierrita», Диего безошибочно узнал уроженку штата Халиско – одну из тех тапатиас, чью красоту превозносит народная песня:
Ай, как прелестны тапатиас,
когда купаются в лагуне!
– Однако я уплела целых два подноса! – продолжала Лупе, словно сама с собой разговаривая. – Рассказать, так не поверят! – И, обращаясь к Диего, доверительно призналась: – Понимаешь, вот уже два дня как у меня во рту ни крошки не было…
Диего не спрашивал – почему, поглощенный своим наброском. Женщина поднялась, обошла его, встала рядом, заглянула в альбом. Брови ее вскинулись.
– Будешь рисовать меня?
Диего кивнул. Покорно вздохнув, Лупе снова уселась па табурет, закинула ногу за ногу, обхватила колено переплетенными пальцами, слегка откинулась назад и полузакрыла глаза.
Уже стемнело, когда они покинули мастерскую. Диего вызвался проводить Лупе до площади Гарибальди, где остановилась она у дальних родственников, приехав из Гвадалахары. По дороге она рассказала ему, как с полгода тому назад посетивший Гвадалахару гость мексиканского правительства, величественный и сумасбродный дон Рамон дель Валье Инклан смутил ее покой своими удивительными рассказами, как потом, уже из Мехико, прислал он ей пылкое объяснение в любви, кончавшееся словами: «Отважишься ли ты, о Лупе, черным пламенем своих волос растопить снег моей бороды?! Скажи мне, скажи сама!»
Лупе читала и перечитывала письмо старого безумца до тех пор, пока не решилась поехать к нему в столицу. Сбежав из дому, она добралась до Мехико и только здесь узнала, что дон Рамон давно отплыл на родину. Воротиться к родителям она не смела и осталась без всяких средств к существованию. Кто знает, что с нею стало бы, если б не Конча Мишель, которая, познакомившись с Лупе на днях, пообещала помочь ей!
Назавтра она снова пришла в мастерскую. Диего начал писать с нее Песню – кстати, у Лупе оказался великолепный голос, и песен она знала множество. Через несколько дней, предложив ей позировать для фигуры, изображающей Силу, он заставил ее часами стоять, выпрямившись и положив на спинку стула обе руки, сжимающие воображаемый меч. Однако все это было еще не то, о чем неотступно мечтал он с первой встречи, как только понял: вот, наконец, модель, которую он искал!
И вскоре Лупе уже позировала ему обнаженной.
А еще через несколько дней Гваделупе Марин стала женой Диего Риверы.
Что ж, расчет Кончи Мишель полностью оправдался. На какое-то время для Диего перестали существовать и она и все вообще женщины, кроме единственной, заполнившей его жизнь. Чем неистовей обладал он ею, тем сильнее жаждал ее писать: обе страсти питали друг друга, сливаясь в одну ненасытную страсть. Юное, цветущее тело жены казалось Диего живым воплощением надолго потерянной родины, которую он теперь открывал и завоевывал вновь – главами, губами, руками.
Их брак отнюдь не был идиллическим. Любовь Диего пробудила в Лупе ответное чувство такой же силы, но ее первобытная необузданность держала его в постоянном напряжении. Никогда нельзя было знать, что она выкинет в следующий момент – разразится смехом или зальется слезами, назовет его гением или порвет в клочки непонравившийся рисунок. Малейший пустяк мог вывести ее из себя, и тут уж Лупе не знала удержу ни в словах, ни в поступках.
К тому же она оказалась невероятно ревнивой – ревновала Диего не только к другим женщинам, в особенности к тем, кто ему позировал, но и к самой работе, к друзьям… С первых дней совместной жизни начались ссоры, во время которых Лупе нередко бросалась на мужа с кулаками, пускала в ход ногти, вынуждая его, в свою очередь, действовать силой, что ей, по-видимому, даже нравилось – во всяком случае, подобные сцены почти всегда заканчивались объятиями.
Так или иначе, он был счастлив. Никогда еще не испытывал он такого упоения. Ни с одной женщиной не был в такой степени самим собой.
Работа над этюдом обнаженной женской фигуры подходила к концу. Сохраняя сходство с моделью, Диего утяжелял пропорции, преувеличивал и огрублял формы, превращая эту фигуру в олицетворение плотского начала, в монументальную человеческую самку. Разглядывая картон, Гваделупе пожимала плечами: разве у нее такие толстые ноги? Такой низкий лоб? А эти исполинские груди!..
Но Диего лишь усмехался и продолжал стоять на своем.