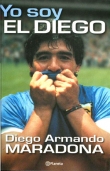Текст книги "Диего Ривера"
Автор книги: Лев Осповат
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Его утверждение легко оспорить. Понятие тождественности неприменимо к явлениям искусства, тем более принадлежащим к столь различным видам искусства. Тем не менее можно понять, почему Диего захотелось употребить именно это выражение, – только оно способно было передать, как изумило художника и впрямь разительное сходство творческой судьбы Маяковского с его собственной творческой судьбой. Каждый из них, пройдя школу новейших течений, увидел выход из тупика в служении народу, поднявшемуся на освободительную борьбу. Каждый пришел к коммунистическим убеждениям, движимый насущными потребностями своего искусст ва, – перефразируя Маяковского, Ривера мог бы сказать, что бросается в коммунизм «с небес живописи». И оба они, посвятив себя работе над произведениями, обращенными к массам и непосредственно участвующими в революционном преобразовании действительности, добились результатов, не просто похожих, но обнаруживающих коренное родство.
Сопоставляя поэму Маяковского со своей галереей росписей в Министерстве просвещения, Ривера имел возможность убедиться, что общность исходных принципов – дать развернутую панораму народного бытия; изображать жизнь в ее революционном развитии, рассматривая прошлое и настоящее в свете будущего; воплотить в наглядных образах теоретические положения марксизма – привела в обоих случаях к органическому сходству многих конкретных художественных решений, к внутренней близости, проявляющейся и в композиции, и в приемах типизации эпизодических персонажей, и в плакатном сочетании сатиры с патетикой… Кое-где их пути не только сблизились, но как бы и пересеклись: поэт заимствовал средства у живописи, художник вторгался на территорию поэзии. Повышенной изобразительности стиха Маяковского («Его поэтический язык включал в себя живопись», – отметил Диего) в чем-то соответствует подчеркнутая повествовательность фресок Риверы, не останавливавшегося перед прямым включением стихотворного текста в изображение.
Еще одна черта сходства должна была произвести на Диего особенное впечатление. Ко времени написания поэмы «Владимир Ильич Ленин» Маяковский успел отказаться от той намеренно обезличенной авторской позиции, которая характерна для «150 000 000». Теперь личность автора рассказчика и одновременно действующего лица – присутствует в его поэме от первой до последней строки. Его поэтическое «я» организует весь огромный материал, пропускает этот материал через себя. Эпос вырастает из лирики, лирика расширяется до эпоса.
Разумеется, применительно к живописи термин «лирика» еще больше нуждается в оговорках, чем термин «эпос». И все-таки сама собой возникает параллель между «лирическим эпосом» Маяковского и грандиозным фресковым комплексом Риверы, где «я» художника заявляет о себе с откровенностью, еще невиданной в монументальном искусстве. Уже замысел этого комплекса навлекал на автора обвинения в чрезмерной субъективности (сколько подобных обвинений довелось выслушать Маяковскому!) – ведь в отличие от мастеров Возрождения, которым античная или христианская мифология предоставляла необходимую канву, Диего, в сущности, сам создавал для себя канву, сам формулировал, прямо в пластических образах, никем еще до него не сформулированную марксистскую концепцию общественного развития Мексики, проделывая работу философа, историка и художника одновременно и оставаясь самим собой во всех трех ипостасях. И в том, как ведет он свое живописное повествование, постоянно чувствуется непокладистая индивидуальность художника, не желающего поступаться собственным мироощущением даже в тех случаях, когда оно оказывается в противоречии с сюжетом. Критики не раз отмечали: неистребимое, плотское, почти утробное жизнелюбие Риверы приводит к тому, что и в написанные им картины жестокого насилия, в сатирические его фрески вкрадывается местами оттенок чувственного наслаждения натурой, требующей совсем иного отношения. Наконец Диего не довольствуется ролью рассказчика, он делает себя действующим лицом эпопеи – и не просто одним из действующих лиц, но своего рода лирическим героем. Именно такое значение приобретает автопортрет, помещенный в центре росписи.
Художникам прошлого случалось изображать себя среди действующих лиц своих произведений, но они в это вкладывали куда более ограниченный смысл. Комментируя картину Веронезе «Брак в Кане», где между персонажами евангельской легенды представлен и сам автор, искусствовед Н. Дмитриева замечает: «Для Веронезе было более естественным усадить самого себя за евангельскую трапезу, чем изобразить свою собственную трапезу, без всякого евангельского маскарада». Когда же художники начали изображать себя без всякого мифологического маскарада, их картины покинул дух величественной монументальности, делавший каждое из действующих лиц сопричастным высоким и героическим событиям, но несовместимый с исповедальным самораскрытием личности.
Ривера, пожалуй, стал первым живописцем, который дерзнул совместить оба эти начала – монументальное и «лирическое». Ему не понадобилось прибегать ни к какой маскировке. Это была его трапеза, его жизнь, его революция, и он изобразил здесь себя как участника всенародной борьбы, как создателя росписей, развертывающихся перед зрителями, как художника, завоевавшего право делиться своими личными переживаниями с миллионной аудиторией.
Знакомство с поэзией Маяковского помогло Ривере лучше понять самого себя, увериться в правильности избранного пути. Его собственный во многом еще стихийный опыт, получая опору в опыте советского поэта, обнаруживал в глазах художника почти научную закономерность. Тем яростней накинулся он на работу, бормоча про себя: «Так держать!»
IIДом, где Ривера принимал Маяковского, стоял на улице Микскалько, в старом квартале, еще сохранившем колониальный облик: однообразные желто-розовые фасады, узкие зарешеченные окна, внутренние дворы – патио, заросшие тропической зеленью. Диего и Лупе обосновались здесь незадолго до рождения дочери, и мирные обыватели, из поколения в поколение населявшие этот квартал и знавшие друг друга в лицо, сразу же потеряли покой. Каждый вечер к дому Риверы, смеясь и болтая, шли сущие голодранцы вперемешку с разряженными дамами, длинноволосые юноши и стриженые женщины, каких почтенным старожилам Микскалько до сей поры случалось видеть, лишь заглянув ненароком в артистическое кафе. До поздней ночи изнутри доносились возбужденные голоса, залпы хохота, песни. Но ипосле того как гости, шумной толпой вывалившись на улицу, наконец-то удалялись, соседи не могли быть уверены, что им удастся спокойно проспать до утра. Нередко их снова будил звон разбитой посуды, истошный женский визг, и, накрывая голову подушкой, они стонали: «Проклятый художник!.. Опять он ссорится с женой!»
Что скрывать, семейная жизнь в этом доме не клеилась. Диего и став отцом, не отказался от своих привычек – уходил когда вздумается, мог, заработавшись, по суткам не вспоминать о семье и вдруг как ни в чем не бывало являлся с целой ватагой голодных приятелей, мечтающих воздать честь кулинарному искусству хозяйки. Если бы по крайней мере Лупе обладала более покладистым характером, ей, возможно, и удалось бы исподволь приручить мужа. Но по части упрямства и своенравия она могла потягаться с самим Диего и, не испытывая ни малейшего призвания к роли покорной и терпеливой супруги, закатывала ему сцены по всякому поводу, а иногда и без повода.
Из двадцати песо, которые получал Диего за день работы, шесть с половиной шли на оплату труда помощников, пять – на краски и другие материалы. Оставшихся денег хватало бы, чтобы свести концы с концами, если б не еще одна статья расхода, приводившая Лупе в особенную ярость. Давняя страсть художника к коллекционированию древнемексиканской керамики и скульптуры превратилась, как утверждала жена, в форменную манию. Тщетно кричала она, что в доме уже повернуться негде из-за этих идолов и черепков, тщетно призывала проклятия на голову индейцев, приносивших все новые находки, – при виде очередной фигурки Диего позабывал о клятвах, данных накануне, выгребал из шкатулки последнюю мелочь, да еще требовал, чтобы Лупе вместе с ним восхищалась потрясающей выразительностью какого-нибудь глиняного уродца.
Не однажды Лупе, взбесившись, хватала дочку я уезжала в Гвадалахару, к родителям. Оставшись один, Диего несколько дней блаженствовал, затем начинал томиться и вскоре, полный раскаяния, отправлялся за женой, успевавшей тем временем истосковаться по нему. Осыпая друг друга ласками, они возвращались домой – и все повторялось сызнова.
Между тем работа во втором дворе министерства шла полным ходом. Диего без колебаний приказал соскоблить фрески, выполненные здесь Жаном Шарлотом и Амадо де ла Куэвой, как не соответствующие его замыслу. Стены первого этажа он превратил в живописную энциклопедию народных празднеств, знакомых с детства, рожденных революцией, виденных в различных уголках страны. Он написал ритуальную пляску индейцев вокруг костра – танец Оленя и Охотника, олицетворяющий борьбу между жизнью и смертью. Изобразил День мертвых – в городе и в деревне. Весенний Праздник цветов. Сожжение картонных иуд в страстную субботу. Торжественный Праздник маиса, которым принято отмечать завершение жатвы. А в центре каждой из трех стен он поместил по большой композиции, занимавшей несколько соседних панелей и соединяющее их пространство над дверями: «Раздача земли крестьянам» (частично повторив здесь фреску в Сельскохозяйственной школе), «Деревенский рынок» и «Первомайский праздник трудящихся».
Два дня в неделю он проводил в Чапинго, где начал расписывать свод капеллы. Однако, принявшись за дело, Диего почувствовал, что общему, казалось бы, основательно продуманному плану росписей чего-то недостает. Инерция предыдущей работы не до конца была преодолена в этом замысле.
Вновь и вновь оглядывал он изнутри капеллу, напоминавшую ему церковь в Ассизи и подсказавшую такое же, как там, последовательное размещение эпизодов, связанных между собою. Только его героями станут не католические святые, а истинные мученики и страстотерпцы нашего времени – мексиканские крестьяне, возделывающие землю и сражающиеся за нее. Мысленно он уже видел фрески, которые напишет по обе стороны входа: слева – рабочие и крестьяне пробиваются навстречу друг другу, справа – зеленые полчища маиса встают из земли, где покоятся Эмилиано Сапата и его адъютант Монтес. Видел еще четыре фрески, следующие одна за другой по левой от входа стене: разгул озверелых угнетателей; толпа батраков, в которую агитатор бросает зерна бунта; скорбный реквием павшим борцам; праздничное зрелище освобожденной земли…
Нет, он не намерен от них отказываться, как не откажется и от мысли провести образную параллель между двумя великими циклами развития, сопоставив процесс социального возрождения с круговоротом вечно обновляющейся природы. Картине общественного хаоса, олицетворенного в фигурах свирепых надсмотрщиков, будет вторить расположенное напротив изображение диких, не укрощенных человеком природных сил. А дальше по правой стене, перекликаясь с противоположными сценами, разместятся фрески, в которых найдут воплощение три фазы растительной жизни – зарождение, цветение, плодоношение. Правда, стена эта не сплошная, в нескольких местах она прорезана круглыми оконными отверстиями, но с такими трудностями Диего давно научился справляться. Разве не сумел он сделать органической частью фресковой композиции даже распределительную коробку электросети, укрепленную на одной из панелей в Министерстве просвещения?
И все-таки неудовлетворенность не исчезает. Два противостоящих строя фресок не образуют единого целого, в самом их сопоставлении есть чрезмерная рациональность, к тому же все это никак пока что не связано с плафонами на потолке, которые рискуют остаться чисто декоративными. Недаром он до сих пор не решил, чем заполнить стену над входом и центральную, заалтарную стену в глубине капеллы. Здесь кажутся невозможными фрески, однотипные с теми, что будут расположены слева от входа, или же с теми, что будут расположены справа, – подобное решение, вместо того чтобы сгладить разрыв между двумя образными рядами, пожалуй, даже усугубит его. Здесь требуется нечто такое, что, не принадлежа целиком ни тому, ни другому образному ряду, могло бы объединить их в себе и, так сказать, привести их к общему знаменателю. Нужны всеохватывающие образы, в которых встретятся Природа и Человек… Н-да, черт возьми, тут нужны образы микеланджеловской силы!
Но великий флорентиец пользовался знакомым языком христианских символов, рождавших у любого зрителя с детства знакомые, привычные представления. А Ривере приходилось самому создавать символический язык для своих росписей, ломая голову над тем, чтобы сделать его таким же общедоступным. В поисках материала для этого языка он обращался к различным источникам – использовал пролетарскую символику (пятиконечная звезда, серп и молот на своде капеллы), снова переосмысливал в революционном духе евангельские сцены распятия и оплакивания (росписи на левой стене) и с неослабевающим рвением изучал – пока более изучал, чем заимствовал, – опыт пластического искусства доиспанской эпохи. По многу часов проводил он в музеях и окружении своей домашней коллекции, не уставая дивиться тому, как умели древние мастера, не жертвуя жизненной достоверностью изображения, воплощать в нем свои представления о мире, возводя вполне реалистические фигуры в степень символа. Вот так бы и ему!
IIIНеожиданное событие ненадолго нарушило привычный ход его жизни. Еще весной 1925 года Диего послал на Панамериканскую художественную выставку в Лос-Анджелесе картину «Праздник цветов» – одну из первых станковых картин, которые стал он писать в стиле собственной монументальной живописи. В августе агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что первая премия Панамериканской выставки – пять тысяч долларов – присуждена Диего Ривере. Еще через несколько дней Диего получил известие, что «Праздник цветов» куплен каким-то миллионером за полторы тысячи долларов. Такого успеха не добивался еще ни один мексиканский художник, и не удивительно, что столичная пресса, весьма чувствительная к заграничному признанию, затрубила о выдающейся национальной победе. «Наш высокочтимый, хотя и несколько спорный, живописец…» – расшаркивались те же газеты, что каких-нибудь полгода назад изощрялись в насмешках. Всего убедительней были заказы, посыпавшиеся на Диего с разных сторон: «новые богачи» наперебой стремились украсить свои гостиные картинами панамериканского лауреата.
Шесть с половиной тысяч долларов! Отродясь Диего не держал в руках такой суммы. Правда, значительную часть он тут же передал в распоряжение компартии, а часть израсходовал на краски, запасшись ими на год вперед. Но и того, что осталось, было достаточно, чтобы расплатиться с кредиторами, задать грандиозное пиршество друзьям, разделившим его триумф, и пройтись конкистадором по ювелирным магазинам, покупая все кольца, браслеты и серьги, по которым Лупе – великая охотница до украшений – могла до сих пор лишь вздыхать.
Лупе была на седьмом небе. Для полного счастья ей недоставало единственного – заполучить Диего хотя бы на время для себя одной. Что ж, он и в этом пошел ей навстречу – имел же он право и отдохнуть в конце концов! Опустели леса в Чапинго и в здании министерства, помощники разбрелись по пулькериям, прославляя щедрость мастера, а в доме на Микскалько будто вновь воцарился медовый месяц. По целым дням не выглядывая на улицу, Диего предавался любви и праздности, а Лупе то наряжалась, то расхаживала по комнатам во всем победительном блеске своей наготы и наслаждалась наконец-то обретенной властью над мужем.
Но, видно, он был неисправим, потому что как раз в одну из блаженнейших минут, любуясь роскошным телом жены, разметавшейся на постели, Диего вдруг отчетливо представил себе это тело написанным на той самой, дразнившей его своей пустотой стене над входом в актовый зал.
Да вот же он – всеохватывающий образ, призванный стать средоточием композиции! Вот лучшее олицетворение Земли, которую человек, порожденный ею, завоевывает, за которую борется, которую оплодотворяет своим трудом… Возлюбленная и мать, совершеннейшее из земных созданий – кто, как не она, наглядно воплощает в себе неразрывную связь времен, единство природного и общественного начал? И не какая-то «женщина вообще», не условно-аллегорическая Женщина, нет, именно эта, такая, какая есть, смуглая, взбалмошная, бесконечно желанная… Только через нее сумеет он полностью слить свое «я» с целым миром образов, который распространится во все стороны от мощной женской фигуры по стенам и своду капеллы. Только так этот мир окончательно станет его собственным миром.
Довольно бездельничать! Он кинулся за бумагой и карандашами, заставил жену позировать, наскоро объяснив ей свою идею, и та подчинилась, раздосадованная, но и польщенная. Часа через два был готов набросок фрески «Девственная Земля», во всю длину которой, бережно прикрывая ладонью зеленый росток, раскинется обнаженная Лупе с лицом, полускрытым прядями черных волос. А по соседству с этой фреской, в верхней части левой стены, Диего замыслил написать еще одну – «Порабощенная Земля». Там он изобразит Лупе в виде прекрасной невольницы, вокруг которой, словно лилипуты вокруг Гулливера, копошатся омерзительные карлики – толстобрюхий Капитализм, лицемерный Клерикализм в поповской сутане и Милитаризм в каске, в противогазе, обвешанный оружием с ног до головы.
IVПромелькнула осень, за ней зима. Теперь Диего оставался в Чапинго по нескольку дней кряду, ночуя тут же, в капелле, а воротившись в столицу, прямо с поезда спешил на улицу Аргентины, во Двор Празднеств, где принялся уже за росписи третьего этажа. Он постоянно недосыпал, питался всухомятку, чем изрядно расстроил себе желудок, – разъяренная Лупе больше не носила ему обедов, – однако не чувствовал усталости. Во фресках, которые он писал теперь в здании министерства, важнейшая роль принадлежала текстам революционных песен.
В сущности, Песня и была главным действующим лицом в этой части росписей, а картинам лишь предстояло ее иллюстрировать.
По крайней мере никто ему не мешал! Не только газеты оставили Диего в покое, но и сеньор министр (о директоре Школы земледелия и говорить нечего – тот с восхищением относился ко всему, что делал художник) словно задался целью удивить его полнейшей терпимостью. Отчасти Ривера был этим обязан своей упрочившейся репутации, отчасти – покровительству высокопоставленных друзей, в основном же – политической обстановке в стране, складывавшейся как нельзя более благоприятно для его планов.
С конца 1925 года правительство Кальеса оказалось перед лицом растущей угрозы справа – как извне, со стороны североамериканских нефтяных магнатов, не намеренных мириться с ущемлением их интересов, так и в самой Мексике, где духовенство отказалось признавать антиклерикальные статьи конституции. Пресса Соединенных Штатов развернула трескучую кампанию, доходившую до прямых призывов к вооруженному вмешательству. В разгар этой кампании, мексиканское духовенство фактически объявило войну правительству. Священники покинули церкви, и 1 августа 1926 года в Мексике, впервые лет за четыреста, прекратились богослужения. Так называемая Лига защитников религиозной свободы обратилась к населению с программой экономического бойкота, который должен был полностью парализовать жизнь страны и тем заставить Кальеса капитулировать.
Однако молодая мексиканская буржуазия не собиралась сдаваться. Решительно отвергнув домогательства американских дипломатов, Кальес обрушил репрессии на непокорных церковников. Прожженный политик и опытный демагог, он превосходно понимал, что сумеет выстоять лишь с помощью широких масс, и не замедлил апеллировать к ним. Снова пошли в ход антиимпериалистические лозунги и клятвы в верности красному знамени, снова правительство призывало народ подняться на защиту конституционных завоеваний. В числе завоеваний упоминалась, разумеется, и культура, рожденная революцией, – и кто из чиновников посмел бы в такой момент чинить препятствия революционным художникам! Наоборот: в них нуждались, им советовали забыть о досадных недоразумениях, имевших место в прошлом… Не случайно именно в эти месяцы Хосе Клементе Ороско был вновь привлечен к росписям в Подготовительной школе и, вернувшись во внутренний двор Препаратории, принялся яростно наверстывать упущенное время.
(Впрочем, упущенное ли? Около года Ороско провел в Орисабе, где расписывал стену в Промышленной школе, и первые же фрески, выполненные им по возвращении, свидетельствовали о возросшей мощи художника. Его крестьяне, пролетарии, солдатские жены, не уступая в монументальности персонажам риверовских росписей, были более драматичны и, пожалуй, более выразительны. Хосе Клементе не захотел встречаться с Диего, но тот не страдал излишней щепетильностью – он сам заявился во двор Подготовительной школы. Словно не замечая презрительной холодности коллеги, он разглядывал фрески с таким откровенным удовольствием, что даже Ороско на миг почувствовал себя обезоруженным.)
Параллельная работа над росписями в двух местах, партийные и общественные обязанности (в мае 1926 года он снова был избран членом Центрального Комитета, а вскоре возглавил Антиимпериалистическую лигу Америки) не оставляли Диего ни минуты свободной. А ему все было мало. Проходя по площади Сокало мимо здания Национального дворца, окруженного строительными лесами, – там надстраивали третий этаж, – он всякий раз мысленно возвращался к заветной идее, уже не казавшейся ему такой дерзкой, как четыре года назад. В карманном альбоме, который он постоянно таскал с собой, давно были зарисованы форма и расположение стен, обступающих парадную лестницу Национального дворца, обозначены их приблизительные размеры.
Да ему и не требовалось заглядывать в альбом. Перед глазами стояла гигантская опрокинутая трапеция центральной стены против входа, окаймленная по бокам лестничными маршами. Наверху стена врезается в свод пятью полукружиями, заключенными в арки. Не хотелось и думать о том, чтобы дробить на отдельные фрески эту великолепную единую плоскость общей площадью без малого в полтораста квадратных метров. Будь она доступна обозрению издали, Диего покрыл бы ее исполинскими фигурами, в сравнении с которыми даже могучие тела на стенах капеллы в Чапинго покажутся небольшими. Но ведь здесь, в ограниченном пространстве лестничной клетки, ее будут рассматривать на близком расстоянии, все укорачивающемся по мере того, как зритель поднимается по ступеням. Что же останется от грандиозных фигур, когда зритель подойдет к ним почти вплотную?
Значит, нужно брать не размерами, а количеством! Пусть заполнят стену десятки, сотни фигур, образующих в совокупности коллективный портрет нации, – причем если каждая из них будет обладать собственной индивидуальностью, то и любое место фрески представит самостоятельный интерес. Сама судьба предлагает Диего возможность выпустить, наконец, на свободу легион образов, переполняющих его. Весь мексиканский народ, идущий через века навстречу будущему, должен стать героем росписей в Национальном дворце.
Однако не слишком ли он увлекся? Пока что судьба отнюдь не предлагает Диего этого – она лишь дразнит его. Как-то директор Школы земледелия Марте Гомес уговорил его съездить на несколько дней – проветриться и отдохнуть – в штат Тамаулипас, губернатор которого Эмилио Портес Хиль был старым другом Марте. Тридцатипятилетний губернатор, деловитый и подвижный, несмотря на заметное брюшко, принял их как почетных гостей: возил по штату, показывал сельскохозяйственные кооперативы, процветавшие под его покровительством, вел задушевные беседы. Оказалось, что дон Эмилио – поклонник Риверы и ставит его росписи значительно выше фресок Сикейроса и Ороско.
– И тот и другой – разрушители, – отмахивался он от вялых возражений Диего, – а вы, дружище, никакой не разрушитель, даже если воображаете себя им: для этого вы слишком жизнелюбивы. Будь я на месте Кальеса, я не колебался бы, кому поручить расписывать Национальный дворец…
– А что, существует разве такой проект? – спросил Диего внезапно охрипшим голосом.
– Будто вы не знаете? – Портес Хиль прищурился, покосился на приятеля, комически развел руками. – К сожалению, я не президент, а всего лишь губернатор!..
Тем временем Лупе снова готовилась стать матерью, и это обстоятельство отнюдь не улучшило ее характера, тем более что и в поведении мужа не наблюдалось перемен к лучшему. В особенности была она уязвлена тем, что, работая в Чапинго, Диего прибегал теперь к услугам других натурщиц, в частности, красавицы итальянки Тины Модотти. Об отношениях между художником и его моделью ходило много сплетен. Не вытерпев, Лупе заявилась однажды в Чапинго и ворвалась в капеллу, где как раз в это время Тина позировала Ривере для одной из обнаженных женских фигур правой стены. От перепалки, разгоревшейся между женщинами, едва не задрожали старинные своды. Наконец итальянка величественно удалилась, а Лупе, оставшись наедине с мужем, дала волю слезам.
– Конечно, – всхлипывала она, немилосердно хлопая себя по округлившемуся животу, – такая я тебе не нужна…
– Замолчи! – заорал Диего, грубо привлекая ее к себе. – Такая именно ты мне и нужна! А ну, раздевайся! Прогнала натурщицу, так изволь сама позировать!
И, не без труда сломив сопротивление жены, принялся за рисунок давно уж задуманной колоссальной фигуры, венчающей его живописную поэму о земле. На центральной стене в глубине капеллы он напишет аллегорическую картину – апофеоз грядущего, когда раскрепощенная природа принесет себя в дар свободному человечеству. А над всем этим, олицетворяя собою Плодоносящую Землю, будет возлежать нагая чернокудрая женщина с округлившимся животом, с набухшими грудями, обратившая к зрителям приветственный жест поднятой руки и невидящий взгляд прозрачных светло-зеленых глаз.