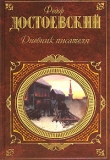Текст книги "Том 16. Избранные публицистические статьи"
Автор книги: Лев Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
Вся беда как в университетском деле, так и общем деле образования происходит преимущественно от людей, не рассуждающих, но покоряющихся идеям века и потому полагающих, что можно служить двум господам вместе. Это те самые люди, которые на мысли, выраженные мною в «Ясной Поляне», отвечают так: «Правда, уж прошло время бить детей за ученье и наизусть долбить, все это очень справедливо, но согласитесь, что без розги иногда невозможно, и что надо иногда заставлять учить наизусть. Вы правы, но зачем крайности и т. д. и т. д.»
Кажется, как мило рассуждают эти люди, а они-то и стали враги правды и свободы. Они затем только будто бы соглашаются с вами, чтобы, овладев вашей мыслью, изменять и подрезывать и подстригать ее по-своему. Они вовсе не согласны с тем, что свобода необходима; они только говорят это потому, что боятся не преклониться перед кумиром нашего века. Они только, как чиновники, в глаза хвалят губернатора, в руках которого власть. Во сколько тысяч раз я предпочитаю моего приятеля попа, который прямо говорит, что рассуждать нечего, когда люди могут умереть несчастными, не узнав закона божия, и потому, какими бы то ни было средствами, необходимо выучить ребенка закону божию, – спасти его. Он говорит, что принуждение необходимо, что ученье – ученье, а не веселье. С ним можно рассуждать, а с господами, служащими деспотизму и свободе, нельзя. Эти-то господа порождают то особенное положение университетов, в котором мы теперь находимся и в котором необходимо какое-то особенное искусство дипломатии, в котором, по выражению Фигаро*, неизвестно, кто кого обманывает: ученики обманывают родителей и наставников, наставники обманывают родителей, учеников и правительство и т. д. во всех возможных перемещениях и сочетаниях. И нам говорят, что это так и должно быть; нам говорят: вы, непосвященные, не суйте носа в наше дело, тут нужно особенное искусство и особенные знания, – это историческое развитие. А кажется, как дело просто: одни хотят учить, другие хотят учиться. Пускай учат, насколько умеют, пускай учатся, насколько хотят.
Я помню, во время самого разгара дела костомаровского проекта университетов я защищал проект перед одним профессором.* С какой неподражаемой глубокомысленной серьезностью, почти шепотом, внушительно, конфиденциально сказал мне профессор: «Да знаете ли вы, что такое этот проект? Это не проект нового университета, а это проект уничтожения университетов», – сказал он, с ужасом вглядываясь в меня. – «Да что же? – это было бы очень хорошо, – отвечал я, – потому что университеты дурны». – Профессор не стал более рассуждать со мною, хотя был не в силах доказать мне, что университеты хороши, так же как и никто не в силах доказать этого.
Все люди – все человеки, даже профессора. Ни один работник не скажет, что нужно уничтожить ту фабрику, на которой он находит кусок хлеба, и не потому, чтобы он это рассчитывал, а бессознательно. Те господа, которые хлопочут о большей свободе университетов, похожи на человека, который, выводя в комнате молодых соловьев и убедившись в том, что соловьям нужна свобода, выпустил бы их из клетки и старался на бечевке дать им свободу, а потом удивлялся бы, что соловьи не выводят и на бечевках, привязанных им за ноги, и что только повывихали себе ноги и подохли.
Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребности народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остается неизвестною. Но университеты были учреждены для потребностей отчасти правительства, отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся подготавливающая к ним лестница учебных заведений, не имеющая ничего общего с потребностью народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы, учителя, – для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего общества нужны либералы по известному образцу, – и таковых приготавливают университеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу.
Обыкновенно говорят, что недостатки университетов происходят от недостатков низших заведений. Я утверждаю наоборот: недостатки народных, особенно уездных училищ происходят преимущественно от ложности требования университетов.
Посмотрим теперь на практику университетов. Из 50 студентов, составляющих аудиторию, десять человек на первых двух лавках имеют тетрадки и записывают; из этих десяти шесть записывают для того, чтобы понравиться профессору, из выработанного школой и гимназией прислужничества, еще четверо записывают с искренним желанием записывать весь курс, но на четвертой лекции бросают, и много-много, что двое или трое из них, т. е. 1/15 или 1/20 курса составит лекции. Весьма трудно не пропустить ни одной лекции. В математическом предмете, да и во всяком другом, пропущена одна лекция – и связь потеряна. Студент справляется с руководством, и ему естественно приходит простая мысль – не нести бесполезную работу записывания лекций, когда то же самое можно сделать по руководству или чужим запискам. В математическом и всяком другом предмете, что должен знать каждый учитель, постоянно следить за выводами и доказательствами учителя не в состоянии ни один ученик, как бы учитель ни старался быть подробен, ясен и увлекателен. Очень часто с учеником случается минута затмения или развлечения, ему нужно спросить: как, почему, что было прежде; связь потеряна, а профессор идет дальше. Главная забота студентов (и я теперь говорю только о самых лучших) – достать записки или руководство, по которым можно будет приготовиться к экзамену. Большинство ходит на лекции или потому, что нечего делать и еще внове не наскучило, или чтобы доставить удовольствие профессору, или, в редких случаях, из моды, когда один из ста профессоров сделался популярен и посещать его лекции сделалось умственным щегольством между студентами. Почти всегда, с точки зрения студентов, лекции составляют пустую формальность, необходимую только в виду экзамена. Большинство в продолжение курса не занимается своими предметами, а посторонними, программа которых определяется кружком, в который попадают студенты. На лекции смотрят обыкновенно так же, как солдаты смотрят на учение; на экзамен так же, как на смотр, как на скучную необходимость. Программа, составляемая кружком, в последнее время мало разнообразна; большею частью она состоит в следующем: чтение и повторение чтений старых статей Белинского и новых статей Чернышевских, Антоновичей, Писаревых и т. п.; кроме того, чтение новых книг, имеющих блестящий успех в Европе, без всякой связи и отношения к предметам, которыми занимаются: Льюис, Бокль и т. п. Главное же занятие – чтение запрещенных книг и переписывание их: Фейербах, Молешот, Бюхнер и в особенности Герцен и Огарев. Переписывается все не по достоинству, но по степени запрещения. Я видал у студентов кипы переписанных книг, без сравнения большие, чем бы был весь курс четырехлетнего преподавания, и в числе этих тетрадей толстые тетради самых отвратительных стихотворений Пушкина и самых бездарных и бесцветных стихотворений Рылеева. Еще занятие составляют собрания и беседы о самых разнородных и важных предметах, например: о восстановлении независимости Малороссии, о распространении грамотности между народом, о сыгрании сообща какой-нибудь штуки над профессором или инспектором, которая называется требованием объяснений, о соединении двух кружков – аристократического и плебейского и т. п. Все это иногда бывает смешно, но часто мило, трогательно и поэтично, какою часто бывает праздная молодежь. Но дело в том, что в эти занятия погружен молодой человек, сын мелкопоместного дворянина или 3-й гильдии купца, которых отцы отдали в надежде сделать из них себе помощников, одному – помочь сделать свое маленькое именьице производительным, другому – помочь повести правильнее и выгоднее торговлю. Мнение о профессорах в этих кружках существует следующее: один совершенно глуп, говорят про профессора, хотя и труженик, другой отстал от науки, хотя и был способен, третий нечист на руку и выводит только тех, кто исполняет такие-то его требования, четвертый – посмешище рода человеческого, тридцать лет сряду читающий безобразным языком написанные свои записки, – и счастлив тот университет, в котором на 50 профессоров есть хоть один уважаемый и любимый студентами.
Прежде, когда были переводные экзамены, каждый год происходило хоть не изучение предмета, но ежегодное выдалбливание записок перед экзаменом. Теперь такое выдалбливание происходит два раза: при переходе из второго курса в третий и перед выпуском. Тот самый жребий, который прежде кидался четыре раза в продолжение всего курса, теперь кидается два раза.
Как скоро существуют экзамены с их настоящим устройством, переводные или выпускные – это все равно, непременно должно существовать и бессмысленное долбление, и лотерея, и личное расположение, и произвол профессора, и обман студентов. Не знаю, как испытывали это устроители университетов с их экзаменами, но как мне показывает здравый смысл, как я не раз испытывал это и как соглашались со мной многие и многие, – экзамены не могут служить мерилом знаний, а служат только поприщем для грубого произвола профессоров и для грубого обмана со стороны студентов. Я держал три экзамена в моей жизни: первый год я был не перепущен из первого на второй курс профессором русской истории, поссорившимся перед тем с моими домашними, несмотря на то, что я не пропустил ни одной лекции и знал русскую историю; кроме того, за единицу в немецком языке, поставленную тем же профессором, несмотря на то, что я знал немецкий язык несравненно лучше всех студентов нашего курса. В следующем году я из русской истории получил 5, потому что, поспорив с студентом-товарищем, у кого лучше память, мы выучили по одному вопросу наизусть, и мне достался на экзамене тот самый вопрос, который я выучил, как теперь помню – биография Мазепы. Это было в 46 году. В 48 году я держал экзамен на кандидата в петербургском университете и буквально ничего не знал и буквально начал готовиться за неделю до экзамена. Я не спал ночи и получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного права, готовясь из каждого предмета не более недели. В нынешнем, 62 году, я знал студентов, кончающих курс и начинающих готовиться к предмету за неделю перед экзаменом. В нынешнем же году я знаю, что четверокурсники подделывали билеты; знаю, что один профессор поставил студенту 3, а не 5 за то, что студент позволил себе улыбнуться. Профессор заметил ему: «Нам можно улыбаться, а вам нельзя», и поставил 3.
Надеюсь, что никто не примет приведенные случаи за исключение. Всякий, знающий университеты, знает, что приведенные случаи составляют правило, а не исключение, что иначе быть не может. Если же кто сомневается, то мы можем привести миллионы случаев. Найдутся изобличители и с подписью фамилий по министерству, народного просвещения, как нашлись по министерству внутренних дел и юстиции. Что было в 48-м, то и в 62-м, то будет и в 72-м, пока организация останется та же. Уничтожение мундиров и переводных экзаменов ни на волос не помогает делу свободы; это новые заплаты на старые платья, только разрушающие старое платье. Вино новое не вливают в мехи старые. Я льщу себя надеждой, что даже защитники университетов скажут: «Да, это правда, или правда отчасти. Но вы забываете, что есть студенты, с любовью следящие за лекциями, и для которых вовсе не нужны экзамены, и главное – вы забываете образовательное влияние университетов». Нет, я не забываю ни того, ни другого; о первых – о студентах самостоятельно работающих – скажу, что для них не нужны университеты с их организацией, им нужны только пособия – библиотека, не лекции, которые бы они могли слушать, а беседы с руководителями. Но и для этого меньшинства едва ли дадут университеты знания, соответственные их среде, если только они не хотят быть литераторами или профессорами. Главное же, и это меньшинство подпадет тому влиянию, которое называется образовательным и которое я называю развращающим влиянием университетов. Второе же возражение – об образовательном влиянии университетов – принадлежит к числу тех, которые основаны на вере и прежде всего должны быть доказаны. Кто и чем доказал, что университеты имеют это образовательное влияние, откуда вытекает это таинственное образовательное влияние? Общения с профессорами нет, – нет вытекающих из него доверия и любви, есть, в большинстве случаев, боязнь и недоверие. Нового, чего-нибудь такого, чего не могут узнать из книг студенты, они не узнают от профессоров. Образовательное влияние лежит, стало быть, в сообществе молодых людей, занятых одним и тем же? Без сомнения; но заняты они большею частью не наукой, как вы думаете, а приготовлением к экзаменам, обманом профессоров, либеральничанием и всем тем, что вселяется обыкновенно в людей, оторванных от среды, семьи и искусственно соединенных вместе посредством духа товарищества, возведенного в принцип и Доведенного до самодовольства, до самохвальства. Я не говорю об исключении – о студентах, живущих в семьях, – они менее подчиняются образовательному, т. е. развращающему влиянию студенчества; не говорю и о тех редких исключениях, преданных смолоду науке людях, которые за постоянным трудом тоже не вполне подчиняются этому влиянию. И в самом деле, люди готовятся для жизни, для труда; каждый труд требует, кроме привычки к нему, порядка, правильности и главное – уменья жить и обращаться с людьми. Посмотрите, как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргизца-скотовода быть скотоводом; он смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, работая, и учится обеспеченный с материальной стороны жизни, т. е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и помещением, – и посмотрите на студента, оторванного от дома, от семьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его молодости, без средств к жизни (потому что средства рассчитываются родителями только на необходимое, а все уходят на увлечение), в кругу товарищей, своим обществом только усиливающих его недостатки, без руководителей, без цели, отстав от старого и не пристав к новому. Вот положение студента за малыми исключениями. Из них выходит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостью и не находящие себе места в жизни, так называемые люди университетского образования, развитые, т. е. раздраженные, больные либералы. Университет есть первое и главное наше воспитательное заведение. Он первый присваивает себе право воспитания и первый по результатам, которых достигает, доказывает незаконность и невозможность воспитания. Только с точки зрения общественной можно оправдывать плоды университета. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу.
Курс кончен. Я предполагаю своего воображаемого воспитанника одним из лучших воспитанников во всех отношениях. Он приезжает в семью; ему все чужие – и отец, и мать, и родные. Он не верит их верою, он не желает их желаниями, он молится не их богу, а другим кумирам. Отец и мать обмануты, и сын часто желает с ними слиться в одну семью, но уже не может. То, что я говорю, не есть фраза, не есть фантазия. Я знаю очень многих студентов, вернувшихся в свою семью, которые часто оскорбляли верования своих родных, которые почти во всех убеждениях – о браке, о чести, о торговле – расходились с своей семьею. Но дело сделано, и родители утешают себя мыслью, что такой век нынче, и что нынешнее образование таково; что не в их среде, но по крайней мере сам по себе их сын сделает себе карьеру, найдет свои средства существовать и даже помогать им и по-своему будет счастлив. К несчастию, в 9 случаях из 10 и тут родители ошибаются. Кончивши курс, студент не знает, куда преклонить голову. Странное дело: те сведения, которые он приобрел, никому не нужны, никто за них ничего не дает. Единственное приложение их – в литературе и в педагогике, т. е. в науке образовать опять таких же ненужных людей. Странное дело! Образование редко в России, следовательно, оно должно бы было быть дорого, высоко ценимо. А на деле выходит наоборот. Машинисты нам нужны, у нас их мало, и машинистов выписывают из всей Европы и платят им дорого; отчего же образованные университетски (образованных людей у нас мало) говорят, что они нужны, а мы не только ими не дорожим, но им деваться некуда? Отчего человек, кончивший курс у плотника, каменщика в штукатура, получает сейчас и везде 15–17 р., если он работник, и в месяц 25, если он мастер, рядчик, – а студент рад, если он получит десять? (Я исключаю литературу и чиновничество, а говорю о том, что может получить студент в практической деятельности.) Отчего помещики, оставшиеся теперь при землях, которые надо сделать производительными, платят 300–500 р. мужикам-бурмистрам, а не платят и 200 р. студентам камералистам* и естественникам? Отчего на железных дорогах рядчики-мужики заведывают тысячами рабочих, а не студенты? Отчего, если студент и получает место с хорошим жалованием, то получает его не за знания, приобретенные в университете, а за знания, приобретенные после? Отчего юристы-студенты делаются офицерами, а математики и естественники чиновниками? Отчего хлебопашец, проживя год в довольстве, приносит домой 50–60 р., а студент, проживя год, оставляет 100 р. долгу? Отчего народ платит народному учителю 8, 9, 10 р. в месяц, все равно – будет ли он из дьячков или студентов? Отчего купец не берет в приказчики, не женит на своей дочери и не принимает в дом студента, а мальчика из крестьян? Оттого, скажут мне, что общество не умеет еще ценить образования; оттого, что студент-учитель не станет бить детей, студент-управляющий не станет обманывать рабочих, закабалять их задатками, студент-купец не станет обмеривать и обвешивать; оттого, что плоды образования не так ощутительны, как плоды рутины и невежества. Это очень может быть, отвечу я, хотя наблюдения показывают мне противное. Студент или вовсе не умеет вести дело, ни честно, ни бесчестно, или если умеет, то ведет дело только сообразно с своей природой, с тем общим строем нравственных привычек, который выработала в нем жизнь независимо от школы. Я знаю одинаковое число честных студентов и не студентов и наоборот. Но положим даже, что университетское образование развивает чувство справедливости в человеке, и что вследствие этого необразованные люди предпочитают студентам необразованных же людей и ценят их выше студентов. Положим, что это так; почему же мы, так называемые образованные люди и имеющие средства дворяне, литераторы, профессора, не можем никуда употребить студентов, кроме как на службу? Я не говорю о службе на том основании, что служебное вознаграждение не может быть принято мерилом заслуг и знаний. Каждому известно, что студент, отставной офицер, промотавшийся помещик, иностранец и др., как только им почему-нибудь нужно приобрести средства к жизни, едут в столицу и, по мере связей и степени требований, получают место в администрации или если не получают, то считают себя оскорбленными. Я потому не говорю о вознаграждении служебном; но спрашиваю, почему тот же самый профессор, который давал образование студентам, дает 15 р. в месяц дворнику или 20 р. плотнику, а пришедшему к нему студенту говорит, что он очень жалеет, что не может ему дать места, кроме похлопотать у чиновников, или предлагает ему 10 р. за место переписчика или корректора по издаваемому сочинению, предлагает ему такое место, в котором приложимы только знания, вынесенные из уездного училища, – уменье писать. Мест же, где бы была приложима история римского права, греческая литература и интегральное счисление, – нет и не может быть.
И так, в большей части случаев, вернувшийся к отцу сын из университета не оправдывает надежд родителей и, чтобы не стать бременем для семейства, должен занять место, в котором нужно только уметь писать и в котором он становится в конкуренцию со всеми русскими грамотными. Одним преимуществом остается чин, но только для службы, в которой большее значение имеют связи и другие условия; другим преимуществом является либерализм, ни к чему не приложимый. Мне кажется, что пропорция людей из университета, занимающих вне службы места с хорошим вознаграждением, будет необычайно мала. Верные статистические сведения о деятельности вышедших студентов были бы важным материалом для науки об образовании и, я убежден, доказали бы математически ту истину, которую я стараюсь выяснить только по предположениям и по имеющимся данным, – истину, что люди университетского образования мало нужны и направляют свою деятельность преимущественно на литературу и педагогику, т. е. на повторение того же вечного круга образования таких же ненужных для жизни людей.
Но я не предвидел одного возражения, или, скорее, источника возражений, естественно представляющегося у большинства моих читателей: почему то же самое высшее образование, которое оказывается столь плодотворным в Европе, было бы неприложимо у нас? Европейские общества образованнее русского общества, почему и русскому обществу не идти тем же путем, которым шли европейские народы? Возражение это было бы неопровержимо, если бы было доказано, во-первых, что тот путь, по которому шли европейские народы, есть наилучший путь, во-вторых, что все человечество идет одинаковым путем, и в-третьих, что образование наше прививается народу. Весь восток образовывался и образовывается совершенно иными путями, чем европейское человечество. Если бы было доказано, что молодое животное, волк или собака, воспитаны мясом и доведены этим путем до полного развития, разве я имел бы право заключить, что, воспитывая молодую лошадь или зайца, я не могу их довести до полного развития иначе, как посредством мяса? Разве из этих противоположных опытов я бы мог заключить, наконец, что, воспитывая молодого медведя, ему необходимо либо мясо, либо овес? Опыт бы показал мне, что для него необходимо и то, и другое. Если мне и кажется, что естественнее образование мяса посредством мяса, и если прежние опыты подтверждают мое предположение, я не могу продолжать давать мясо жеребенку, если он всякий раз выбрасывает его, и организм его не ассимилирует эту пищу. Точно то же происходит с европейским, как по форме, так и по содержанию, образованием, которое перенесено на нашу почву. Организм русского народа не ассимилирует его, а вместе с тем должна быть другая пища, поддерживающая его организм, ибо он живет. Эта пища кажется нам не пищей, как трава для хищного животного, а между тем исторически-физиологический процесс совершается, и эта не признаваемая нами пища ассимилируется организмом народа, и огромное животное крепнет и вырастает.
Резюмируя все сказанное выше, мы приходим к следующим положениям:
1) Образование и воспитание суть два различные понятия.
2) Образование – свободно и потому законно и справедливо; воспитание – насильственно и потому незаконно и несправедливо, – не может быть оправдываемо разумом и потому не может быть предметом педагогики.
3) Воспитание, как явление, имеет свое начало: а) в семье, b) в вере, с) в правительстве, d) в обществе.
4) Семейные, религиозные и правительственные основания воспитания естественны и имеют за себя оправдание необходимости; общественное же воспитание не имеет оснований, кроме гордости человеческого разума, и потому приносит самые вредные плоды, – каковы университеты и университетское образование.
Только теперь, разъяснив отчасти наш взгляд на образование и воспитание и определив границы того и другого, мы можем ответить на вопросы, становимые г. Глебовым в журнале «Воспитание» (1862 г., № 5), вопросы первые естественно представляющиеся при серьезном вникновении в дело образования:
1) Чем должна быть школа, если она не должна вмешиваться в дело воспитания?
2) Что значит невмешательство школы в дело воспитания?
и 3) Возможно ли отделять воспитание от ученья, особенно первоначального, когда воспитательный элемент вносится в молодые умы даже и в высших школах?
(Мы уже объяснили, что форма высших учебных заведений, в которых вносится воспитательный элемент, нисколько не служит для нас образцом. Мы отрицаем порядок высших учебных заведений не только так же, как и низших, но видим в них начало всего зла.)
Чтобы ответить на постановленные вопросы, мы только перестановим их: 1) что значит невмешательство школы в воспитание? 2) возможно ли такое невмешательство? и 3) чем, при невмешательстве в воспитание, должна быть школа?
Во избежание недоразумений, я должен прежде объяснить, что я разумею под словом школа, которое я в том же смысле употреблял в первой статье 1 № журнала «Ясная Поляна». Под словом школа я разумею не дом, в котором учатся, не учителей, не учеников, не известное направление учения, но под словом школа я разумею, в самом общем смысле, сознательную деятельность образовывающего на образовывающихся, то есть одну часть образования, все равно как бы ни выражалась эта деятельность: учение артикулу рекрутов есть школа, чтение публичных лекций – школа, чтение курса в магометанском училище – школа, собрание музеума и открытие его для желающих – также школа.
Отвечаю на первый вопрос. Невмешательство школы в дело образования значит невмешательство школы в образование (формирование) верований, убеждений и характера образовывающегося. Достигается же это невмешательство предоставлением образовывающемуся полной свободы воспринимать то учение, которое согласно с его требованием, которое он хочет, и воспринимать настолько, насколько ему нужно, насколько он хочет, и уклоняться от того учения, которое ему не нужно и которого он не хочет.
Публичные лекции, музеумы суть лучшие образцы школ без вмешательства в воспитание. Университеты суть образцы школ с вмешательством в дело воспитания. В этих заведениях ученики связаны определенным курсом, программою, сводом избранных наук, связаны требованием экзаменов и преимущественно основанным на них, т. е. на экзаменах, предоставлением прав или, что будет вернее, лишением прав в случае несоблюдения предписанных условий. (Студент 4-го курса, держащий экзамен, находится под угрозой одного из самых тяжких наказаний – потери 10-ти или 12-летних гимназических, университетских лишений и отнятия тех выгод, в виду которых он переносил 12-летние лишения.) В этих заведениях все придумано так, чтобы ученик, под угрозой наказания, принимал на себя в образовании тот воспитательный элемент и усвоил те верования, те убеждения и тот характер, который нужен учредителям заведения. Принудительный воспитательный элемент, состоящий в исключительном выборе одного круга наук и в угрозе наказания, столь же силен и очевиден для серьезного наблюдателя, как и в том заведении с телесными наказаниями, которое поверхностные наблюдатели ставят в противоположность университетам.
Публичные лекции, число которых постоянно возрастает в Европе и Америке, наоборот, не только не обязывают к известному кругу знаний, не только не требуют внимания к себе под угрозой наказания, но требуют от учащихся еще известных пожертвований, тем самым доказывают, в противоположность первым, совершенную свободу выбора и оснований, на которых они строятся. Вот что значит вмешательство и невмешательство школы в воспитание. Если мне скажут, что такое невмешательство, возможное для высших заведений и взрослых людей, невозможно для низших и малолетних, потому что мы не видим тому примеров – публичных лекций для детей и т. п., – я отвечу, что если мы не станем слишком частно понимать слово «школа», а примем его в вышеприведенном определении, то мы для низшей степени знания и для низших возрастов найдем много свободно-образовательных влияний без вмешательства в воспитание, соответствующих высшим заведениям и публичным лекциям. Таковы выучивание грамоте от товарищей и братьев, таковы народные детские игры, об образовательном влиянии которых мы намерены поместить статью в одном из будущих номеров, таковы публичные зрелища, райки* и т. п., таковы картины и книги, таковы сказки и песни, таковы работы и таковы, наконец, попытки яснополянской школы.
Ответ на первый вопрос дает отчасти ответ и на второй: возможно ли такое невмешательство? Теоретически доказать эту возможность нельзя. Одно, подтверждающее эту возможность, есть наблюдение, доказывающее, что люди, вовсе не воспитанные, т. е. подлежавшие одним свободно-образовательным влияниям, люди народа, – свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и, главное – нужнее людей, как бы то ни было воспитанных. Но, может быть, и это положение для многих требует доказательства? О доказательствах этих мне еще придется говорить многое. Приведу только одно. Почему зоологически не улучшается поколение воспитываемых? Порода воспитываемых животных улучшается, порода воспитываемых людей ухудшается и ослабевает. Возьмите наудачу сотню детей от несколько воспитанных поколений и сотню невоспитанных детей народа и сравните их в чем хотите: в силе, ловкости, уме, способности воспринимать, в нравственности, даже и во всех отношениях, – громадное преимущество поражает вас на стороне детей невоспитанных поколений, и тем более будет преимуществ, чем будет ниже возраст, и наоборот. Это страшно сказать по выводам, на которые оно наводит, но оно так. Окончательно же доказать эту возможность невмешательства в низших школах для людей, которых личный опыт и внутреннее чувство ничего не говорят в пользу такого мнения, можно только добросовестным изучением тех свободных влияний, посредством которых образовывается народ, всесторонним обсуждением вопроса и длинным рядом опытов и отчетов о них.
Чем же должна быть школа при невмешательстве в дело воспитания? Школа, как сказано выше, есть сознательная деятельность образовывающего на образовывающихся. Как ему действовать, чтобы не преступить пределов образования, т. е. свободы? Отвечаю: школа должна иметь одну цель – передачу сведений, знания (instruction), не пытаясь переходить в нравственную область убеждений, верований и характера; цель ее должна быть одна – наука, а не результаты ее влияния на человеческую личность. Школа не должна пытаться предвидеть последствий, производимых наукой, а, передавая ее, должна предоставлять полную свободу ее применения. Школа не должна считать ни одну науку, ни целый свод наук необходимыми, а должна передавать те знания, которыми владеет, предоставляя учащимся право воспринимать или не воспринимать их. Устройство и программы школы должны основываться не на теоретическом воззрении, не на убеждении в необходимости таких-то и таких-то наук, а на одной возможности, т. е. на знаниях учителей. Объяснюсь примером. Я желаю учредить учебное заведение. Я не составляю программы, основанной на своих теоретических воззрениях, и на основании этой программы не приискиваю учителей, но предлагаю всем людям, чувствующим призвание к сообщению знаний, читать те уроки или лекции, какие они могут. Само собою разумеется, что прежний опыт будет руководить нас в выборе этих уроков, т. е. в том, что мы уже не будем пробовать преподавание тех предметов, которые неохотно слушаются, мы не станем в русской деревне читать испанский язык, астрологию или географию, точно так же, как в этой же деревне купец не откроет лавки хирургических инструментов или кринолинов. Мы можем предвидеть требование на наше предложение, но окончательный судья наш будет только опыт, и мы не считаем себя вправе открыть ни одной лавки, в которой бы мы продавали деготь только с тем условием, чтобы у нас брали на 10 ф. дегтю фунт имбирю или помады. Мы не заботимся о том, какое употребление из наших товаров будут делать потребители, мы верим, что они знают, что им нужно, и для нас достаточно труда угадать их потребность и только отвечать на нее. Очень может быть, что найдется один учитель зоологии, один учитель средней истории, один – закона божия и один – топографического искусства. Ежели эти учителя будут в состоянии сделать свои уроки занимательными, уроки эти будут полезны, несмотря на свою кажущуюся несоответственность и случайность. Я не верю в возможность теоретически придуманного гармонического свода наук, но верю в то, что каждая наука, при свободном ее преподавании, гармонически укладывается в свод знаний каждого человека. Скажут, может быть, что при такой случайности программы могут войти в курс бесполезные, даже вредные науки, и что многие науки невозможно будет преподавать, потому что ученики недостаточно для них приготовлены. На это отвечу, во-первых, что вредных и бесполезных наук нет для кого бы то ни было, и что есть здравый смысл и потребность учеников, которые при свободе учения не допустят бесполезные или вредные науки, если бы такие были; во-вторых, что подготовленные ученики нужны для дурного учителя, для хорошего же легче начинать алгебру или аналитическую геометрию с учеником, не знающим арифметики, чем с учеником, плохо знающим ее, легче читать среднюю историю ученикам, не учившим наизусть древней. Я не верю, чтобы профессор, читающий в университете дифференциалы и интегралы или историю русского гражданского права, и который не может читать арифметику и русскую историю в первоначальной школе, – я не верю, чтобы он был хороший профессор. Я не вижу пользы и заслуги и даже возможности в хорошем преподавании одной части предмета. Главное же – я убежден, что предложение будет отвечать всегда на требование, что на каждой ступени наук будет достаточное число и учеников, и учителей.