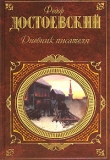Текст книги "Том 16. Избранные публицистические статьи"
Автор книги: Лев Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
XXXI
Разделение труда есть закон всего существующего, и потому оно должно быть в человеческих обществах. Очень может быть, что это так, но остается все-таки вопрос о том: что то разделение труда, которое я теперь вижу в моем человеческом обществе, есть ли оно то самое разделение труда, которое должно быть? И если люди считают известное разделение труда неразумным и несправедливым, то никакая наука не может доказать людям, что должно быть то, что они считают неразумным и несправедливым. Богословская теория доказывала, что власть от бога, и очень может быть, что она от бога, но оставался вопрос: чья власть: Екатерины или Пугачева? И никакие тонкости богословские не могли разрешить этого сомнения. Философия духа доказывала, что государство есть форма развития личностей; но остается вопрос: можно ли государство Нерона или Чингис-хана считать формой для развития личности? И никакие трансцендентные слова не могли разрешить этого. То же и с научной наукой. Разделение труда есть условие жизни организмов и человеческих обществ; но что в этих человеческих обществах считать органическим разделением труда? И сколько бы наука ни изучала разделение труда в клеточках глистов, все эти наблюдения не заставят человека признать правильным разделение труда такое, которое не признают таковым его разум и совесть. Как бы убедительны ни были доказательства разделения труда клеточек в наблюдаемых организмах, человек, если он еще не лишился рассудка, все-таки скажет, что ткать всю жизнь ситцы человеку не должно и что это не есть разделение труда, а есть угнетение людей. Спенсер и проч. говорят, что есть целые населения ткачей, и потому ткацкая деятельность есть органическое разделение труда; но, говоря это, ведь они говорят точь-в-точь то же, что говорит богослов: есть власть, и потому она от бога, какая бы она ни была. Есть ткачи – значит, таково разделение труда. Ведь хорошо было бы говорить так, если бы власть и населения ткачей делались сами собою, а мы знаем, что они делаются не сами собой, а мы их делаем. Так вот надо узнать, что делали-то мы эту власть; от бога или от себя и делали мы этих ткачей по органическому закону или по чему другому?
Живут люди, кормятся земледелием, как свойственно всем людям. Один человек устроил кузнечное горно и починил свой плуг, приходит к нему сосед и просит тоже починить и обещает ему за это работу или деньги. Приходит третий, четвертый, и в обществе этих людей происходит следующее разделение труда – делается кузнец. Другой человек хорошо выучил своих детей, к нему приводит детей сосед и просит учить их, и делается учитель. Но и кузнец и учитель сделались и продолжают быть такими только потому, что их просили, и остаются таковыми до тех пор, пока их просят быть кузнецом и учителем. Если бы случилось, что заведется много кузнецов и учителей, или если их работа не нужна, они тотчас, как этого требует здравый смысл и как это и бывает всегда там, где нет причин нарушения правильности разделения труда, они тотчас бросают свое мастерство и опять берутся за земледелие. Люди, поступающие так, руководятся своим разумом, своею совестью, и потому мы, люди, одаренные разумом и совестью, все утверждаем, что такое разделение труда – правильно. Но если бы случилось, что кузнецы имеют возможность принудить других людей работать на них и продолжали бы делать подковы, когда их не нужно, а учители учили бы, когда некого учить, то всякому свежему человеку, как человеку, т. е. существу, одаренному разумом и совестью, очевидно, что это не было бы разделением, а захватом чужого труда. А между тем такая-то именно деятельность и есть то, что называется по научной науке разделением труда. Люди делают то, на что другие и не думают заявлять требования, и требуют, чтобы их кормили за это, и говорят, что это справедливо потому, что это есть разделение труда.
То, что составляет главное общественное бедствие народа не у нас одних, – это управление, бесчисленное количество чиновников; то, что составляет причину экономического бедствия нашего времени, – это то, что англичане называют overproduction, перепроизводство (то, что наделано пропасть вещей, которых некуда девать и которые никому не нужны).
Странно бы было видеть сапожника, который считал бы, что люди обязаны его кормить за то, что он шьет не переставая сапоги, которые давно уж никому не нужны; но что же сказать про тех людей правительства, церкви, науки и искусства, которые уж ничего не шьют, ничего не только видимого, но полезного для народа не производят, на товар которых нет охотников и которые так же смело на основании разделения труда требуют, чтобы их и кормили, и поили сладко, и одевали хорошо? Могут быть и есть колдуны, к деятельности которых заявляются требования, и им носят за это лепешки и полуштофы; но того, чтобы были такие колдуны, колдовство которых никому не нужно и которые бы смело требовали, чтобы их сладко кормили за то, что они будут колдовать, – это трудно себе представить. А это самое и есть в нашем мире с людьми правительства, церкви, науки и искусства. И все это происходит на основании того ложного понятия разделения труда, определяемого не разумом и совестью, а наблюдением, которое с таким единодушием исповедуют люди науки.
Разделение труда действительно всегда было и есть, но оно правильно только тогда, когда человек решит своей совестью и разумом, что оно должно быть, а не тогда, когда он будет наблюдать его. И совесть и разум всех людей очень просто, несомненно и единогласно решают этот вопрос. Они решают его всегда так, что разделение труда правильно только тогда, когда особенная деятельность человека так нужна людям, что они, прося его послужить им, сами охотно предлагают ему кормить его за то, что он будет для них делать. Когда же человек может с детства до 30 лет прожить на шее других, обещая сделать, когда он выучится, что-то очень полезное, о котором никто его не просит, и когда потом от 30 лет до смерти он может жить так же, все только с обещаниями сделать что-то, о чем никто его не просит, то это не будет (как и нет его на самом деле в нашем обществе) разделение труда, а будет, как оно и есть, один только захват чужого труда сильным; тот самый захват чужого труда сильным, который прежде богословы называли божеским назначением, потом философы – необходимыми формами жизни, а теперь научная наука называет органическим разделением труда.
Все значение науки только в этом. Она теперь стала раздавательницей дипломов на праздность, потому что она одна в своих капищах разбирает и определяет – какая паразитическая, какая органическая деятельность человека в общественном организме. Как будто человек каждый не может этого самого узнать гораздо вернее и короче, справившись с разумом и совестью. И как прежде для духовенства, потом для государственных людей не могло быть сомнения в том, кто самые нужные для других люди, так теперь людям научной науки кажется, что не может быть сомнения в том, что их-то деятельность и есть несомненно органическая: они, научные и художественные деятели, суть мозговые, самые драгоценные клеточки организма.
Но бог с ними; пускай бы они царствовали: сладко пили, ели и праздновали, как пускай бы праздновали и царствовали бы жрецы и софисты; только бы они, как жрецы и софисты, не развращали людей.
С тех пор как есть люди, разумные существа, они различали добро от зла и пользовались тем, что до них в этом различении сделали люди, – боролись со злом, искали истинный, наилучший путь и медленно, но неотступно подвигались на этом пути. И всегда, заграждая этот путь, становились перед людьми различные обманы, имеющие целью показать им, что этого не нужно делать, а нужно жить, как живется. Стоял страшный, старый обман церковных людей; с страшными борьбою и трудом люди понемногу высвободились из него, но не успели они высвободиться из него, как на место старого стал новый обман – государственный, философский. Люди выбились и из него. И вот новый и еще злейший обман вырос на пути людей: обман научный.
Новый этот обман точно такой же, как и старые: сущность его в том, чтобы подменить деятельность разума и совести своей и живших прежде нас людей чем-нибудь внешним; в церковном учении внешнее было откровение, в научном обмане это внешнее – наблюдение.
Ловушка этой науки состоит в том, чтобы, указав людям на самые грубые извращения деятельности разума и совести людей, разрушить в них веру в самый разум и совесть и уверить их, что им самим говорит разум и совесть; все, что они говорили высшим представителям людей с тех пор, как существует мир, что все это условно и субъективно.
Все это надо оставить, говорят они; разумом нельзя понять истину, потому что можно ошибиться, а есть другой путь – безошибочный и почти механический: надо изучать факты. Изучать же факты надо на основании научной науки, т. е. двух ни на чем не основанных предположениях позитивизма и эволюции, которые выдаются за несомненнейшие истины. И царствующая наука с обманной торжественностью заявляет, что разрешение всех вопросов жизни возможно только изучением фактов природы и в особенности организмов. Легковерная толпа молодежи, подавленная новостью этого не только не разрушенного, но еще не затронутого критикою авторитета, бросается на изучение этих фактов в естественных науках, на тот единственный путь, который, по утверждению царствующего учения, может привести к уяснению вопросов жизни. Но чем дальше подвигаются ученики в этом изучении, тем дальше и дальше становится от них не только возможность, но даже самая мысль о разрешении вопросов жизни, и тем больше и больше привыкают они не столько наблюдать, сколько верить на слово чужим наблюдениям (верить в клеточки, в протоплазму, в 4-е состояние тел и т. п.); тем больше и больше форма заслоняет для них содержание; тем больше и больше теряют они сознание добра и зла и способность понимать те выражения и определения добра и зла, которые выработаны всей предшествующей жизнью человечества; тем более и более усваивают они себе специальный научный жаргон условных выражений, не имеющих общечеловеческого значения; тем дальше и дальше заходят они в дебри ничем не освещенных наблюдений; тем больше и больше лишаются они способности не только самостоятельно мыслить, но понимать даже чужую, свежую, находящуюся вне их талмуда человеческую мысль; главное же, проводят лучшие годы в отвыкании от жизни, т. е. от труда, привыкают считать свое положение оправданным и делаются и физически ни на что не годными паразитами, и умственно вывихивают себе мозги и становятся скопцами мысли. И точно так же, по мере оглупения, приобретают самоуверенность, лишающую их уже навсегда возможности возврата к простой трудовой жизни, к простому, ясному и общечеловеческому мышлению.
XXXII
Разделение труда в человеческом обществе всегда было и, вероятно, будет; но вопрос для нас не в том, что оно есть и будет, а в том, чем мы должны руководствоваться, чтобы разделение это было правильно. Если же мы наблюдение возьмем за мерило, то мы этим самым откажемся от всякого мерила; тогда мы всякое разделение труда, какое мы будем видеть между людьми и какое нам покажется правильным, и будем считать правильным, к чему и ведет царствующая научная наука.
Разделение труда!
Одни заняты умственной, духовной, другие мускульной, физической работой. С какою уверенностью говорят эти люди! Им хочется это думать, и им кажется, что в самом деле происходит совершенно правильный обмен услуг там, где происходит самое простое, старинное насилие. Ты, или скорее вы (потому что всегда многим надо кормить одного), вы меня кормите, одевайте, делайте для меня всю ту грубую работу, которую я потребую и к которой вы привыкли с детства, а я буду делать для вас ту умственную работу, которую я умею и к которой уже привык. Вы давайте мне телесную, а я буду давать духовную пищу. Расчет, кажется, совершенно верен, и он был бы совершенно верен, если бы обмен этих услуг был свободный, если бы те, которые доставляют телесную пищу, не обязаны были доставлять ее прежде, чем они получат духовную пищу. Производитель духовной пищи говорит: для того чтобы я мог вам дать духовную пищу, вы кормите, одевайте меня, выносите за мной мои нечистоты. Производитель же телесной пищи не заявляет никаких требований и дает телесную пищу, хотя бы он и не получал духовной пищи. Если бы обмен был свободен, то условия тех и других были бы одинаковы. Ученый, художник говорит: прежде чем мы можем начать служить людям духовной пищей, нам нужно, чтобы люди продовольствовали нас телесной. Но отчего же производителю телесной пищи не сказать, что прежде чем мне служить вам телесной пищей, мне нужна духовная пища, и, не получив ее, я не могу работать? Вы говорите: мне нужна работа пахаря и кузнеца, сапожника, и плотника, и каменщиков, золотарей и др. для того, чтобы приготовлять мою духовную пищу. Каждый работник тоже должен сказать: прежде чем мне идти работать, приготовляя для вас телесную пищу, мне нужно иметь уже плоды духовной пищи. Для того чтобы мне иметь силы для работы, мне необходимы: религиозное учение, порядок в общей жизни, приложение знаний к труду, радости и утешения, которые дают искусства. Я не имею времени выработать свое учение о смысле жизни, – дайте мне его. Я не имею времени придумать уставов жизни, общей, такой, при которой бы не нарушилась справедливость, – дайте мне это. Я не имею времени заниматься механикой, физикой, химией, технологией, – дайте мне книги с указанием о том, как мне улучшить свои орудия, свои приемы работы, свои жилища, свое отопление, освещение. Я не имею времени сам заниматься поэзией, пластическим искусством, музыкой, – дайте мне те необходимые для жизни возбуждения и утешения; дайте мне эти произведения искусств. Вы говорите, что вам невозможно заниматься вашими важными и нужными для других делами, если вы будете лишены того труда, который несут за вас рабочие люди, а я говорю, скажет рабочий, что мне невозможно заниматься моими не менее важными и нужными для вас делами, если я буду лишен религиозного и соответственного требованиям моего ума и совести руководства разумного управления, обеспечивающего мой труд, указания знания для облегчения моей работы, радостей искусств для облагорожения моего труда. Все, что вы до сих пор предлагаете мне в виде духовной пищи, не только не годится мне, но я даже не могу понять, на что это кому-нибудь может быть нужно. А пока я не получу этой пищи, свойственной мне, как и каждому человеку, я не могу питать вас телесной пищей, которую я произвожу. Что, если рабочий скажет это? И если он скажет это, ведь это будет не шутка, а только самая простая справедливость. Ведь если рабочий только скажет это, то правоты гораздо более на его стороне, чем на стороне человека умственного труда. Правоты на его стороне больше потому, что труд, доставляемый рабочим человеком, первее и необходимее, чем труд производителя умственного труда, и потому, что человеку умственного труда ничто не мешает давать рабочему ту духовную пищу, которую он обещал ему; рабочему же мешает давать телесную пищу то, что ему самому недостает этой телесной пищи.
Что же ответим мы, люди умственного труда, если нам предъявят такие простые и законные требования? Чем удовлетворим мы их? Катехизисом Филарета*, священными историями Соколовых* и листками разных лавр и Исакиевского собора – для удовлетворения его религиозных требований; сводом законов и кассационными решениями разных департаментов и разными уставами комитетов и комиссий – для удовлетворения требований порядка; спектральным анализом, измерениями млечных путей, воображаемой геометрией, микроскопическими исследованиями, спорами спиритизма и медиумизма, деятельностью академий наук – для удовлетворения требований знания; чем удовлетворим его художественным требованиям? Пушкиным, Достоевским, Тургеневым, Л. Толстым, картинами французского салона и наших художников, изображающих голых баб, атлас, бархат, пейзажи и жанры, музыкой Вагнера или новейших музыкантов? Ничто это не годится и не может годиться, потому что мы с своим правом на пользование трудом народа и отсутствием всяких обязанностей в нашем приготовлении духовной пищи потеряли совсем из виду то единственное назначение, которое должна иметь наша деятельность. Мы даже не знаем, что нужно рабочему народу, мы даже забыли его образ жизни, его взгляд на вещи, язык, даже самый народ рабочий забыли и изучаем его как какую-то этнографическую редкость или новооткрытую Америку.
Так вот мы, требуя себе телесной пищи, взялись поставлять духовную пищу; но вследствие того воображаемого разделения труда, по которому мы можем не только прежде пообедать, а потом сработать, но можем целыми поколениями сладко обедать, ничего не работая, мы заготовили в виде оплаты народу за наш корм что-то годное только, как нам кажется, для нас, и для науки, и для искусства, но негодное, совершенно непонятное и противное, как лимбургский сыр, для тех самых людей, труды которых мы поедаем под предлогом доставления им духовной пищи. Мы в нашем ослеплении до такой степени упустили из виду взятую на себя обязанность, что даже забыли про то, во имя чего производится наша работа, и тот самый народ, которому мы взялись служить, сделали предметом нашей научной и художественной деятельности. Мы изучаем и изображаем его для своей забавы и развлечения, мы совершенно забыли то, что нам надо не изучать и изображать его, а служить ему. Мы до такой степени упустили из виду эту взятую на себя обязанность, что не заметили даже, как то, что мы взялись делать в области наук и искусств, сделали не мы, а другие, и место наше оказалось занятым. Оказалось, что покуда мы спорили, – подобно тому, как богословы о бессеменном зачатии, – то о самородном зарождении организмов, то о спиритизме, то о форме атомов, то о пангенезисе, то о том, что еще есть в протоплазме, и т. п., народу все-таки понадобилась духовная пища, и неудачники и отверженцы наук и искусств, по заказу аферистов, имеющих в виду одну цель наживы, начали поставлять народу эту духовную пищу и поставляют ее. Вот уже лет 40 в Европе и лет 10 у нас в России расходятся миллионами книги, и картины, и песенники, и открываются балаганы, и народ и смотрит, и поет, и получает духовную пищу не от нас, взявшихся поставлять ее, а мы, оправдывающие свою праздность той духовной нищей, которую мы будто бы поставляем, мы сидим и хлопаем глазами. А нельзя нам хлопать глазами, ведь выскальзывает из-под ног последнее оправдание. Мы специализировались, у нас есть наша особенная функциональная деятельность, мы – мозг народа. Он кормит нас, а мы его взялись учить. Только во имя этого мы освободили себя от труда. Чему же мы научили и чему учим его? Он ждал года, десятки, сотни лет. И всё мы разговариваем и друг друга учим и потешаем, а его мы даже совсем забыли. Так забыли, что другие взялись учить и потешать его, и мы даже не заметили этого. Так несерьезно мы говорили о разделении труда, так очевидно, что то, что мы говорили о пользе, приносимой нами народу, была одна бесстыдная отговорка.
XXXIII
Было время, что церковь руководила духовной жизнью людей нашего мира; церковь обещала людям благо и за это выгородила себя из участия в борьбе человечества за жизнь. И та церковь, которая сделала это, отступила от своего призвания, и люди отвернулись от нее. Не заблуждения церкви погубили ее, а отступление служителей ее от закона труда, выговоренное с помощью власти при Константине*; их право праздности и роскоши породили ее заблуждения. С этого права начались заботы церкви о церкви, а не о людях, которым они взялись служить. И служители церкви предались праздности и разврату.
Государство взялось руководить жизнью человечества. Государство обещало людям справедливость, спокойствие, обеспеченность, порядок, удовлетворение общих духовных и материальных нужд, и за это люди, служившие государству, выгородили себя из участия в борьбе человечества за жизнь. И слуги государства, как только они получили возможность пользоваться трудом других, сделали то же, что и служители церкви. Целью их стал не народ, а государство, и служители государства – от королей до низших чиновников, должностных лиц – и в Риме, и во Франции, и в Англии, и в России, и в Америке предались праздности и разврату. И люди изверились в государство: анархия уже сознательно выставляется идеалом. Государство потеряло свое обаяние на людей только потому, что служители его признали за собой право пользоваться трудами народа.
То же сделала наука и искусство с помощью государственной власти, которую они взялись поддерживать. И они выговорили себе право праздности и пользования чужими трудами и также изменили своему призванию. И так же заблуждения их произошли только потому, что служители ее, выставив ложно понятый принцип разделения труда, признали за собой право пользоваться трудами других и потеряли смысл своего призвания, сделав себе целью не пользу народа, а таинственную пользу науки и искусства, и так же, как их предшественники, предались праздности и разврату, не столько чувственному, сколько умственному.
Говорят: наука и искусство многое дали человечеству.
Это совершенно справедливо. Церковь и государство много дали человечеству, но не потому, что они злоупотребляли своей властью и их служители отступили от общей всем людям и вечной обязанности труда за жизнь, но несмотря на это.
Точно так же и наука и искусства много дали человечеству не потому, что люди науки и искусства, под видом разделения труда, живут на шее рабочего народа, а несмотря на это.
Римская республика была могущественна не потому, что граждане ее имели возможность развратничать, а потому, что в числе их были доблестные граждане. То же самое и с наукой и с искусством. Наука и искусство дали много человечеству, но не потому, что служители их имели изредка прежде и теперь имеют всегда возможность освободить себя от труда, а потому, что были гениальные люди, которые, не пользуясь этими правами, двигали вперед человечество.
Сословие ученых и художников, заявляющее на основании ложного разделения труда требования на право пользования трудом других, не может содействовать успеху истинной науки и истинного искусства, потому что ложь не может произвести истины.
Мы так привыкли к тем выхоленным, жирным или расслабленным нашим представителям умственного труда, что нам представляется диким то, чтобы ученый или художник пахал или возил навоз. Нам кажется, что все погибнет, и вытрясется на телеге вся его мудрость, и опачкаются в навозе те великие художественные образы, которые он носит в своей груди; но мы так привыкли к этому, что нам не кажется странным то, что наш служитель науки, т. е. служитель и учитель истины, заставляя других людей делать для себя то, что он сам может сделать, половину своего времени проводит в сладкой еде, курении, болтовне, либеральных сплетнях, чтении газет, романов и посещении театров; нам не странно видеть нашего философа в трактире, в театре, на бале, не странно узнавать, что те художники, которые услаждают и облагораживают наши души, проводили свою жизнь в пьянстве, картах и у девок, если еще не хуже. Наука и искусство – прекрасные вещи, но именно потому, что они прекрасные, их не надо портить обязательным присоединением к ним разврата, т. е. освобождения себя от обязанности человека служить трудом жизни своей и других людей. Наука и искусство подвинули вперед человечество. Да! но не тем, что люди науки и искусства под видом разделения труда и словом и, главное, делом учат других пользоваться посредством насилия нищетою и страданиями людей для того, чтобы освободить себя от самой первой и несомненной человеческой обязанности трудиться руками в общей борьбе человечества с природою.