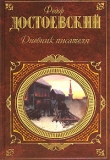Текст книги "Том 16. Избранные публицистические статьи"
Автор книги: Лев Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
VIII
Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть все человечество, что жизни человечества я еще не знаю.
Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших и живых, это – так, какие-то скоты – не люди.
Как ни странно, ни неимоверно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «Да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»
Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, – это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидал совершенно другое. Я увидал, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.
Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.
Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.
IX
Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания.
Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.
Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.
Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.
В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти.
Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тожество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: а = а, или х = х, или 0 = 0. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, – только тожества.
И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем*, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта – и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, – ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ – ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тожество: 0 = 0, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.
Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в paзумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? – ответ: по закону божию. Что выйдет настоящего из моей жизни? – Вечные мучения или вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным богом, рай.
Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.
Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.
Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.
Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, – смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, – вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понижает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.
И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при втором конечное приравнивалось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было ненужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что 0 = 0, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.
Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.
Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.
Что такое я? – часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса – вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?
Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понято, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.
Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.
Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.
Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, – разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, – это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.
Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.
Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, – а я так люблю все разумное, – то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет 0 = 0, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.
X
Я понимал это, но от этого мне было не легче.
Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.
Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка* и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление.* И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни. Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, – я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.
Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.
Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, – не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.
Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видал такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.
И я понял, что вера этих людей – не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни.
И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимо-верующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, – они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойной и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это – добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, – многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я вгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противуположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.
И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства – все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.