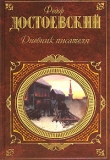Текст книги "Том 16. Избранные публицистические статьи"
Автор книги: Лев Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
VIII
Второй разряд несчастных, которым я тоже надеялся помочь после, были распутные женщины; таких женщин в Ржановском доме очень много всяких сортов – от молодых и похожих на женщин до старых, страшных и ужасных, потерявших образ человеческий. Надежда эта на помощь этим женщинам, которую я сначала и не имел в виду, возникла во мне после следующего случая.
Это было в середине нашего обхода. У нас уже выработалась некоторая механическая сноровка обращения.
Входя в новое помещение, мы тотчас же спрашивали хозяина квартиры; один из нас садился, очищая себе какое-нибудь место для записывания, а другой ходил по углам и отдельно спрашивал каждого человека по углам квартиры и передавал эти сведения записывающему.
Войдя в одну из квартир подвального этажа, студент пошел отыскивать хозяина, а я стал опрашивать всех, бывших в квартире. Квартира расположена так: в середине квадратной в 6 аршин комнаты – печка. От печки идут звездой четыре перегородки, образующие четыре каморки. В первой, проходной каморке с четырьмя койками было два человека – старик и женщина. Прямо после этой – длинненькая каморка, в ней хозяин, молодой, в ceрую суконную поддевку одетый, благообразный, очень бледный мещанин. Налево от первого угла третья каморка, там один спящий, вероятно, пьяный мужчина и женщина в розовой блузе, распущенной спереди и стянутой сзади. Четвертая каморка за перегородкой, в нее ход из каморки хозяина.
Студент прошел в каморку хозяина, а я остановился во входной каморке и расспросил старика и женщину. Старик был мастеровой, печатник, теперь не имеет средств к жизни. Женщина – жена повара. Я прошел в третью каморку и спросил у женщины в блузе про спящего человека. Она сказала, что это гость. Я спросил женщину, кто она. Она сказала, что московская крестьянка.
– Чем занимаетесь?
Она засмеялась, не отвечая мне.
– Чем кормитесь? – повторил я, думая, что она не поняла вопроса.
– В трактире сижу, – сказала она.
Я не понял и вновь спросил:
– Чем вы живете?
Она не отвечала и смеялась. Из четвертой каморки, в которой мы еще не были, тоже засмеялись женские голоса. Мещанин, хозяин, вышел из своей каморки и подошел к нам. Он, очевидно, слышал мои вопросы и ответы женщины. Он строго посмотрел на женщину и обратился ко мне.
– Проститутка, – сказал он, очевидно довольный тем, что он знает это слово, употребляемое в правительственном языке, и правильно произносит его. И, сказав это, с чуть заметной почтительной улыбкой удовольствия, обращенной ко мне, он обратился к женщине. И как только он обратился к ней, так все лицо его изменилось. Особенной презрительной скороговоркой, как говорят с собакой, не глядя на нее, он сказал ей:
– Что болтать зря: «в трактире сижу!» В трактире сидишь, значит, и говори дело, проститутка, – еще раз повторил он это слово. – Себе имени не знает, тоже…
Тон этот оскорбил меня.
– Нам ее срамить не приходится, – сказал я. – Кабы мы все по-божьи жили, и их бы не было.
– Да, уж это такое дело, – сказал хозяин, неестественно улыбаясь.
– Так нам их не укорять, а жалеть надо. Разве они виноваты?
Не помню, как я именно сказал, но помню, что меня возмутил презрительный тон этого молодого хозяина квартиры, полной женщинами, которых он называл проститутками, и мне жалко стало этой женщины, и я выразил и то и другое. Только что я сказал это, как из той каморки, из которой слышался смех, заскрипели доски кроватей, и над перегородкой, не доходившей до потолка, поднялась одна спутанная женская курчавая голова с маленькими запухшими глазами и глянцевито-красным лицом, а вслед за ней другая и еще третья. Они, видно, встали на свои кровати и все три вытянули шеи и, сдерживая дыхание, с напряженным вниманием, молча смотрели на нас.
Произошло смущенное молчание. Студент, улыбавшийся перед этим, стал серьезен; хозяин смутился и опустил глаза. Женщины все не переводили дыхания, смотрели на меня и ждали. Я был смущен более всех. Я никак не ожидал, чтобы случайно брошенное слово произвело такое действие. Точно поле смерти, усыпанное мертвыми костями, дрогнуло бы от прикосновения духа, а мертвые кости бы зашевелились. Я сказал необдуманное слово любви и сожаления, и слово это подействовало на всех так, как будто все только и ждали этого слова, чтобы перестать быть трупами и ожить. Они все смотрели на меня и ждали, что будет дальше. Они ждали, чтоб я сказал те слова и сделал те дела, от которых кости бы эти стали сближаться, обрастать плотью и оживляться. Но я чувствовал, что у меня нет таких слов, нет таких дел, которыми бы я мог продолжать начатое; я чувствовал в глубине души, что я солгал, что мне дальше говорить нечего, и я стал записывать в карточки имена и звания всех лиц в этой квартире. Этот случай навел меня на мысль о том, что можно помочь и этим несчастным. Мне тогда в моем самообольщении казалось, что это очень легко. Я говорил себе: вот мы запишем и этих женщин, и после мы (кто такие эти мы, я не отдавал себе отчета), когда все запишем, займемся этим. Я воображал, что мы, те самые, которые приводили и приводим этих женщин в это состояние в продолжение нескольких поколений, в один прекрасный день вздумаем и сейчас же поправим все это. А между тем, хоть вспомнив только мой разговор с той распутной женщиной, которая качала ребенка больной родильницы, я бы мог понять все безумие такого предположения.
Когда мы увидали эту женщину с ребенком, мы думали, что это ее ребенок. Она на вопрос, кто она, прямо сказала, что она девка. Она не сказала: проститутка. Только мещанин, хозяин квартиры, употребил это страшное слово. Предположение о том, что у нее есть ребенок, дало мне мысль вывести ее из ее положения. Я спросил:
– Это ребенок ваш?
– Нет, это вот той женщины.
– Отчего же вы его качаете?
– Да просила; она умирает.
Хотя предположение мое оказалось несправедливым, я продолжал говорить с нею в том же духе. Я стал расспрашивать ее, кто она и как попала в такое положение. Она охотно и очень просто рассказала мне свою историю. Она московская мещанка, дочь фабричного. Она осталась сиротой, ее взяла тетка. От тетки и пошла ходить по трактирам. Тетка теперь умерла. Когда я ее спросил, не хочет ли она переменить жизнь, вопрос мой, очевидно, нисколько даже не заинтересовал ее. Как же может интересовать человека предложение чего-нибудь совершенно невозможного? Она усмехнулась и сказала:
– Да кто ж меня возьмет с желтым билетом?
– Ну да если бы найти место в кухарки или куда? – сказал я.
Мне пришла эта мысль потому, что она женщина сильная, русая, с добрым и глуповатым, круглым лицом. Такие бывают кухарки. Мои слова, очевидно, ей не понравились. Она повторила:
– Кухарки? Да я не умею хлебы-то печь, – сказала она и засмеялась. Она сказала, что не умеет, но я видел по выражению ее лица, что она и не хочет быть кухаркой, что она считает положение и звание кухарки низкими.
Женщина эта, самым простым образом пожертвовавшая, как евангельская вдова, всем, что у ней было, для больной, вместе с тем, так же как и другие ее товарки, считает положение рабочего человека низким и достойным презрения. Она воспиталась так, чтобы жить не работая, а тою жизнью, которая считается для нее естественной ее окружающими. В этом ее несчастие. И этим несчастием она попала и удерживается в своем положении. Это привело ее сидеть в трактире. Кто же из нас – мужчин или женщин – будет исправлять ее от этого ее ложного взгляда на жизнь? Где среди нас те люди, которые убеждены в том, что всякая трудовая жизнь уважительнее праздной, – убеждены в этом и живут сообразно этому убеждению и сообразно этому убеждению ценят и уважают людей? Если б я подумал об этом, я бы мог понять, что ни я и никто из тех, кого я знаю, не может лечить от этой болезни.
Я бы мог понять, что эти высунувшиеся из-за перегородки, изумленные и умиленные головы выражали только изумление от высказанного к ним сочувствия, но никак не надежду на исправление их от безнравственности. Они не видят безнравственности своей жизни. Они видят, что их презирают и ругают, но за что их так презирают, им невозможно понять. Их жизнь так шла с детства среди точно таких же женщин, которые, они знают очень хорошо, всегда были и есть, которые необходимы в обществе – так необходимы, что существуют правительственные чиновники, заботящиеся об их правильном существовании. Кроме того, они знают, что они имеют власть над людьми и покоряют их и владеют часто ими больше, чем другие женщины. Они видят, что положение их в обществе, несмотря на то, что всегда их ругают, признается и женщинами, и мужчинами, и начальством, и потому не могут даже понять, в чем им раскаиваться и в чем им исправляться. В один из обходов студент рассказал мне, что в одной из квартир есть женщина, торгующая своей 13-тилетней дочерью. Желая спасти эту девочку, я нарочно пошел в эту квартиру. Мать и дочь живут в большой бедности. Мать маленькая, черненькая, лет сорока, проститутка, не только безобразная, но неприятно безобразная. Дочь такая же неприятная. На все мои окольные вопросы об их жизни мать недоверчиво и враждебно, коротко отвечала мне, очевидно чувствуя во мне врага, имеющего злые намерения; дочь ничего не отвечала, не взглянув на мать, и, очевидно, вполне доверялась матери. Жалости сердечной они не возбудили во мне, скорее отвращение. Но я решил, что надо спасти дочь – заинтересовать дам, сочувствующих жалкому положению этих женщин, и прислать сюда. Но если бы я подумал о всем том длинном прошлом матери, о том, как она родила, выкормила и воспитала эту дочь в своем положении, наверное, уже без малейшей помощи от людей и с тяжелыми жертвами, если бы я подумал о том взгляде на жизнь, который образовался у этой женщины, я бы понял, что в поступке матери нет решительно ничего дурного и безнравственного: она делала и делает для дочери все, что может, т. е. то, что она считает лучшим для себя. Отнять насильно можно эту дочь от матери, но убедить мать, что она делает дурное, продавая свою дочь, нельзя. Если уж спасать, то спасать надо было эту женщину-мать и гораздо прежде, спасать от того взгляда на жизнь, одобряемого всеми, при котором женщина может жить без брака, т. е. без рождения детей и без работы, служа только удовлетворению чувственности. Если бы я подумал об этом, то я бы понял, что большинство тех дам, которых я хотел прислать сюда для спасения этой девочки, не только сами живут без рождения детей и без работы, служа только удовлетворению чувственности, но и сознательно воспитывают своих девочек для этой самой жизни: одна мать ведет дочь в трактир, другая – ко двору или на балы. Но у той и у другой матери миросозерцание одно и то же, именно – что женщина должна удовлетворять похоть мужчины и за это ее должны кормить, одевать и жалеть. Так как же наши дамы будут исправлять эту женщину и ее дочь?
IX
Еще чуднее было мое отношение к детям. Я в роли благодетеля обращал внимание и на детей, желая спасать погибающие в этом вертепе разврата невинные существа, и записывал их, чтобы заняться ими после.
Из числа детей особенно поразил меня 12-летний мальчик Сережа. Этого умного, бойкого мальчика, жившего у сапожника и оставшегося без приюта, потому что хозяин его попал в острог, я пожалел от души и хотел сделать ему доброе.
Расскажу теперь, чем кончилось мое благотворение ему, потому что история с этим мальчиком лучше всего показывает мое ложное положение в роли благодетеля. Я взял мальчика к себе и поместил его на кухне. Нельзя же было вшивого мальчика из вертепа разврата взять к своим детям. Я и за то, что он стеснял не меня, а нашу прислугу на кухне, и за то, что кормил его тоже не я, а наша кухарка, и за то, что я отдал ему какие-то обноски надеть, считал себя очень добрым и хорошим. Мальчик пробыл с неделю. В эту неделю я раза два, проходя мимо него, сказал ему несколько слов и во время прогулки зашел к знакомому сапожнику, предлагая ему мальчика в ученики. Один мужик, гостивший у меня, звал его в деревню, в работники, в семью; мальчик отказался и через неделю исчез. Я пошел в Ржанов дом справиться о нем. Он вернулся туда, и в то время, как я приходил, его дома не было. Он второй день уже ходил на Пресненские пруды, где нанимался по 30 копеек в день в процессию каких-то дикарей, в костюмах водивших слона. Там представлялось что-то для публики. Я заходил и другой раз, но он, очевидно, избегал меня. Если бы я вдумался тогда в жизнь этого мальчика и в свою, я бы понял, что мальчик испорчен тем, что он узнал возможность веселой жизни без труда, что он отвык работать. И я, чтобы облагодетельствовать и исправить его, взял его в свой дом, где он видел что же? Моих детей и старше его, и моложе, и ровесников, которые никогда ничего для себя не только не работали, но всеми средствами доставляли работу другим: пачкали, портили все вокруг себя, объедались жирным, вкусным и сладким, били посуду, проливали и бросали собакам такую пищу, которая для этого мальчика представлялась лакомством. Если я из вертепа взял его и привел в хорошее место, то он и должен был усвоить те взгляды, которые существуют на жизнь в хорошем месте; и по этим взглядам он понял, что в хорошем месте надо так жить, чтобы ничего не работать, а есть, пить сладко и жить весело. Правда, он не знал того, что дети мои несут тяжелые труды для изучения исключений латинской и греческой грамматики, и не мог бы понять цели этих трудов. Но нельзя не видеть, что если бы он понял это, то воздействие на него примера моих детей было бы еще сильнее. Он понял бы тогда, что мои дети воспитываются так, чтобы, ничего не работая теперь, быть в состоянии и впредь, пользуясь своим дипломом, работать как можно меньше и пользоваться благами жизни как можно больше. Он и понял это и не пошел к мужику убирать скотину и есть с ним картошки с квасом, а пошел в зоологический сад в костюме дикого водить слона за 30 копеек.
Я мог бы понять, как нелепо было мне, воспитывающему своих детей в полнейшей праздности и роскоши, исправлять других людей и их детей, погибающих от праздности в называемом мною вертепом Ржановом доме, где, однако, три четверти людей работают для себя и для других. Но я ничего не понимал этого.
Детей в самом жалком положении было очень много в Ржановом доме: были дети и проституток, были сироты, были дети, носимые нищими по улицам. Все они были очень жалки. Но опыт мой с Сережей показал мне, что я, живя своей жизнью, не в состоянии помочь им. В то время как Сережа жил у нас, я заметил за собой старание скрыть от него нашу жизнь, в особенности жизнь наших детей. Я чувствовал, что все мои старания направить его на хорошую, трудовую жизнь уничтожались примерами жизни нашей и наших детей. Взять ребенка от проститутки, от нищей, очень легко. Очень легко, имея деньги, вымыть, вычистить его и одеть в чистое платье, откормить его и даже научить разным наукам, но научить его зарабатывать свой хлеб нам, не зарабатывающим свой хлеб, а делающим обратное, не только трудно, но невозможно, потому что мы и примером своим, и даже теми материальными, ничего не стоящими нам улучшениями его жизни учим его противному. Щенка можно взять, выхолить, накормить и научить носить поноску и радоваться на него; но человека недостаточно выхолить, выкормить и научить по-гречески: надо научить человека жить, то есть меньше брать от других, а больше давать; а мы не можем не научить его делать обратное, возьмем ли мы его в свой дом или в учрежденный для этого приют.
X
Того чувства сострадания к людям и отвращения к себе, которое я испытал в Ляпинском доме, я уже не испытывал; я весь был переполнен желанием исполнить затеянное мною дело – делать добро тем людям, которых я здесь встречу. И – странное дело! – казалось бы, делать добро – давать деньги нуждающимся – очень хорошее дело и должно располагать к любви к людям, выходило же наоборот: это дело вызывало во мне недоброжелательность и осуждение людей. В первый же обход вечером произошла сцена совершенно такая же, как и в Ляпинском доме, но сцена эта не произвела на меня того же впечатления, как в Ляпинском доме, а вызвала совсем другое чувство.
Началось это с того, что в одной из квартир я нашел именно такого несчастного, которому нужна была немедленная помощь. Я нашел голодную, не евшую два дня женщину.
Это было так: в одной очень большой, почти пустой ночлежной квартире я спросил у одной старушки, есть ли очень бедные здесь, такие, которым есть нечего. Старушка подумала и назвала мне двоих, а потом как будто вспомнила.
– Да вот, никак, здесь лежит, – сказала она, вглядываясь в одну из занятых коек, – так эта, я чай, и точно не ела.
– Неужели? Да кто она?
– Была распутная, теперь никто не берет, так и неоткуда взять. Хозяйка жалела все, а теперь согнать хочет… Агафья, а Агафья! – окликнула старуха.
Мы подошли, и на койке поднялось что-то. Это была полуседая, растрепанная, худая, как скелет, женщина в одной грязной, разорванной рубахе, с особенно блестящими и остановившимися глазами. Она смотрела остановившимися глазами мимо нас, ловила худой рукой за собой кофту, чтобы прикрыть открывшуюся из-за разорванной грязной рубахи костлявую грудь, и как бы взлаивала:
– Чего? Чего?
Я спросил ее, как она живет. Она долго не понимала и сказала:
– Я сама не знаю, гонят.
Я спросил ее, – совестно, рука не пишет, – я спросил ее, правда ли, что она не ела. Она той же лихорадочной скороговоркой сказала, все не глядя на меня:
– Вчерась не ела и нынче не ела.
Вид этой женщины тронул меня, но совсем не так, как это было в Ляпинском доме: там мне от жалости к этим людям тотчас же стало стыдно за себя, здесь же я обрадовался тому, что нашел наконец то, чего искал, – голодного человека.
Я дал ей рубль и помню, что очень был рад, что другие видели это. Старушка, увидав это, попросила у меня тоже денег. Мне так было приятно давать, что я, уже не разбирая, нужно или не нужно давать, дал и старушке. Старушка проводила меня за дверь, и стоявшие в коридоре люди слышали, как она благодарила меня. Вероятно, вопросы, которые я делал о бедности, возбудили ожидания, и за нами ходили некоторые. В коридоре еще у меня стали просить денег. Были из просящих очевидные пьяницы, которые возбуждали во мне неприятное чувство; но я, раз дав старушке, не имел права отказывать и этим, и я стал давать. Пока я давал, подошли еще и еще. И во всех квартирах произошло волнение. На лестницах и на галереях появились люди, следившие за мной. Когда я вышел на двор, с одной из лестниц быстро сбегал мальчик, проталкивая народ. Он не видал меня и быстро проговорил: «Агашке рублевку дал». Сбежав вниз, мальчик присоединился к толпе, шедшей за мной. Я вышел на улицу; разного рода люди шли за мной и просили денег. Я роздал, что было мелочью, и зашел в открытую лавочку, прося торговца разменять мне 10 рублей. И тут сделалось то же, что в Ляпинском доме. Тут произошла страшная путаница. Старухи, дворяне, мужики, дети жались у лавочки, протягивая руки; я давал и некоторых расспрашивал об их жизни и записывал в свою записную книжку. Торговец, заворотив внутрь меховые углы воротника своей шубы, сидел как истукан, изредка взглядывал на толпу и опять устремлял глаза мимо.
В Ляпинском доме меня ужаснула нищета и унижение людей, и я почувствовал себя в этом виноватым, почувствовал желание и возможность быть лучше. Теперь же точно такая же сцена произвела на меня совсем другое: я испытывал, во-первых, недоброжелательное чувство ко многим из тех, которые осаждали меня, и, во-вторых, беспокойство о том, что думают обо мне лавочники и дворники.
Вернувшись домой в этот день, мне было нехорошо на душе. Я чувствовал, что то, что я делал, было глупо. Но, как всегда бывает вследствие путаницы внутренней, я много говорил про затеянное дело, как будто нисколько не сомневался в его успехе.
На другой день я пошел один к тем из записанных мною лиц, которые мне показались жалче всех и которым легче, мне показалось, помочь. Как я говорил уже, никому из этих лиц я не помог. Помогать им оказалось труднее, чем я думал. И потому ли, что я не умел или нельзя, я только подразнил этих людей и никому существенно не помог. Я несколько раз до окончательного обхода был в Ржановом доме, и всякий раз происходило одно и то же: меня осаждала толпа просящих людей, в массе которых я совершенно терялся. Я чувствовал невозможность что-нибудь сделать, потому что их было слишком много, и потому чувствовал недоброжелательность к ним за то, что их так много; но, кроме этого, и каждый из них порознь не располагал к себе. Я чувствовал, что каждый из них говорит мне неправду или не всю правду и видит во мне только кошель, из которого можно вытянуть деньги. И очень часто мне казалось, что те самые деньги, которые он вымогает от меня, не улучшат, а ухудшат его положение. Чем чаще я ходил в эти дома, чем в большее общение входил с тамошними людьми, тем очевиднее мне становилось невозможным что-нибудь сделать, но я все не отставал от своей затеи до последнего ночного обхода переписи.
Мне особенно совестно вспомнить этот последний обход. То я ходил один, а тут мы пошли 20 человек вместе. В 7 часов стали ко мне собираться все те, которые хотели участвовать в этом последнем ночном обходе. Это были почти все незнакомые: студенты, один офицер и два моих светских знакомых, которые, сказав обычное «c’est très intéressant!»,[14]14
это очень интересно! (фр.).
[Закрыть] просили меня принять их в число счетчиков.
Светские знакомые мои оделись особенно, в какие-то охотничьи курточки и высокие дорожные сапоги, в костюм, в котором они ездили в дорогу, на охоту и который, по их мнению, подходил к поездке в ночлежный дом. Они взяли с собой особенные записные книжки и необыкновенные карандаши. Они находились в том особенно возбужденном состоянии, в котором собираются на охоту, на дуэль или на войну. На них яснее видна была глупость и фальшь нашего положения, но и все мы остальные были в таком же фальшивом положении. Перед отъездом произошло между нами совещание, вроде военного совета, о том, как, с чего начинать, как разделиться и т. п. Совещание было совершенно такое же, как в советах, собраниях и комитетах, т. е. каждый говорил не потому, что ему нужно было что-нибудь сказать или узнать, а потому, что каждый выдумывал, что бы и ему сказать, чтобы не отстать от других. Но в числе этих разговоров никто не упоминал о благотворительности, о которой я всем столько раз говорил. Как мне ни совестно было, я почувствовал, что мне необходимо опять напомнить о благотворительности, т. е. о том, чтобы во время обхода замечать и записывать всех тех, находящихся в бедственном положении, которых мы найдем во время этого обхода. И всегда мне было совестно говорить про это, но тут, среди нашего возбужденного приготовления к походу, я насилу мог это выговорить. Все выслушали меня, как мне показалось, с грустью, и при этом все согласились на словах, но видно было, что все знали, что из этого ничего не выйдет, и все опять тотчас же начали говорить о другом. Продолжалось это до тех пор, пока пришло время ехать, и мы поехали.
Мы приехали в темный трактир, подняли половых и стали разбирать свои папки. Когда нам объявили, что народ узнал об обходе и уходит из квартир, мы попросили хозяина запереть ворота, а сами ходили уговаривать уходивших людей, уверяя их, что никто не спросит их билетов. Помню странное и тяжелое впечатление, произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздетые, они все мне показались высокими при свете фонаря в темноте двора; испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой, слушали наши уверения и не верили нам и, очевидно, готовы были на все, как травленый зверь, чтобы только спастись от нас. Господа в разных видах: и как полицейские, городские и деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их и по городам, и по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам, и теперь вдруг эти господа приехали и заперли ворота только затем, чтобы считать их; им этому так же трудно было поверить, как зайцам тому, что собаки пришли не ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники вернулись, мы же, разделившись на группы, пошли. Со мною были два светских человека и два студента. Впереди нас, во мраке, шел Ваня в пальто и белых штанах с фонарем, а за ним и мы. Шли мы в знакомые мне квартиры. Помещения были мне знакомы, некоторые люди тоже, но большинство людей было новое, и зрелище было новое и ужасное, еще ужаснее того, которое я видел у Ляпинского дома. Все квартиры были полны, все койки были заняты, и не одним, а часто двумя. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И, главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которое было в этом положении. Одна квартира, и потом другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нет им конца. И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах; и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет.
Мне было очень больно. В Ляпинском доме я был как человек, который случайно увидал страшную язву на теле другого человека. Ему жалко другого, ему совестно за то, что он прежде не пожалел его, и он еще может надеяться помочь больному, но теперь я был как врач, который пришел с своим лекарством к больному, обнажил его язву, разбередил ее и должен сознаться перед собой, что все это он сделал напрасно, что лекарство его не годится.