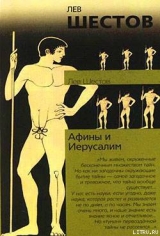
Текст книги "Афины и Иерусалим"
Автор книги: Лев Шестов
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
VI
Здесь я лишь вскользь коснулся Спинозы – подробнее я говорил о нем в другом месте. Мне важно было только оттенить резкую противуположность между поставляемыми себе Платоном и Спинозой задачами. Один видит в философии μελέτη θανάτου (упражнение в смерти) и утверждает, что настоящие философы ничего другого не делали, как άποθνήσκειν και̉ τεθνάναι (приготовляться к смерти и умирать). Для него философия даже не наука, не знание – нельзя же упражнение в смерти назвать наукой, – а что-то совсем иного порядка. Он хочет не обострить, а притупить человеческий «взгляд», которому, по общему мнению, дано находить пути к источникам всех истин. «Разве ты не заметил, – пишет он, – на тех, о которых говорят, что они дурные, но умные люди (τω̃ν λεγομένων πονερω̃ν με̉ν, σοφω̃ν δε̉), какой острый взгляд бывает у такой душеньки, как она хорошо видит то, на что глядит, так как способность видеть у нее немалая, но она принуждена служить злу, и чем острее она видит, тем больше зла она делает» (Госуд. 519a). Способность видеть, Einsicht, intuitio, как бы сама по себе она ни была велика, не приводит человека к истине, наоборот – уводит от истины. Cognitio intuitiva, даваемая разумом и приносящая acquiescentia in se ipso, она же summa est quae dari potest, – Платон превосходно знал, что во всем этом люди видят последнюю мудрость, но он же чувствовал всем существом своим, что под этой acquiescentia in se ipso таится самое страшное, что бывает в жизни. Он учился у Сократа и о своем учителе рассказал нам, что сам Сократ называл себя оводом (μύωφ) и видел свою задачу не в том, чтоб успокаивать людей, а в том, чтоб непрерывно их жалить и поселять в их душе неистребимую тревогу. Спинозовское ratio приносит людям acquiescentia in se ipso, да еще такое успокоение, которое maxima est quae dari potest, – это значит, что ratio несет с собой величайшую опасность, с ней же нужно бороться денно и нощно, не останавливаясь ни пред какими трудностями и жертвами. Платон – отец диалектики, и сам был наделен немалым даром видения. Но источником его философского постижения отнюдь не была ни диалектика, ни искусство различать там, где другие ничего не различают. И видение и диалектика могут быть на службе у «зла» – и тогда какой в них прок? Чем больше мы видим, тем больше мы погружаемся в зло, и совершенное видение привело бы к окончательному воцарению зла в мире. Об этом, только об этом и говорит нам платоновская притча о пещере. Обитатели пещеры ясно и отчетливо видят все, что пред ними проходит, но чем тверже и прочнее доверяют они тому, что видят, тем безнадежнее их положение. Им нужно искать не ясности и отчетливости, не твердости и прочности. Наоборот, им нужно испытать величайшее подозрение, огромную тревогу, нужно сделать предельное душевное напряжение, чтоб порвать те цепи, которыми они прикованы к месту своего заключения. Ясность и отчетливость, столь соблазняющая всех (не только Декарта – Декарт дал формулу, но люди до него и без него соблазнились) и представляющаяся всем гарантией истины, Платону кажется тем, что закрывает от нас истину навсегда. Ясность и отчетливость притягивают нас не к действительному, а к иллюзорному, не к существующему, а к тени существующего. Если вы спросите, откуда взял это Платон, как догадался он, такой же обитатель пещеры, как и все прочие, что то, что он видит, есть не действительность, а только тень действительности, и что где-то за пределами пещеры начинается настоящая жизнь, – вы ответа на свой вопрос не получите. Доказать этого Платон не может, хотя, нужно признаться, он из сил выбивается, чтоб найти доказательства. Для этого он и диалектику выдумал и во всех своих диалогах всячески старается диалектическим путем принудить своих воображаемых собеседников к признанию истинности своего откровения. Но тут-то, именно тут, потому и постольку, поскольку Платон хотел сделать из открывшегося ему принудительную и для всех обязательную истину, он и обнажил себя для критики Аристотеля. Когда дело дошло до α̉ναγκάζειν и α̉ναγκάζεσθαι (до принуждения), Аристотель, и не только Аристотель, но и Эпиктет оказались непобедимыми. У нас нет способов принудить человека признать, что его действительность не действительна. Наоборот, как мы помним, все средства принуждения на стороне тех, кто видит в действительности действительность, и притом окончательную и единственно возможную. Эта действительность достаточно защищена от попыток опорочить ее не только эпиктетовскими угрозами, но и всемогущим законом противоречия. Усомнившийся в действительности усомнился и в своем сомнении, ибо и он, сомневающийся, и все его сомнения принадлежат к этой действительности. Платону был отлично известен этот неотразимый аргумент, которым впоследствии соблазнились столь мало как будто похожие один на другого люди, как бл. Августин и Декарт. Платон сам пользовался им не раз в борьбе с софистами и отлично понимал, что его притча о пещере, как и вся его теория идей, «насквозь пропитана противоречиями». Понимал и все же от своих «идей» не отказывался и всю жизнь рвался прочь из пещеры. В чем же тут дело? Или μελέτη θανάτου (упражнение в смерти) несет человеку загадочный дар не бояться даже самого закона противоречия? Научает вообще ничего не бояться и πάντα τολμάν (дерзать на все)? Диалектика ни Платону, ни его откровениям вовсе и не была нужна, и он к ней прибегал не столько потому, что его откровения не могли без нее обойтись, сколько потому, что без нее не могли обойтись люди, пред которыми Платон пытался выводить свои истины, люди, приученные думать, что, по природе вещей, где нет силы, там нет и правды, что сила, когда ей вздумается (по своему капризу), разрешает правде «быть», а то и не разрешает, а сама существует, ни у кого (и менее всего у правды) не испрашивая согласия и соизволения. В терминологии Спинозы: нужно искать.
Этот вопрос проходит через все произведения Платона, но нигде у него он не поставлен с такой резкостью и обнаженностью, как в «Федоне», в котором он нам рассказал, что философия есть μελέτη θανάτου (упражнение в смерти). И это, конечно, не случайность: пред лицом ожидающего казни Сократа другие разговоры немыслимы. Если точно философия есть μελέτη θανάτου – то еще можно готовящемуся к смерти человеку размышлять и философствовать. Если же «истина» у Спинозы и homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat, то приговор судей уже навсегда закрыл уста Сократу – еще до того, как он выпил чашу с ядом. Человеческое мышление, которое хочет и может глядеть в глаза смерти, есть мышление иных измерений, чем то, которое от смерти отворачивается и о смерти забывает. Иначе говоря: в плоскости разума истины, которых искал Платон, не вмещаются. Они предполагают новое, не учитываемое обычно измерение. Когда Платон стал пред дилеммой: vera philosophia и philosophia optima, он сделал, не колеблясь, выбор: vera philosophia ему не нужна, он ищет и добивается philosophia optima. Если бы его спросили: кто дал ему право выбирать, если бы от него потребовали того, что у юристов называется justus titulus и за чем обычно гоняются все философы, он, наверное, не умел бы, а может, и не захотел бы на такой вопрос отвечать. Или ответил бы вопросом на вопрос: да кому вообще присвоено право раздавать то, что юристы, т. е. люди, по своему назначению и по своему душевному складу призванные защищать открывшуюся им в пещере мнимую реальность, называют словом justus titulus.[17]17
Законное основание (лат.).
[Закрыть] И в самом деле: кто или что вершает судьбы людей? Пока на этот вопрос не будет ответа, все наши истины будут иметь только условное значение. И потом мы говорим «кто» или «что». Это значит: может быть, justi tituli отданы в распоряжение живого, чувствующего, выбирающего существа, а может быть, они во власти чего-то, чему вообще ни до кого и ни до чего нет дела. Оно безвольно, равнодушно, автоматически, ничего не слушая и ни с чем не считаясь, выносит свои окончательные приговоры, на которые и апеллировать некуда. И если оно, это безразличное и равнодушное «что», есть источник и жизни, и истины, то какой смысл, какое значение имеет человеческий выбор? Не есть ли в таком случае выбор только самообман, самовнушение, бесстыдная дерзновенность, которая неизбежно должна обнаружиться и жестоко покараться при первом столкновении человека с действительностью? Сколько бы мы ни продолжали наши вопросы, явно, что в той плоскости, в которой они родились и выросли, мы не получим желанного ответа. Или, лучше: в этой плоскости ответ заранее предрешен. Никакого «кто» нет у источника бытия, стало быть, никакого «кто» нет и у источника истины. Или, если был там когда-то «кто», то он уже давно, в незапамятные времена, отрекся и от себя и от своих суверенных прав, предав их в вечное пользование неодушевленного «что», из мертвой хватки которого никакая смелость, никакое дерзновение уже не вырвет доставшейся ему власти. В этом смысл semper paret, semel jussit, в этом смысл всех тех α̉ναγκάζειν и α̉ναγκάζεσθαι (принуждений), о которых у нас шла речь выше. Рассуждения и диалектика, как просьбы и убеждения, тут равно не помогут. Раз истинная реальность находится в двухмерной плоскости «что» и раз мышление соответственно этому знает только два измерения (ει̉ναι – νοει̃ν), то выхода быть не может: придется отказаться от выбора, принести повинную ’Ανάγκη и уже не принимать истин без ее согласия и соизволения. Необходимость выбора не разрешает – если хочешь обрести право и свободу выбора, нужно покинуть ту плоскость, где осуществляется ее власть, не останавливаясь ни пред какими невозможностями, и, прежде всего, раз навсегда пренебречь всеми justi tituli, сковавшими не только наше мышление, но и бытие наше. Никого и ничего не спрашивая, по собственному почину противупоставить ’Ανάγκη, которая не слышит убеждений, властное τη̃ς ε̉μη̃ς βουλήσεως (по моей воле). Так чтобы аристотелевский Παρμε̉νίδης α̉ναγκαζόμενος превратился в Парменида, который говорит ωσπερ ε̉ξουσίαν ε̎χων (как власть имеющий). Как написано: царство Божие берется силой.
Скажут: это значит бороться с самоочевидностью. Но Платон всю свою жизнь только и делал, что боролся с самоочевидностью. Чтоб одолеть ее, он пошел к тем отдаленным окраинам бытия, куда никто не ходит, где, по общему убеждению, никакой жизни нет и быть не может, где вообще ничего нет, где владычествует полагающая всему конец смерть. Это тоже, конечно, великое, величайшее дерзновение, последнее бесстыдство, на которое способен человек. Но как иначе добыть право на τη̃ς ε̉μη̃ς βουλήσεως (по моей воле)? Что α̉νάγκη α̉μετάπειστόν τι ει̉ναι для Платона, повторяю еще раз, было так же неоспоримо, как и для Аристотеля. Но что такое смерть – этого никто не знает. Она страшна на вид, это правда. Но τα̉ καλα̉ χαλεπά (прекрасное – трудно). Этого и Спиноза не отрицал: omnia praeclara tarn difficilia quam rara sunt (все прекрасное так же трудно, как и редко), так заканчивает он свою этику. Может быть, за трудностями и ужасами смерти кроется что-либо, что нам нужнее, чем легкость и приятность обыденной жизни? Терять уже нечего: к ’Ανάγκη ходили, ее выспрашивали и упрашивали, она не сдвинулась и не сдвинется со своего места. Пока она останется у власти, суждение, что отравили Сократа, будет такой же вечной истиной, как и суждение, что отравили бешеную собаку. А если сдружиться со смертью, если пройти сквозь игольное ушко последнего страшного одиночества, оставленности и отчаяния – может быть, удастся вернуть заветное τη̃ς ε̉μη̃ς βουλήσεως, то древнее, изначальное, властное jubere, которое мы променяли на безвольное, автоматическое, но спокойное parere. Надо преодолеть страхи, надо, собрав все свое мужество, пойти навстречу смерти и у нее попытать счастья. Обычное «мышление», мышление человека «повинующегося» и отступающего пред угрозами нам не даст ничего. Первый шаг: приучить себя не считаться с «достаточным основанием». Пусть Эпиктет или кто угодно грозит, что он обрежет нам уши, выколет глаза, заставит пить уксус или цикуту, – мы не станем слушать его угроз, как необходимость не слушает наших увещаний. «Душа человека при сильной радости или сильной скорби по поводу чего-нибудь, – говорит Платон, – принуждена (α̉ναγκάζεσθαι) то, по поводу чего она это испытывает, считать наиболее очевидным и совершенно истинным, хотя это и не так обстоит… Каждое удовольствие и каждое огорчение имеет при себе точно гвоздь и прибивает душу к телу, и прикрепляет ее, и делает ее подобной телу, так что она начинает думать, что то истинно – что тело считает истинным».[18]18
Федон 83d.
[Закрыть] Платон, точно вперед обороняясь против Аристотеля и Эпиктета, для которых α̉ναγκάζειν (принуждение) и бесчисленные λυπηθη̃ναι[19]19
Скорби (греч.).
[Закрыть] (выколотые глаза, обрезанные уши, уксус, цикута и т. д.) были последней инстанцией для разрешения спора между истиной и ложью, пытается не возражать им, а уйти из тех мест, где такого рода аргументация имеет и может иметь силу. «Тело» и все, что с телом, покорно необходимости и страшится ее угроз. И, пока человек боится, его можно пугать и, напугавши, принудить к повиновению. Но для «философа», который побывал на окраинах жизни, который прошел школу смерти, для которого α̉ποθνήσκειν (умирание) стало реальностью настоящего и τεθνάναι (смерть) такой же реальностью будущего, страхи не страшны. Смерть он принял и со смертью сдружился. Ведь умирание и смерть, ослабляя телесный глаз, в корне подрывает власть ничего не слышащей ’Ανάγκη и всех тех самоочевидных истин, которые этой ’Ανάγκη держатся. Душа начинает чувствовать, что ей дано не покорствовать и повиноваться, а водительствовать и повелевать (α̎ρχειν και̉ δεσπòζειν, Фед. 64a), и в борьбе за это свое право она не побоялась перелететь за ту роковую черту, где кончаются все ясности и отчетливости и где обитает Вечная Тайна. Ее sapientia уже не meditatio vitae, a meditatio mortis.
VII
Таков был путь, пройденный Платоном. В «Федоне» Сократ рассказывает, что в молодости ему пришлось присутствовать при чтении отрывков из творений Анаксагора и что, когда он услышал, что разум есть устроитель и зачинатель всего (νου̃ς ἐστιν ὁ διακοσμω̃ν τε καὶ πάντον αι̎τιος), он безмерно обрадовался и сказал себе, что это как раз то, что ему нужно, и что ни на какие сокровища в мире он не променял бы такого учения. Признать за разумом такую власть значило, по его мнению, что разуму для всего и для каждого дано найти то, что будет для него наилучшим. Соответственно этому человек вправе ждать и для всего, и для себя только того, что будет наиболее удачным и хорошим. Каково же было его разочарование, когда, прислушавшись к словам Анаксагора, он убедился, что его «разум» ищет и находит в мире только естественную связь явлений! Сократу это показалось нестерпимо обидным, и он, отвернувшись от Анаксагора, стал за свой страх допытываться о начале и источниках всего существующего. По какому праву Сократ так рассудил? Подрядился, что ли, разум дать Сократу такое объяснение вселенной, при котором «лучшее» оказалось бы самым сильным? Разве в идею разума дано нам вложить силу находить везде только хорошее, а не то, что есть, т. е. и хорошее и дурное? Мы не вправе, т. е. не имеем никакого основания вперед с уверенностью рассчитывать, что разум найдет в мире больше хорошего, чем дурного. Может случиться, что он найдет больше хорошего, а может быть, больше дурного, и даже много, очень много дурного. Аристотель тоже знал Анаксагора, но ему Анаксагор был по душе, он казался ему единственно трезвым между пьяными. Разве, повторяю, понятие о разуме должно покрыться понятием о лучшем? Скорей наоборот, понятие о лучшем должно выводиться из понятия о разумном. Лучшее может быть неразумным, а разумное исключать лучшее. Совершенно разумно – чтобы не брать новых примеров, – что суждение «отравили Сократа» есть такая же вечная истина, как суждение «отравили бешеную собаку», и так же разумно, что к признанию истинности этого суждения равно принуждается и одаренный сознанием камень, и божественный Платон, который бы все на свете отдал, чтоб вырвать из когтей вечной истины своего несравненного учителя. Таких примеров можно привести без счету – и разве Платон и Сократ не знали этого так же, как и мы? Они, если бы захотели, могли бы сказать, как теперь говорят: «низшие категории бытия суть более сильные, высшие – более слабые». И это было вполне «разумно», хотя хорошего тут мало, хотя в этом нет совсем ничего хорошего. Хорошо было бы, если бы высшие категории были более сильными. Но требовать от разума, чтоб он признал, что высшие категории есть самые сильные, – значило ли бы насиловать (α̉ναγκάζειν) разум? И разве разум покорится силе, откуда бы она ни пришла? Можно было говорить, как нам говорили Παρμενίδης α̉ναγκαζόμενος (Парменид принуждаемый), даже Θέος α̉ναγκαζόμενος (Бог принуждаемый), но сказать νου̃ς α̉ναγκαζόμενος (разум принуждаемый) – хотя бы и самим добром, как бы мы добро ни превозносили, если бы мы даже решились, вслед за Платоном, утверждать «οὐκ οὐσίας ο̎ντος του̃ α̉γαθου̃, αλλ’ε̎τι ε̉πέκεινα τη̃ς οὐσίας πρεσβεία̃ και δυνάμει ὑπερέχοντος»[20]20
Добро не есть сущность, но то, что за сущностью и превосходит сущность и достоинством и силой…
[Закрыть] – кто посмеет сказать такое? Кто решится утверждать, что истина «Сократа отравили» в близком или отдаленном будущем перестанет существовать и что (сейчас это самое для нас главное) сам разум должен будет это признать, хотя и не по своему почину, а по принуждению (α̉ναγκαζόμενος) чего-то, что его превосходит силой (ὑπερέχοντος δυνάμει)? Есть такая сила, которая повелевает и над истинами?
Не может быть двух мнений: такой силы нет.
И все же Платон этой силы искал и за этой силой шел туда, где, по общему убеждению, ничего нельзя найти: к смерти. Но нужно признаться: Платон не нашел того, что искал. Или так, пожалуй, вернее будет: Платону не удалось донести и до людей то, что он нашел за пределами возможного знания. Когда он пытался показать людям обретенное им, оно на его глазах загадочным образом превращалось в свою противуположность. Правда, и это «противуположное» пленяет и чарует нас тем отблеском неизреченного, который будит в смертных воспоминания об изначальной безмерной и сверхъестественной полноте и красоте бытия. Но неизреченное осталось неизреченным. «Творца мира увидеть трудно, а показать его – невозможно». Неизреченное есть потому и постольку неизреченное, что оно, по своей природе, противится – не воплощению вообще, как мы склонны думать, – а окончательному, последнему воплощению. Оно воплощается, но не может и не хочет превратиться в знание, ибо знание – есть принуждение, принуждение же есть подчинение, лишение, отнятие, в последнем счете таящее в себе страшную угрозу, acquiescentia in se ipso, – человек перестает быть человеком и становится одаренным сознанием камнем. Παρμενίδης α̉ναγκαζόμενος υπ’αὑτη̃ς τη̃ς α̉ληθείας. Парменид, оглянувшийся на истину, уже не есть больше тот Парменид, который, как впоследствии Платон, отваживался идти в никому не известную, только обетованную людям страну за золотым ли руном или за иным, не похожим на виденные людьми сокровищем, не есть больше живой, мятущийся, беспокойный, непримиримый, а потому великий Парменид. Голова Медузы, которую он увидел, обратившись назад, принесла ему высшее возможное, последнее успокоение. Τη̃ς δὲ του̃ ο̎ντος θέας, οίαν ἡδονήν ε̎χει, ἁδύνατον α̎λλϖ̨ γεγευ̃σθαι πλήν τϖ̨ φιλοσόφω̨,[21]21
Какое удовольствие в созерцании сущего – этого никому, кроме философа, вкусить не дано (Госуд. 582c).
[Закрыть] – пишет сам Платон. Но ведь он же нам разъяснил, что такое ἡδονή (удовольствие): удовольствие есть гвоздь, которым человек прибивается к своему тенеподобному, смертному бытию. И если созерцание приносит «удовольствие», то каково бы ни было само по себе это созерцание, нам уже не дано избежать роковой расплаты.
А Платон, словно нарочно, словно бы он хотел подчеркнуть, что дальше «удовольствия» человеку не дано идти, что удовольствие есть награда и цель всех наших борений, на следующей странице опять повторяет: «всякое удовольствие (ἡδονή), кроме того, которое испытывает разумный человек, не есть чистое, а только тенеподобное». И дальше он еще с большим подъемом и вдохновением распространяется об удовольствии (ἡδονή), которое нам приносит все то же созерцание (585e, 586a). Все, что впоследствии Аристотель с таким пафосом говорил на тему ἡ θεωρία τò η̎διοτον και α̎ριστον (созерцание есть самое приятное и самое лучшее), взято им полностью у Платона. И у Плотина мы находим немало красноречивых страниц в таком же роде. ‘Ηδονή, удовольствием, человек действительно, точно огромными гвоздями, приколачивается к тому месту бытия, где ему случайно пришлось начать свое существование. И соответственно этому страхи, вооруженные угрозами всяких бед, не дают ему даже хотя бы в воображении оторваться от почвы и подняться над плоскостью, которую наше мышление приучилось считать вмещающей все действительное и все возможное. У нас сохранилось и все возможное. У нас сохранилось загадочное изречение Гераклита: τφ̃ μὲν θεω̃ καλὰ πάντα καἰ α̉γαθὰ καὶ δίκαια, α̉νθρωποι δὲ α̎ μέν α̎δικα ει̃ναι ὑπειλήφασιν, α̎ δὲ δίκαια: для Бога все хорошо и все справедливо, люди же одно полагают справедливым, другое несправедливым. И у Плотина эта мысль еще чаще встречается: он ее повторяет в последней, хронологически, Эннеаде (I, 7, 3): τοι̃ς θεοι̃ς α̉γαθòν μέν ε̉στι, κακòν δέ οὐδέν (для богов есть хорошее, нет дурного) – и в (I, 8, конец): κακòν οὐδαμου̃ ἐνταυ̃θα («там» нет дурного), – словно перекликаясь с не менее для нас загадочным библейским «добро зело». Но эта «нелепая», и в своей нелепости соблазнительная, мысль не уживается в том мире, где дана власть «удовольствиям» и «огорчениям», где удовольствия и огорчения являются «достаточным основанием» для поступков и мышления человека, где они определяют собою все, что имеет важность и значение для нас. Ведь тоже «основной закон», что удовольствия и огорчения здесь, на земле, приходят не тогда и не постольку, поскольку человек их позовет, – а когда им вздумается овладевают душой человека и, как нас учил Платон, приковывают его к заранее уготованному ему в подземелье месту, внушая ему непреоборимое убеждение, что так всегда было и всегда будет и что даже у богов все происходит, как на земле, что удовольствия и огорчения водят и повелевают, а ими никто не водит и никто над ними не повелевает.
На языке Спинозы, удачи и неудачи равно выпадают и на долю благочестивых, и на долю нечестивых. Сократовское же уверение, что с дурным не может приключиться ничего хорошего, а с хорошим ничего дурного, – есть «пустая болтовня» и «поэтический образ», который он подобрал где-то на большой дороге или в еще худшем месте (Сократ ведь ходил куда придется и ничем не брезгал) и которого не найдешь у того источника, откуда текут для человека вечные истины. Нетрудно и догадаться, где нашел Сократ свою мнимую истину и к какому источнику он ходил за ней. Она явно вытекла из τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως (по моей воле), из изначального jubere – о нем же и люди и боги забыли и вспоминать не смеют. Убеждение Сократа родилось из его желания, а что хорошего может принести идея, имеющая такое низкое происхождение? Сократ и от Анаксагора отошел только потому, что Анаксагор возносил νου̃ς, не считающийся с человеческими желаниями и равнодушный к «лучшему». Повелевать в мире никому не дано, не дано даже богам. Вселенная держится на послушании. Νόμος ὁ πάντων βασιλευ̃ς θανατω̃ν καὶ α̉θανάτων – закон царь над всеми, смертными и бессмертными (Горгий, 484b). Из этого никак не вырваться: куда ни взглянешь, везде законы, требования, повеления, держащиеся на «достаточном основании», о котором мы столько слышали от Аристотеля и Эпиктета. Платон и Сократ захотели и посмели бросить вызов законам и необходимости, ставили против них τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως. Но – и это самое потрясающее и самое таинственное из всех «но», которые когда-либо ограничивали человека, – от ἡδονή (удовольствия) они отказаться не могли, хотя бы от того ἡδονή, которое составляет сущность и содержание acquiescentia in se ipso. Да как быть иначе? Если τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως, и поскольку τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως (с моего соизволения) оставалось самим собой – его показать нельзя, как нельзя показать людям и того демиурга, который является источником всех τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως. Никакой глаз, ни телесный, ни духовный, не может увидеть ни демиурга, ни исходящих от него повелений. Тут видения кончаются, тут начинается загадочная область не менее загадочного причастия, участия. Тут и принуждения кончаются, ибо повеления демиурга, в противуположность повелениям ко всему равнодушной ’Ανάγκη, никого не принуждают. Они вызывают к бытию, одаряют, нежданно обогащают. Чем больше повелевает демиург, тем меньше нужно повиноваться. Демиург зовет к последней свободе скованного цепями Необходимости человека. Он даже не боится – как это ни странно для человеческого, покоящегося на страхах мышления, но демиург ничего не боится – отдать всю свою беспредельную мощь и все свои тоже беспредельные творческие силы другому существу, которое он сам создал по своему образу и подобию. Для Бога все добро зело, τω̃ μὲν θεω̃ πάντα καλὰ καὶ ἀγαθά. Для людей иначе: для них «добро зело» – величайшая нелепость. «Повседневный опыт» учит, что всего нужно бояться, что все, что нас окружает, таит в себе безмерные опасности.
И от этих опасностей мы отсиживаемся за возведенными нами же самими стенами «вечных», «самоочевидных истин». У Платона, у самого Платона, несмотря на его отчаянную борьбу с ’Ανάγκη, где-то, в последних глубинах его души, жило неистребимое убеждение, что α̉νάγκη α̉μετάπειστόν τι ει̃ναι (что необходимость не слушает убеждений), что можно иной раз обмануть ее бдительность, обойти ее – но вырваться окончательно из ее власти никому не дано. Без ἡδονή, без «удовольствия» не проживешь – a ἡδοναί (удовольствия) приходят и уходят не когда нам вздумается, а когда им вздумается. И, если хочешь их иметь, нужно идти за ними ко всемогущей ’Ανάγκη, нужно скрепя сердце отречься от суверенного jubere и вернуться к издревле признанному parere. Как только Платон отворачивался от демиурга, хотя бы затем, чтобы показать его другим, показать его всем, τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως бледнело, превращалось в тень, в призрак, но, когда Платон причащался, открывал демиурга, он терял возможность и способность давать людям «обоснованные» истины. Причастие предполагает φυγὴ μόνου πρòς μόνον, бегство единого к Единому, как впоследствии говорил Плотин. Оно начинается с α̉λήθινή ε̉γρήγορσις (истинного пробуждения) и уносит человека ε̉πέκεινα νου̃ καὶ νοήσεως (за пределы разумного знания), за пределы того «данного» раз навсегда мира, который является «условием возможности» знания и где условия возможности знания создаются специально для того существующей ’Ανάγκη, не слушающей и не слышащей убеждений.
И точно, если бы ’Ανάγκη не была глухой и слепой, идея знания потеряла бы всякий смысл. Истина не могла бы быть adaequatio rei et intellectus, ибо как равняться по вещи, раз вещь не в руках и распоряжении ничего не слушающей и потому всегда неизменной необходимости, а зависит от воли уступчивого, слушающего убеждения, стало быть, «капризного» существа (кантовские Deus ex machina, ein höheres Wesen)? Изгоните из мира Необходимость – и знание станет столь же неосуществимой, сколь и ненужной мечтой. Сейчас, как мы помним, даже опытные, апостериорные суждения добились высокого сана вечных истин, а уйдет ’Ανάγκη, и априорным суждениям придется записаться в мещанское, даже мужицкое сословие преходящих существ. И у богов, не только у людей, не будет всеведения. Можно принять такое положение вещей? ‘Η θεωρία τò η̎διοτον καὶ α̎ριστον (созерцание – самое приятное и самое лучшее) – только что слышали мы от Аристотеля. Да и Платон нам то же говорил. Но ведь зато вернется τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως – изначальная свобода. И τò α̎ριστον (лучшее), как τò ηδιοτον (приятное) будут приходить не когда им вздумается, а когда мы их позовем!
И ἡδοναί не станут, как цепи, приковывать нас к каторжным точкам, а вместе с нами переселятся в тот мир, где не законы владычествуют над смертными и над бессмертными, а где бессмертные и, с их божественного соизволения, созданные ими смертные сами творят и сами отменяют законы, где суждение «отравили бешеную собаку» действительно есть вечная истина, но суждение «отравили Сократа» окажется истиной временной, преходящей, где и для людей πάντα δίκαια καὶ πάντα καλά, где все зело добро… Еще раз скажу: Платон этого и только этого добивается: вырваться из пещеры, где тени кажутся действительностью и где на призрачную действительность нельзя глядеть, ибо она окаменяет. Ведь точно, нужно, чтобы наши телесные глаза разучились видеть, если нам суждено пробраться в ту область, где живут боги с их τη̃ς ἐμη̃ς βουλήσεως (ничем не ограниченной свободой) и без нашего знания, даже без совершенного знания, которое мы именуем всеведением. Платон, говорю, этого лишь искал. Но ’Ανάγκη оказалась не только не слушающей убеждений. За долгие тысячелетия своего существования и общения с людьми, над которыми ей дано было властвовать, она заразилась от них сознанием. Спинозовский смелый образ нам вновь пригодится. Не только многие люди превращаются в одаренные сознанием камни, сама ’Ανάγκη, сохранив свою каменную, ко всему безразличную природу, обзавелась сознанием. И обошла даже Платона, убедив его, что и в «ином» мире можно существовать только тому, кто с ней поладил, что с Необходимостью и боги не борются, что мир произошел от соединения разума с Необходимостью. Правда, разум во многом убедил Необходимость, как будто даже над Необходимостью возобладал (νου̃ δὲ α̉νάγκης α̎ρχοντος) – но возобладание было мнимое и обусловливалось молчаливым признанием за Необходимостью ее первичных прав и даже первородства. Больше того: чтоб «возобладать» над Необходимостью, разуму пришлось уступить в самом главном и самом существенном, пришлось согласиться, что все споры между истинами решаются βία̨ – силой и что истина есть только тогда и только потому истина, что ей дано принуждать людей. Через телесные глаза люди привязываются к месту своего заключения, τη̃ς διανοίας ο̎ψις (духовное зрение) тоже должно привязывать, принуждать, α̉ναγκάζειν. К умирающему Сократу сошлись его преданные ученики затем, чтоб получить от него не просто истину, а принуждающую истину, правда, принуждающую не через телесные, а через духовные глаза, но от того не только не ослабленную, а усилившуюся в своей принудительности. Сократ пред лицом смерти – приготовляясь к смерти и умиранию – доказывает, доказывает, доказывает. Иначе нельзя, τοι̃ς πολλοι̃ς α̉πιστία παρέχει (людям свойственно неверие): если не докажешь, οἱ πολλοί (люди) не поверят. Но кто эти πολλοί, эти «все люди»? Ученики Сократа ведь не πολλοί, а избранники? Но и избранники не составляют исключения, и они не хотят, не могут «верить». Οἱ πολλοί – это «все мы»: не только «толпа», но и ученики Сократа, не только ученики Сократа, но и сам Сократ. И он хочет прежде увидеть, хотя бы через τη̃ς διανοίας ο̎ψις, через oculi mentis, а потом принять и поверить. Оттого принявший его духовное наследие божественный Платон до конца дней своих не мог отказаться от диалектики. Диалектика есть такая же «сила», как и сила физическая, есть такое же смертоносное оружие, как меч или стрела. Нужно только владеть им, и весь мир будет у твоих ног. Весь мир, т. е. все люди. Все люди будут принуждены повторять то, что ты возвестил как истину. Повторяю и настаиваю: пред лицом всех Сократ и Платон не решались идти к источнику «своих» истин; пред лицом всех и они становились как все, как те οἱ πολλοί, о которых сказано, что им свойственно неверие, которые принимают только доказанную, нудящую истину, истину видимую, видную, самоочевидную. Там, где предел «видимого» – духовному ли, физическому ли – глазу, там искать и оттуда ждать нечего. Под давлением Необходимости Сократу пришлось пойти на эту уступку: τὴν δὲ του̃ ο̎ντος θέαν (видение сущего) и ἡδονή (удовольствие), связанное с видением сущего, он предложил ученикам своим вместо многочисленных ἡδονή, связанных для обитателей пещеры с восприятием той пещерной действительности, в которой Платон в какой-то загадочный момент своей жизни вдруг почувствовал присутствие разлагающих элементов уничтожения (damnatio aeterna).








