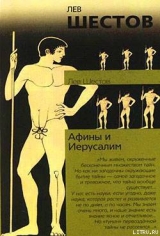
Текст книги "Афины и Иерусалим"
Автор книги: Лев Шестов
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
VII
Идея финализма, идея всемогущества Бога, создавшего и благословившего человека, одушевляла Св. Писание. Но уже средневековье с трудом мирилось с логикой Библии, на каждом шагу оскорблявшей навыки разумного человеческого мышления. Вряд ли будет преувеличением, если я скажу, что схоластики, призвавшие Аристотеля владеть и княжить во всех областях теологии, думали про себя то, что впоследствии громко сказал Спиноза: «Deus non volebat Israelitas suae essentiae absoluta attributa docere, sed eorum animum contumacem fragere et ad oboediantiam trahere; ideoque non rationibus, sed turbarum strepitu, tonitru et fulminibus eosdem adorsus est» (Tract. theol.-polit. XIV. – Бог не хотел учить израильтян атрибутам своего естества, но сломить их упорство духа и привести к повиновению. Оттого Он действовал на них не разумными доводами, а трубными звуками, громом и молниями). И ведь точно: библейский Бог нимало не похож на Аристотеля: вместо разумных доводов – трубные звуки, громы, молнии. И так во всем Св. Писании – начиная от книги Бытия и кончая Апокалипсисом: логике человеческого разумения противуставляется властное fiat и оглушающие громы. Спиноза, со свойственной ему добросовестностью и решительностью, делает из этого вывод, что «inter Fidem sive Theologiam et Philosophiam nullum esse commercium nullam affinitatem… Philosophiae enim scopus nihil praeter veritatem, fidei autem nihil praeter oboedientiam et pietatem» (Tract. theol.-polit. XIV – между верой или теологией и философией нет ничего общего, ничего родственного… ибо цель философии только истина, цель же веры исключительно – повиновение и благочестие). Бесспорно: философия с теологией не имеют, не хотят и не могут иметь ничего общего. Это должен признать равно и философ, и теолог, если у них найдется достаточно мужества, чтоб выразить в словах глубочайший человеческий опыт, или, лучше сказать, если им дано было испытать на своем опыте те столкновения разных порядков человеческого мышления и бытия, при которых вспыхивают последние человеческие прозрения. Лютер был бесконечно далек от Спинозы, но в его учении о вере и свободе воли мы встречаем те же мысли – и притом выраженные почти в тех же словах, как и у Спинозы. Спиноза ссылается на Исход XX, 15. Лютер на Иеремию: «Verbum Dei malleus est, conterens petras» (Jer. XXIII, 29. – Слово Божие… молот, который сокрушает скалы), и на III Reg. 19, 11–13, по поводу которого он пишет: «Lex est malleus qui content petras, ignis, ventus et commotio ilia grandis et fortis, quae conterens petrus et subvertens montes» (Gr. Gal. Komm: WAI, S. 483. – Закон – молот, сокрушающий скалы, огонь, ветер, и то великое и сильное потрясение, что сокрушает скалы и раздирает горы). Есть, правда, существенное различие между Лютером и Спинозой, которое нам необходимо, для выяснения отношения свободы к знанию, выявить с возможной отчетливостью. И Лютер, и Спиноза вынесли из своего внутреннего опыта глубочайшее убеждение, что человеческая воля не свободна. И оба тоже были твердо уверены, что между верой и философией нет ничего общего. Но в то время как Спиноза утверждал, что у философии нет иной цели, кроме истины, а цель теологии – благочестие и повиновение, Лютер со всей силой и страстью, которые являются у человека, когда он борется за свое последнее и самое ценное достояние, не говорил, а не своим голосом кричал, что источником истины является не приносимое человеку его разумом знание, а вера, одна только вера. Покажется странным, но смысл всего, чему учил Лютер, исходил из его убеждения, что цель философии – не истина, а повиновение и благочестие, истина же добывается только верой, sola fide. У Лютера, вдохновлявшегося Св. Писанием, иначе и быть не могло: мы помним, что даже Гегель в плодах с дерева познания видел принцип философии для всех будущих времен. А эти плоды принесли человеку именно умение различать между добром и злом и обязанность подчиняться законам добра. Так что если Сократ в древности и Спиноза в наше время вкусили от этих плодов, то этим самым они уже отреклись от истины и подменили ее чем-то совсем иным. Вместо истины человечество получило «послушание и благочестие». Над миром стал господствовать безличный и безразличный ко всему закон, в добровольной покорности которому и смертные люди и бессмертные боги должны находить свое высшее удовлетворение.
Конечно, как я уже указывал, тут и Сократ, и Спиноза, несмотря на их беспримерную в истории мысли интеллектуальную добросовестность, все же принуждены были кривить душой. Сократу не удалось (и в глубине души он это чувствовал) перекинуть мост от знания к добродетели. Не удалось и Спинозе удержаться на высоте математического метода: его до конца жизни тревожило сознание, что человек, утратив свободу, этим самым превратился из res cogitans в asinus turpissimus. Но оба они так были зачарованы идеей господствующей в мире закономерности и от века существующего порядка, что всякое проявление человеческой свободы казалось им равно безумным и кощунственным. Соблазненные, как был соблазнен и первый человек магическим «будете, как боги», они соглашались на все, соглашались, хотя их согласие было уже не свободным актом, а подневольным приспособлением к готовым условиям бытия. «Кто руководится одним разумом» свелось к тому, чтоб заставить и себя, и других отречься навсегда от свободы и, загнав на самое дно души нестерпимую обиду (asinus turpissimus), прославлять Бога, который не знает цели, и человека, который в единении с не знающим цели Творцом готов с душевным спокойствием сносить превратности судьбы и в этом находить acquiescentiam in se ipso или «блаженство».
Конечно, если бы Сократ или Спиноза захотели бы до конца осуществить идеалы человека, который руководится одним разумом, – им бы не следовало и заикаться об acquiescentia и beatitudo! Зачем acquiescentia? Почему ей отдавать предпочтенье пред беспокойством? Предпочтению нет и не должно быть места в философии. Философия, как и математика, ищет не лучшего, а истинного. Ее правило: non ridere, non lugere, neque detestari, sed imelligere. А раз нужно только «понимать», то дух успокоенный и уравновешенный имеет не больше прав и преимуществ, чем дух мятущийся и встревоженный. Третий род познания, выявляющий необходимые связи явлений, найдет подходящее место для всех состояний духа и тела. Так, говорю, должен был бы мыслить человек, который руководится одним разумом. Для него даже разница между «мыслящей вещью» и «презреннейшим ослом» не должна была бы представляться сколько-нибудь существенной. Люди воображают, что они являются в огромном и вечном мироздании как бы государством в государстве и что для кого-то или для чего-то важно, чтоб они были res cogitantes, а не asini turpissimi. Но мы знаем, что все это предрассудки грубой и невежественной толпы, от которой философ и хочет и может освободиться. На это, однако, ни Сократ, ни Спиноза не пошли: такого испытания и они не выдержали. Сократ даже пред судьями, которые держали в руках его жизнь, продолжал повторять, что, все равно, есть ли боги, нет ли богов, смертна душа или бессмертна, он от своего «добра» не отречется. И Спиноза, точно ему на роду было написано во всем следовать Сократу и не оставлять недоговоренным ничего из того, чего не договорил Сократ, в предпоследней теореме V-й части своей «Этики», прежде чем сказать: «beatitudo non est proemium virtutis, sed ipsa virtus, – заявляет: Quamvis nesciremus, mentem nostram aeternam esse, Pietatem tamen, et Religionem, et absolute omnia, quae ad animositatem et generositatem referre ostendimus in quarta parte, prima haberemus» (если бы мы даже не знали, что наш дух вечен, мы бы все-таки признали первенство за благочестием и религией и за всем тем абсолютно, что относится к силе воли и благородству, как мы это показали в четвертой части). В разъяснении к этой теореме Спиноза говорит, что мнение толпы судит не так. Если бы люди знали, что после смерти их не ждет воздаяние, никто бы не стал исполнять своего долга, ибо все думают, что, идя по стезям добродетели, они поступаются своими правами и возлагают на себя тяжкое бремя. И вот опять спросим, почему Спиноза считает суждение толпы презренным и низменным, а свое достойным и возвышенным? И его суждение, и суждение толпы для того, кто третий род познания постиг, что все в мире происходит с равной необходимостью, только звенья в бесконечном ряде следующих одно за другим явлений. И то и другое, как и все, что происходит в мире, не может претендовать на какую бы то ни было квалификацию. Один человек, открывши, что дух наш так же преходит, как тело, отречется от морали и религии и, как ап. Павел, скажет: «будем есть, пить, веселиться», – другой, как Сократ, скажет – ни за что не отрекусь, не стану ни есть, ни пить, ни веселиться, а буду искать блаженства в добродетели. И ни тот, ни другой не вправе ждать и еще меньше требовать себе одобрения и считать свои суждения и оценки всеобщими и необходимыми. Но ни Сократ, ни Спиноза ни за что не поступятся всеобщностью и необходимостью. Все должны так говорить и так думать, как они. В этом «должны» – скрытый смысл геометрического метода Спинозы и диалектики Сократа. И в самом деле, если человек, как камень или как asinus turpissimus, подчинен закону необходимости, если даже не только человек, но и сам Бог действует не во исполнение каких-нибудь целей, a ex solis suae naturae legibus (только по законам своей природы), то ведь философии, в сущности, и делать нечего на белом свете: все до нее и без нее уже сделано, все без нее и делаться будет. Мировая жизнь протекает по предопределенному для нее руслу, и нет такой силы во вселенной, которая могла и хотела бы изменить что-либо в предустановленном ordo et connexio rerum. Если же ничего нельзя изменить в строе бытия, если то, что есть, принимается равно и философом, и толпой (т. е. asinus turpissimus) – а мы знаем, что пред действительностью все равно беспомощны и бессильны, – то какая разница между мудрецом и глупцом? А разница есть, разница должна быть, иначе и Сократу, и Спинозе нечего делать на этом свете, незачем «быть». И тут становится понятным, почему мудрейший из людей соблазнился нашептыванием хитрейшего из зверей. Змей предложил взамен плодов дерева жизни, т. е. взамен res quae in nostra potestate non sunt, плоды познания, т. е. разум, все черпающий из самого себя. Эта подмена сулила человеку полную независимость, заветное eritis sicut dei. Но все, что разум мог вычерпать из себя, – это было блаженство в фаларийском быке. Не вера, как говорил Спиноза, а философия требует oboedientiam et pietatem. Мудрец должен aequo animo ferre et expectare utramque faciem fortunae – даже тогда, когда ему приходится, как его серому товарищу по бытию, умирать с голоду между двумя вязанками сена.
VIII
Разум, таким образом, учит благочестию и повиновению. Так что если бы вера тоже учила благочестию и повиновению, то между разумом и верою не было бы никакого различия. Отчего же Спиноза так настойчиво утверждал, что inter philosophiam et fidem nullum esse commercium и что они toto coelo discrepant (между философией и верой нет ничего общего; далеко, как от неба до земли)? И отчего Лютер в свой черед так бешено нападал на разум? Напомню, что Лютер, во всем следовавший Св. Писанию, главным образом ап. Павлу и пророку Исаие, в свой черед являвшемуся опорой для ап. Павла, каждый раз, когда ему приходилось высказывать наиболее дерзновенные и оскорбляющие разум суждения, – Лютер, как и Спиноза, был убежден, что человеческая воля не свободна. И еще прибавлю: источником их уверенности был их внутренний опыт. Наконец, последнее – и самое важное: оба они были в безумном ужасе пред этим «непосредственным данным сознания». Они испытали нечто подобное тому, что испытывает заживо погребенный человек: он чувствует, что он жив, но знает, что не в силах ничего сделать для своего спасения и может только завидовать погребенному мертвецу, которому уже нет надобности спасаться. Не только «De servo arbitrio» и «De votis Monasticis judicium» – все сочинения Лютера рассказывают нам о том нечеловеческом отчаянии, которое он испытал, когда ему открылось, что воля его парализована и что борьба с ожидающейся гибелью невозможна. Спиноза о своих переживаниях говорит неохотно. Но и у него, столь сдержанного и спокойного на вид, вырываются порой признания, по которым можно судить, какой ценой им куплено его философское блаженство. Спиноза никогда не мог забыть – разве такое забывается, – что человек, у которого отнята свобода, уже non pro re cogitante, sed pro asino turpissimo habendus est (должен считаться не мыслящей вещью, а постыднейшим ослом). Но – тут и начинается различие между Лютером и Спинозой. Раз непосредственное сознание говорит нам, что нет свободы, – значит, свободы нет. Может быть, это ужасно, может быть, и действительно лишенный свободы человек уже не pro re cogitante, sed pro asino turpissimo habendus est. Но дело от этого нисколько не меняется. Ужасы, какие бы они ни были, не являются возражением против истины, равно как радости и блаженства нисколько не свидетельствуют об истине. Разум, в силу принадлежащей ему одному и ничем не ограниченной власти, повелевает: non ridere, non lugere, neque detestari. Почему нужно повиноваться разуму? Почему нельзя непосредственным данным познания противупоставить lugere et detestari? В «опыте», в самих «непосредственных данных сознания» такого запрещения нет, а «опыт» нисколько не заинтересован в том, чтобы люди не плакали и не проклинали. Тоже и verum est index sui et faisi не может оправдать притязаний разума на самодержавие. Непосредственные данные сознания, пока они не выходят за пределы самих себя, свидетельствуют и о том, что воля человеческая не свободна, и о том, что человек плачет и проклинает судьбу, отнявшую у него свободу.
И тот, кто руководится опытом и только опытом, разрешает себе и плакать и проклинать, когда ему открывается, что какая-то невидимая сила похитила у него самое драгоценное его сокровище – его свободу. Но тому, кто руководится одним разумом, тому строжайше возбраняется и плакать и проклинать, тот должен только «понимать». Иначе говоря, у того отнимаются последние остатки, может, даже не остатки, а воспоминание (платоновский ἀνάμνησις – воспоминание) или, если хотите, идея свободы. Разум приводит с собой третий род познания – интуитивное познание, т. е. познание, которое собственной властью, неизвестно откуда ему доставшейся, превращает чисто эмпирическое суждение, констатирование факта в суждение всеобщее и необходимое: иными словами, делает «действительное» окончательно и навсегда неизменным, закрепляет его in saecula saeculorum.
Откуда пришла к разуму эта страшная власть? Каким колдовством добивается он того, что действительное становится необходимым? Я не думаю, что хоть у одного философа вы можете найти ответ на этот вопрос. Но я твердо знаю, что люди делают все от них зависящее, чтоб этот вопрос обойти. Спиноза, хотевший мыслить more geometrico, не останавливается пред тем, чтоб защищать разумное познание чисто «теологическими» аргументами. Он не только называет разум melior pars nostra, он его называет lux divina и даже не побоялся, когда нужно было, произнести фразу, которой место скорей в катехизисе, чем в философском трактате, – я уже приводил ее – «quam aram sibi parare potest qui rationis majestatem laedit». У Спинозы, правда, другого выхода не было: там, где человек узнает, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым, ничего нельзя узнать о том, что у нас никогда не было и никогда не будет свободы воли или что нам возбраняется плакать и проклинать, когда мы убеждаемся, что у нас нет свободы воли. И тоже ничего нельзя узнать о том, что нашему плачу и нашим проклятиям, нашему ужасу и нашему отчаянию никогда не дано опрокинуть и взорвать приносимую знанием philosophiam veram и вернуть утерянную свободу. Но раз так, то и спинозовское положение, что «philosophiae. enim scopus nihil est praeter veritatem, fidei autem nihil praeter oboediemiam et pietatem» (единственная цель философии есть истина, цель же веры исключительно послушание и набожность), о котором у нас уже шла речь, положение, кажущееся столь бесспорным и так своей бесспорностью покорявшее людей, оказывается лживым и опасным самовнушением. Философия, и именно та философия, которая получила наиболее полное и законченное выражение в творениях Спинозы с венчающими ее intelligere и tertium genus cognitionis, менее всего озабочена истиной и ищет только послушание и набожность, которые она, очевидно затем, чтоб снять с себя самой всякие подозрения, навязывала вере. И дальше – тут мы опять подходим к Лютеру – Спиноза утверждает, что Бог Св. Писания отнюдь не хотел научить людей познать свои абсолютные атрибуты, а стремился лишь сломить их упорство и закоренелую волю, почему и прибегал не к доводам, а к трубным звукам, громам и молниям. Но раз доводы, которым вверился Спиноза, привели его к убеждению, что все в мире происходит в силу необходимости, обрекающей человека на участь презренного животного, умирающего с голоду между двумя вязанками сена, – не указывает ли это на то, что «доводы», парализуя волю человека, менее всего ведут человека к истине? Что они не пробуждают, а усыпляют и без того сонную мысль нашу? И что если Бог прибегнул к трубным звукам, громам и молниям – то лишь потому, что иначе нельзя было вернуть оцепеневшей в летаргии, полумертвой человеческой душе ее истинную свободу – т. е. разрешить ее от повиновения, вынести ее за пределы благочестия, в которые ее загнал разум, и, таким образом, приобщить к истине? Слово Божье – молот, сокрушающий скалы, повторяет Лютер пророка, и только такое «слово» может разбить твердыни, за которыми окопался разум. И в этом лишь смысл молота Божьего и его назначение, чтоб эти твердыни разбить. Твердыни же не что иное, как то «удовлетворение самим собой» и та «добродетель», которая не ждет и не требует себе никакой награды, ибо сама есть высшая награда, высшее благо, или блаженство, возвещенные нам Сократом в его первом и в его втором воплощении. Громы пророков, апостолов и самого Лютера направлены на алтари, воздвигнутые человеческой мудростью. «Quia homo superbit et somniat se sapere, se justum et sanctum esse, ideo opus est, ut lege humilietur, ut sic bestia ista; opinio justitae, occidatur, qua non occisa non potest homo vivere». (Так как человека обуяла гордыня, и он воображает, что он знает, что он праведен, что он свят, то необходимо, чтоб закон его смирил, чтоб таким образом этот дикий зверь, уверенность в своей справедливости, был убит в нем, ибо, пока он не убит, человек не может жить.) Во всех своих писаниях Лютер только и говорит, что о молоте Бога, разбивающем доверие человека к его знанию и к праведности, держащейся на приносимых знанием истинах. Через страницу он повторяет с еще большей силой и страстью: «Oportet igitur Deum habere malleum fortem ad conterendas petras et ignem in medio coeli ardentem ad subvertendos montes hoc est ad comprimendam istam pertinacem et obstipam bestiaffl, praesumptionem, ut ista contusione homo in nihilum redactus desperet de suis viribus, justitia et operibus». (Необходимо поэтому Господу иметь сильный молот для сокрушения скал и пылающий огонь, чтобы сдвигать горы, то есть чтобы усмирить то упорное, упрямое животное – заносчивость, чтобы раздробленный в ничто человек отчаялся в своих силах, справедливости и делах.) Если перевести Лютера на язык Спинозы – придется сказать: non intelligere, sed lugere et detestari (не понимать, но плакать и ненавидеть). Иными словами: утративший свободу человек, человек, превратившийся из res cogitans в asinus turpissimus, убедившись на своем опыте, к какой пропасти ведет его тот божественный свет, о котором нам столько говорили мудрецы, начинает делать бессмысленные, прямо безумные попытки борьбы с заворожившей его силой. Согласие с самим собой и связанное с ним блаженство, равно как и та добродетель, которая в самой себе находит высшую награду, все эти «утешения», которые несут с собой плоды с дерева познания, если пользоваться образом Св. Писания, или разум, все черпающий из самого себя, если держаться философского языка Гегеля, – вдруг обнажаются пред ним в своей истинной сущности: все это несет с собой не вечное спасение, а вечную гибель. И первым ответом является запрещенное философами – lugere et detestari, свидетельствующие прежде всего о том, что какие-то остатки жизни сохранились в человеке. Он сам начинает призывать на себя страшный молот Божий, он радостно приветствует и громы небесные, и молнии, и трубные звуки. Ведь только небесные громы, низвергающие скалы и разрушающие горы могут разбить «это упорное, закоренелое животное – заносчивость», которая, овладевши душой человека, довела его до того, что он aequo animo готов выносить все, что ему пошлет судьба, и еще в этой своей способности принимать все, что посылает судьба, научается находить свое высшее благо.
Там, где Сократ, в своем первом и в своем втором воплощении, видел спасение человека, там Лютер увидел гибель его. Понимание, а вместе с тем третий род познания, отдает человека в руки его злейшего и непримиримейшего врага. Для того, кто руководим одним разумом, раз утраченная свобода утрачена навсегда, и все, что у него осталось, – это научить себя и других видеть в неизбежном – лучшее. Нужно считать себя блаженным в фаларийском быке, нужно спокойно умирать с голоду между двумя вязанками сена в сознании, что в мире царствует закон, от которого уйти никому не дано. Разум жадно стремится ко всеобщим и необходимым истинам, люди должны в разуме видеть их «лучшую часть» и, во всем подчиняясь ему, искать и обретать свое благо в тех же всеобщих и необходимых истинах. Если в равном расстоянии от человека его будут манить к себе идея Бога и идея бессмертия, человек не повернется к ним: он не может свободно решать, он знает, что его решения не в его власти, и пойдет туда, куда его ведет необходимость, приученный aequo animo ferre et expectare utramque faciem всевластной судьбы. Все docet философии, тоже против человеческой воли превратившиеся из искания истины в назидание, неизбежно ведут нас к этому.
Лютер все это знал и все так же видел, как Сократ в его первом и втором воплощении. И он учил о порабощенной воле, как мы помним. Но его «docet» (учение) оказалось иным. Точнее: его de servo arbitrio привело его к ненависти ко всяким «учениям» и, соответственно этому, к разуму, являющемуся источником всех учений. Оставив философии прославление oboedientiae et pietatis, он все свои помыслы устремил на борьбу с идеей необходимости. Божий млат у Лютера ударяет не по человеку, а по той bellua или bestia obstinax, благодаря которой человек верит, что, совершенствуясь морально, он может достичь той добродетели, которая не требует никакой себе награды, ибо сама уже есть блаженство, или, как он сам говорит: «человек в своей гордыне воображает, что он свят и праведен». Праведность и блаженство человека, который не может повернуться своими силами ни к Богу, ни к бессмертию, ибо разум сковал его волю и принудил его идти туда, куда его ведет необходимость, представляется ему величайшим падением человека, первородным грехом. Идея закона и закономерности, на которой держится все наше мышление, соответственно, представляется ему самым отвратительным заблуждением. Источник истины там, где его меньше всего ждет человеческий разум. Там же можно найти и добро, которое подменили философскими блаженствами. Лютер этот источник называет верой – будем и мы его так называть пока, хотя бы затем, чтоб указать, что может быть иной источник истины, чем тот, о котором нам поведал Сократ, и что истина нимало не похожа на аристотелевские, спинозовские и кантовские «всеобщие и необходимые суждения», что истина с необходимостью не имеет ничего общего. «Nihil fortius adversatur fidei quam lex et ratio, neque ilia duo sine magno conatu et labore superari possunt, quae tamen superanda sunt, si modo salvari velis. Ideo cum conscientia perterrebit lege… sic te geras, quasi nunquam de lege quidquam audieris, sed ascendas in tenebras ubi nec lex nec ratio lucet, sed solum enigma fidei… Ita ultra et supra lucem legis et rationis ducit nos evangelum in tenebras fidei, ubi lex et ratio nihil habent negotii. Moses in mome existens, ubi facie ad faciem cum Deo loquitur, non habet, non condit, non administrat legem, descendens vero de mome legislator est, et populum lege gubernat. Sic conscientia libera sit a lege, corpus autem oboediat legi». (Ничто так не противоборствует вере, как закон и разум, и без огромного напряжения и труда преодолеть их невозможно, но все же их преодолеть нужно, если хочешь быть спасен. Поэтому, когда закон напугает совесть… веди себя так, как будто ты о законе никогда не слышал, но войди во мрак, где не светит тебе ни закон, ни разум, но лишь тайна веры… Так ведет нас Евангелие вне и над светом закона и разума во мрак веры, где нет ни разума, ни закона. Когда Моисей был на горе, где говорил лицом к лицу с Богом, он не знал закона, не составлял и не применял закона; когда он сошел с горы, он стал законодателем и управлял народом через закон. Пусть таким образом совесть будет свободна от закона, а тело повинуется закону.)
Для Лютера, как мы видим, то, что Сократ и Спиноза прославляли как pars melior nostra, как lux divina, оказалось bellua, qua non occisa, non potest homo vivere. Когда Моисей с вершины горы узрел истину лицом к лицу, с него сразу спали цепи, сковывавшие его сознание, и он обрел бесценнейший из даров – свободу. Когда он сошел с горы и смешался с людьми, он вновь подпал под закон, закон и ему, как Сократу и Спинозе, стал представляться извечным и нерушимым, лежащим в самой природе бытия, теми всеобщими и необходимыми истинами, о которых у нас все время шла речь. Для «разума» такое «превращение» непостижимо. Разум убежден, что и для стоящего на горе, и для спустившегося в долины закон равно остается законом и не теряет ни одной йоты своей власти и своего могущества. Лютер же бросается в мрак и бездонную пропасть «веры», рассчитывая там найти силы для борьбы с чудовищем, которому поклоняются мудрецы. Или, вернее, в нем пробуждается то крайнее напряжение душевное, которое перестает вперед рассчитывать, соображать, приспособляться, мерить, взвешивать. Божий млат – громы, молнии и трубные звуки, о которых так презрительно говорил Спиноза, будят в душе Лютера усыпленные чарами разума ridere, lugere et detestari. Он забывает и oboedientiam и pietatem, во власти которых он жил так много лет – ведь он был монахом и давал не менее торжественные обеты послушания и служения добру, чем те, которыми переполнены книги Спинозы, – и помнит только одно: надо задушить эту отвратительную bellua, qua non occisa, homo non potest vivere. Какой путь ведет к истине? Путь разума, направляющий к повиновению и благочестию и приводящий в царство необходимости? Или путь «веры», объявляющей войну на жизнь и на смерть необходимости? Под автономной этикой Сократа и под его разумом мы открыли фаларийского быка; sub specie aeternitatis Спинозы превратил на наших глазах человека из res cogitans в asinus turpissimus. Может быть, лютеровские громы и рожденная из плача и отчаяния смелость его дают нам другое и из «мраков веры» будет добыта вновь утраченная вверившимся знанию человеком свобода?








