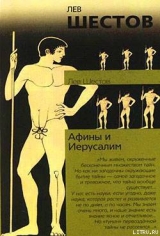
Текст книги "Афины и Иерусалим"
Автор книги: Лев Шестов
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
V
О Сократе, который сам никогда не писал, мы знаем только по рассказам его учеников, Платона и Ксенофонта, и людей, живших после него и передававших нам сведения о нем, полученные из вторых рук. Но все, что для нас осталось неясным, спорным или недоговоренным в учении Сократа, мы можем дополнить по сочинениям Спинозы. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что в Спинозе вновь возродился Сократ или даже что Спиноза был вторым воплощением Сократа. Шлейермахеру, который, по словам Дильтея, был величайшим после Лютера немецким теологом, принадлежат всем известные замечательные слова о Спинозе: «Opfern wir ehrerbietig den Manen des heiligen, verstossenen Spinoza…» и т. д. (благоговейно принесем жертву тени святого, изгнанного Спинозы). В таком тоне древние говорили о Сократе: величайший из людей, лучший из людей, праведник, святой. Если бы можно было в наше время обратиться к оракулу, он бы и о Спинозе сказал, как о Сократе, – «мудрейший из людей». Киркегард упрекал философов в том, что они не живут в тех категориях, в каких они мыслят. Может быть, и есть правда в этих словах; но, во всяком случае, упрек этот так же мало может быть обращен к Спинозе, как и к Сократу. Оба они тем именно и замечательны, что жили в тех же категориях, в которых мыслили, осуществляя таким образом чудо превращения philosophia vera в philosophia optima (истинная философия – лучшая философия), выражаясь словами Спинозы или, в терминах Сократа, перевоплощая знание в добродетель. У Сократа всеобщая и необходимая истина приводила к «высшему благу», у Спинозы его tertium genus cognitionis, cognitio intuitiva приводило к его amor Dei intellectualis (интеллектуальная любовь к Богу) и связанному с ним высшим bеatitudo (блаженство). Но ошибочно, как это часто делают, отводить основную идею Сократа и Спинозы ссылками на их «интеллектуализм» – так можно отделаться, но нельзя понять проблему, поглотившую собой мысли мудрейшего из людей в его первом и в его втором воплощении. Об этом свидетельствует все дальнейшее развитие философии. «Критика чистого разума» открывается словами: «всякое знание начинается с опыта». Но Кант сейчас же прибавляет: из этого вовсе не следует, что оно все происходит из опыта. И действительно, в знании нашем есть нечто, что мы в опыте никогда не найдем, есть некий Zutat,[41]41
Добавка (нем.).
[Закрыть] выражаясь словами Гегеля, или, если вспомните Лейбница: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi intellectus ipse (нет ничего в интеллекте, чего не было бы в чувстве, за исключением самого интеллекта). Наше знание целиком сводится к этому загадочному Zutat. Собственно, опыт в знании не играет почти никакой роли. Правда, люди, искавшие знания, всегда были заинтересованы в том, чтоб не отрывать знание от опыта, и потому часто подменяли знание опытом. Аристотель, не успев выговорить свои прославленные слова πάντες α̎νθρωποι του̃ εἰδένας ὀρέγονται φύσει (все люди по природе стремятся к знанию), торопится сейчас же прибавить: οημει̃ον δ’η τω̃ν αἰσθήσεων ἀγάπησις, т. е.: это уже видно из того удовольствия, которое людям приносят чувственные восприятия. Но знание, Аристотелю это было хорошо известно, toto coelo отлично от чувственного восприятия. Мы помним, как он настойчиво подчеркивал, что знание есть знание всеобщего и необходимого и что только такого знания ищет наука. Следовало бы поэтому сказать так: знание начинается с опыта, а кончает тем, что опыт совершенно устраняет. Удовольствию от чувственных восприятий нет и не должно быть места в знании, задача которого в отрыве от чувственного данного, в его преодолении. Чувственно данное есть нечто постоянно возникающее и исчезающее и никогда не пребывающее, т. е. такое, чем овладеть нельзя и от чего нужно отвязаться или, как философы говорят, над чем нужно возвыситься, вознестись. Из этого исходил Сократ. Такой же характер носило и философское «обращение» Спинозы. Непостоянство и изменчивость всего земного, как он нам сам рассказывает в «Tractatus de intellectus emendatione» (Трактат об очищении интеллекта), наполняло его душу непрекращающимися страхом и тревогой. Удовольствие от чувственных восприятий, привязанность к чувственно данному, которая, как правильно писал Аристотель, свойственна всем людям и которую Спиноза чувствовал в самом себе, – на первый взгляд как будто естественное свойство человека – на самом деле грозит нам огромными и неисчислимыми бедами. Как можно привязываться – и тем ставить себя в постоянную зависимость – к тому, что имеет начало и, стало быть, должно иметь конец. Чем больше и страстнее мы привязываемся к преходящему, тем нестерпимее и мучительнее будет боль отрыва в тот момент, когда для предмета привязанности придет срок вернуться в то ничто, из которого он на краткое мгновение вынырнул. Удовольствие от чувственных восприятий, хотя оно и присуще всем людям, есть не общее качество и сила их, а их общий недостаток и слабость.
И если Аристотель приравнял его к знанию, то только по недоразумению, хотя и умышленному. Аристотель вышел из Сократа и Платона, и, как мы знаем, сам всегда подчеркивал, что знание есть познание всеобщего и что если бы все сводилось к чувственным восприятиям, то не было бы никакого знания. Первый шаг к знанию предполагает, таким образом, своего рода перерождение человека: он отрекается от того, что любил и к чему был привязан, и предается чему-то новому, на предмет его прежней любви и привязанности нисколько не похожему. Гегель, хотя он и презирал Библию и потому никогда не давал себе труда задуматься над философским значением сказания о грехопадении, все же был прав, утверждая, что плоды с дерева познания добра и зла есть то, что на современном языке называется разумом, черпающим все из самого себя, и что после Сократа стало принципом философии на все последующие времена. Но Гегель никогда не мог решиться сделать из этого положения все выводы, которые он предполагает, и заявить, как Спиноза: «absolute igitur concludimus, quod nec Scriptura rationi, nес ratio Scripturae accommodata sit» (Tract. theol.-polit., XV, 19 f. – мы поэтому с абсолютной достоверностью заключаем, что ни Писание к разуму не должно быть приспособлено, ни разум к Писанию). У него, как и у Аристотеля, всегда был наготове предохранительный клапан, удовольствие от чувственных восприятий, через который он выпускал все слишком тревожные напряжения. Оттого он, как и Аристотель, не чуял под сократовской мудростью фаларийского быка. Оттого тоже он не подозревал, что в словах библейского Бога может таиться такая правда, т. е. что знание отравит человеку радость бытия и, через отвратительные и страшные испытания, подведет к порогу небытия. Почему от Аристотеля и Гегеля было скрыто то, что открылось Сократу и Спинозе, – не берусь сказать. Но все говорит за то, что сократо-спинозовское прозрение ни Аристотелю, ни Гегелю не принесло ничего.
По сохранившимся данным трудно сказать, как Сократ разрешал проблему свободы воли. Но Спиноза твердо знал, что людям так же отказано в свободе воли, как и неодушевленным предметам: если бы камень обладал сознанием, он был бы убежден, что свободно падает на землю (se liberrimum esse). Несколько дальше в том же письме (LVIII, ed. lat.) он заявляет: «Ego sane, ne meae conscientiae, hoc est, ne ratione et experientia contradicam, et ne praejudicia et ignorantiam foveam, nego, me ulla absoluta cogitandi potentia cogitare posse, quod vellem, et quod non vellem scribere» (я во всяком случае, если не хочу впасть в противоречие с моим сознанием, то есть с разумом и опытом, и если не хочу поддаться предрассудкам и незнанью, решительно должен отвергнуть возможность для меня мышления в силу какой-то абсолютной власти мыслить, хочу я писать или не хочу). И сейчас же, чтобы не было сомнения в смысле сказанного, поясняет: «Sed ipsius conscientiam appello, qui sine dubio expertus est, se in somnis non habere potestatem cogitandi, quod vellet et quod non vellet scribere; nec cum somniat se velle scribere, potestatem habet, non somniandi se velle scribere» (но я призываю сознание того, кто, без сомнения, сам убедился на опыте, что он во сне не властен думать, что он хочет или что он не хочет писать; как не властен, когда ему снится, что он хочет писать, видеть во сне, что не хочет писать). Как понимать эти загадочные слова? Как будто бы «трезвому» Спинозе менее всего пристало в сновидениях искать объяснения того, что происходит наяву. Никто не отрицает, что сон связывает волю человека. Но за сном следует пробуждение, которое в том именно и состоит, что человек разрывает связывавшие его свободу путы. Часто, еще до пробуждения, мы испытываем такое чувство, что все, что с нами происходит, не есть настоящая действительность, а действительность сонная, которую мы, сделав некоторое усилие, можем стряхнуть, сбросить с себя. Конечно, если бы спящий человек сохранил ту способность ясного и отчетливого, непротиворечивого мышления, о которой мы так много слышали и от самого Спинозы, и от его учителя Декарта, он должен был бы сказать себе, что его идея о том, что он спит и что его действительность есть действительность сонная, заключает в себе внутреннее противоречие и потому должна почитаться ложной: ведь ему во сне кажется, что он спит. И потом спящий человек, как и человек бодрствующий, вообще говоря, не чувствует себя связанным и в каком бы то ни было смысле лишенным свободы: наоборот, во сне мы так же мало подозреваем, что находимся во власти заворожившей нас посторонней силы, как и наяву. Подозрение является или начинает являться лишь тогда, когда мы начинаем чувствовать, что овладевшая нами сила враждебна нам, когда сон превращается в кошмар. И тогда лишь нам приходит на ум та нелепая и бессмысленная идея – все ведь бессмысленное и нелепое узнается по тому признаку, что оно заключает в себе внутреннее противоречие, – что эта действительность не есть подлинная действительность, а только сонное видение, обман, иллюзия. Одновременно с этим пред нами возникает дилемма: что выбрать – кошмарную действительность или нелепое допущение? Кошмарная действительность оскорбляет все наше существо, нелепое допущение оскорбляет величие разума. Не выбирать нельзя, ибо, если выбора не сделаешь сам, кто-то или что-то другое за тебя выберет. Во сне, как известно, человек выбирает второе: пред ужасами кошмара страх оскорбить величие разума теряет свою власть над нами – мы просыпаемся. Наяву «порядок» другой. Мы все «принимаем», как бы отвратительно, постыдно и ужасно нам ни представлялось то, что приятию подлежит, только бы не оскорбить разума и стоящего на его охране «закона» противоречия. Ибо quam aram parabit sibi qui majestatem rationis laedit, как писал Спиноза, отрицавший у человека свободу воли. Или к истине был ближе Николай Кузанский, утверждавший, что Бог живет intra murum coincidentiae oppositorum (за стеной совпадения противоположностей) и что стену эту custodit angelus in ingressu paradisi constitutus (стережет ангел, поставленный у входа в рай)? Правда, ангела, по-видимому, человеку отогнать не дано, и, кроме того, не только неверующий Спиноза, но еще в большей степени верующий человек содрогнется при одной мысли, что нужно поднять руку на поставленного самим Господом у входа в рай стража. Ибо какой алтарь уготовит себе человек, преступивший божескую заповедь! О «свободном» решении, по-видимому, не может быть и речи. Переход от кошмарного сна к благодетельной яви не возбранен человеку, но уйти от кошмара действительности к обитающему за стеной противоречий Творцу смертному не дано: тут сам Бог кладет предел нашей свободе. Спиноза, конечно, не одобрил бы формулировки Николая Кузанского, и его рай, и его ангел, приставленный Богом, чтоб сторожить вход в рай, – все это образы наивного человека, не отвязавшегося еще от привитых традицией предрассудков. Но мысль Кузанского, пожалуй, полнее отражает в себе пафос спинозовской философии, чем его собственные слова, quam aram parabit sibi. И потом ведь quam aram parabit sibi – тоже образ, являющий следы тех же традиций, которые навеяло Николаю Кузанскому его представление о сторожащем вход в рай ангеле. И – главное, как Спиноза, так и Николай Кузанский непоколебимо «убеждены», что за поставляемые «законом» противоречия пределы смертному пробраться не дано.
И, стало быть, от кошмара действительности нет и не может быть спасения, философ принужден принять действительность, как ее принимают все, пред действительностью философ так же беспомощен, как и обыкновенный человек; единственное, что может, а потому и должна сделать философия, – это научить людей, как им жить в этой кошмарной действительности, от которой проснуться уже некуда. Это значит: задача философии – не истина, а назидание, иначе говоря: не плоды с дерева жизни, а плоды с дерева познания добра и зла. Так понимал в древности задачу философии Сократ, так же думал в новое время Спиноза. Мы достаточно уже слышали об этом от Сократа – послушаем теперь Спинозу, который доскажет нам то, о чем начал говорить Сократ. Главная задача Спинозы состояла в том, чтоб выкорчевать из души человека старое представление о Боге. Пока оно держится, мы живем не в свете правды, а в тьме лжи. Все предрассудки, пишет Спиноза, «pendent ab hoc uno, quod scilicet communiter supponant homines, omnes res naturales, ut ipsos propter finem agere, imo ipsum Deum omnia ad sertum aliquem finem dirigere, pro certum statuant: dicunt enim, Deum omnia propter hominem fecisse, hominem autem, ut ipsum coleret» (Eth. I, Арр. – все предрассудки зависят от одного, именно от того, что люди вообще принимают, что все вещи в природе действуют, как они, с известной целью, и утверждают с уверенностью, что сам Бог все направляет к определенной какой-то цели: говорят же они, что Бог все сделал для человека, а человека для того, чтобы ему поклоняться). Все предрассудки имеют своим источником убеждение, что Бог ставит себе цели и задачи. На самом деле «Deus… agendi principium, vel finem, habet nullum» (Eth. IV, Praefacio – Бог не руководится никаким принципом в своих действиях и не ставит себе никаких целей). Когда слышишь такое, первым делом возникает вопрос: прав ли Спиноза или не прав, точно ли люди, которые полагают, что Бог ставит себе некие цели и задачи, знают истину, а те, которые полагают, что Богу всякие цели и задачи чужды, истины не знают, или наоборот. Таков, говорю, первый вопрос, как бы сам собой или естественно у нас возникающий. Но, по-видимому, в связи с тем, что мы уже от Спинозы слышали, до этого вопроса нужно поставить другой вопрос: свободен ли человек выбирать тот или иной ответ, когда речь идет о том, что Бог ставит или не ставит себе цели, или ответ вперед дан готовым, прежде еще чем человек начинает спрашивать, даже прежде чем спрашивающий человек выпадает из небытия в бытие? Мы понимаем, что Спиноза нам открыто признался, что он не волен писать или не писать. Волен ли он выбирать между тем или иным решением представшего пред ним вопроса? Через сто лет после Спинозы Кант попал в ту же западню. Метафизика, заявил он, должна решить, бессмертна ли душа, свободна ли воля. Но если воля не свободна или если свобода воли находится под сомнением (это, по существу, одно и то же), то человеку не надо выбирать, когда речь идет о Боге и бессмертии души. Что-то за него и без него решило и про Бога, и про бессмертие: хочет он или не хочет, он вперед обречен принять то, что ему будет преподнесено.
VI
Обычно вопрос о свободе воли связывали с вопросами этики. Но, как уже отчасти видно из сказанного в последней главе, он гораздо теснее связан с проблемой познания. Точнее, свобода воли, с одной стороны, и наши идеи о добре и зле, с другой стороны, так срослись с нашим представлением о сущности познания, что попытки трактовать эти проблемы вне их взаимной связи неизбежно ведут к односторонним или даже ложным выводам. Когда Лейбниц с уверенностью утверждал, что человек, у которого связаны руки, все же может быть свободным, его уверенность имела своим основным убеждением, что знанию дано ответить на вопрос, свободна ли наша воля, и что ответ, который нам знание принесет, мы должны будем принять как последний и окончательный, не подлежащий пересмотру в какой-либо высшей инстанции. Таково же было убеждение и Спинозы. Но «знание» подсказало Спинозе совсем не то, что Лейбницу. Лейбниц «узнал», что наша воля свободна. Спиноза – что не свободна. Знаменитый спор между Эразмом Роттердамским и Лютером сводится к тому же. Эразм написал «Diatribae de libero arbitrio» (Рассуждение о свободной воле), Лютер ответил ему своим «De servo arbitrio» (О порабощенной воле). И, если мы спросим себя, как случилось, что Эразм и Лейбниц «узнали», что воля свободна, а Спиноза и Лютер, что воля несвободна, мы попадем в очень трудное положение, из которого обычным способом, т. е. проверкой представляемых ими аргументов, никогда не выбраться. Несомненно, что обе спорящих стороны равно добросовестны, т. е. правдиво свидетельствуют о своем внутреннем опыте. Но как узнать, какой опыт свидетельствует об истине? Вопрос еще больше усложняется, если припомнить, что не только разные люди, но один и тот же человек то чувствует себя свободным, то чувствует себя несвободным. Пример – тот же Спиноза: когда он был помоложе, он утверждал свободу воли, а когда стал старше – отрицал. La liberté est un mystère,[42]42
Свобода – это тайна (фр.).
[Закрыть] сказал Мальбранш, и, как все, что носит на себе печать тайны, свобода заключает в себе внутреннее противоречие, попытки избавиться от которого всегда кончаются одним и тем же: избавляются не от противоречия, а от поставленной проблемы. И Спинозе ли нужно это ставить на вид? Осел, поставленный между равно отстоящими от него вязанками сена, говорит он, умрет с голоду, но не повернется ни к одной из них, если его не толкнет посторонняя сила. И человек в таком же положении: он пойдет навстречу своей гибели, будет знать, что его ждет гибель, но даже сознание величайшей опасности не пробудит его от той летаргии, на которую он осужден существующим от века и навеки неизменным ordo et connexio rerum (порядок и связь вещей), – подобно тому, как завороженная очковой змеей птица с ужасом и отчаянием сама бросается в пасть чудовища. Если перевести мысль Спинозы на более простой язык, то смысл его рассуждений окажется по существу тождественным с тем, что Лютер говорил Эразму: по природе своей человек свободен, но свобода его кем-то или чем-то парализована. Отсюда и загадочное – столь тяжкое и мучительное противоречие: человек, который больше всего в мире дорожит свободой, чувствует, что свобода у него отнята, и не видит никакой возможности вернуть ее. Все, что он делает, все, что он предпринимает, не только не освобождает, а еще больше закрепощает его. Он и движется, и пишет, и размышляет, и всячески совершенствуется, но чем больше он напрягается, чем больше он совершенствуется и размышляет, тем больше он убеждается в своей полной неспособности хоть что-нибудь изменить собственными силами и по своему почину в условиях своего существования. И больше всего парализует и ослабляет его волю мысль, т. е. как раз то, с чем люди обыкновенно связывали все свои надежды на освобождение. Пока он не «мыслил», он полагал, что Deum ad certum finem aliquem omnia dirigere (Бог все ведет к определенной цели). Но начал думать и вдруг убедился, что это предрассудок, заблуждение, порожденное той свободной волей, которой он так страстно жаждет и которая, быть может, некогда и обладала властью превращать наши желания в реальность, но сейчас, расслабленная и беспомощная, может только терзать человека, напоминая ему о канувшем навеки в ничто прошлом. Когда она еще была самой собой, она внушила человеку убеждение, что в мире осуществляются высокие и значительные цели, что есть хорошее, дурное, прекрасное, безобразное и т. д. Но «знание» обезоружило волю и лишило его права решающего голоса, когда речь идет об истине и бытии. Бог не ставит себе никакой цели – воля и разум Бога имеет столько же общего с волей и разумом человека, сколько созвездие Пса с псом, лающим животным. Обратим наши взоры на идеальное знание – математику, и мы узнаем, где находят истину и как ее находят. Мы убедимся тогда, что истина сама по себе, а «лучшее» само по себе. Для Бога нет лучшего, и те, которые statuunt, Deum omnia sub ratione boni agere,[43]43
Полагают, что Бог все производит под идеей блага (лат.).
[Закрыть] находятся еще в большем заблуждении, чем те, которые полагают, что ab ipsius (Dei) beneplacito omnia pendere (все зависит от Божьего произвола). Над всем царствует необходимость, Deum non operari ex libertate voluntatis (Бог не действует по свободному соизволению). Спиноза не устает повторять нам, что необходимость есть сущность и основа бытия: «Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam productae sunt» (Eth. I, 33. – Вещи не могли никаким иным способом и ни в каком ином порядке быть созданы Богом, чем они были созданы). Для него sub specie aeternitatis равнозначаще sub specie necessitatis. Вряд ли во всей истории мысли мы найдем еще одного философа, который с такой настойчивостью и страстью развивал мысль о всевластии необходимости. И он заверяет нас притом, что «доказал» свои положения luce meridiana clarius (яснее полуденного света). Что он выразил luce meridiana clarius овладевшее человеческим духом убеждение – спора быть не может, но разве это может сойти за доказательство? Когда он, с одной стороны, утверждает, что Deus ex solis suae naturae legibus et a nemine coactus agit (Eth. I, 17. – Бог действует только по законам своей природы и никем не принуждаемый), а с другой стороны, негодует против тех, кто допускает, что Бог может действовать sub ratione boni, естественно возникает вопрос: откуда мог он узнать, что это sub ratione boni не есть один и, быть может, высший из leges suae (Dei) naturae? Добро бы Спиноза утверждал, что Бог вне или по ту сторону всяких законов, что он сам является источником или творцом законов. Но такое допущение дальше всего от Спинозы. От чего угодно может отказаться человеческая мысль – но от идеи законопослушания она ни за что не освободит ни высшее, ни низшее бытие, ни творение, ни творца. Соответственно этому, хотя Спиноза и утверждает, что «si homines liberi nascerentur, nullum boni et mali formarent conceptum» (Eth. IV, 68 – если бы люди рождались свободными, они бы не создавали никакого понятия о добре и зле), но ему так же мало дано осуществить идеал человека, стоящего по ту сторону добра и зла, как и идеал свободы. Конец четвертой и вся пятая часть «Этики» свидетельствует об этом: человек, которого Спиноза называет свободным, – нисколько не свободен, и блаженство, приносимое философией миру, существует и держится исключительно на различении добра и зла. Если мы хотим разгадать смысл сократовского учения о том, что знание равняется добродетели и что с хорошим человеком не может приключиться ничего дурного, мы должны обратиться не к историкам, изобличающим поверхностность мудрейшего из людей, а к Спинозе, который через 2000 лет вновь решился принять на себя сократовскую проблематику. Даже ирония Сократа у него сохранилась – только скрытая под more geometrico (геометрический метод). И точно – разве математический метод не ирония в устах человека, утверждающего, что summum mentis bonum est Dei cognitio и что summa mentis virtus Deum cognoscere? (Высшее благо для души – познание Бога, и высшая добродетель для души – познание Бога.) Когда это математика интересовалась такими вещами, как summum bonum (высшее благо) или summa virtus (высшая добродетель)? И как случилось, что Бог, который обязался non agere sub ratione boni (не действовать в виду добра), все же summum bonum принес?
Ясно, что высшее благо Спинозы было особого рода. Как Сократ, он сорвал плоды с дерева познания, которые у него превратились в принцип философии для всех будущих времен. Его высшее благо и его блаженство, как и блаженство и высшее благо Сократа, – ни с блаженством, ни с добром ничего общего не имеют. Оттого он так настойчиво требует от людей отказа от прекрасного, хорошего, от всех «целей», желаний и стремлений. Только тогда они обретут ту acquiescentia in se ipso (удовлетворение самим собой), которую приносит нам «понимание», и станут как боги, знающие добро и зло. Все привязанности должны быть заменены одной amor erga rem aeternam et infinitam (любовь к вечному и бесконечному) – она же и есть amor Dei intellectualis, о которой говорится, что она necessario oritur ex tertio genere cognitionis (необходимо вытекает из третьего рода познания). Лучшая часть человека – это его mens, ratio, intellectus – о них же Спиноза твердо знает, что «mentem esse aeternam, mens humana non potest cum corpore absolute destrui» (душа вечна, душа не может быть разрушена совершенно вместе с телом) и еще sentimus experimurque nos aeternos esse (мы чувствуем и убеждаемся на опыте, что мы вечны). При торoпливом чтении может показаться, что Спиноза противоречит себе, когда он, с одной стороны, утверждает, «Deus proprie loquendo neminem amat, neque odio habet» (Бог, собственно говоря, никого не может любить и ненавидеть), а с другой стороны, провозглашает: «hinc sequitur, quod Deus quatenus se ipsum amat, homines amat et consequenter, quod amor Dei erga homines et mentis erga Deum amor intellectualis unum et idem est» (Eth. V, 36 – отсюда следует, что, поскольку Бог себя любит, Он любит людей, и что таким образом любовь Бога к людям и интеллектуальная любовь души к Богу – одно и то же). Но тут нет противоречия: Бог Спинозы expers est passionum (не знает страстей): радости и печали ему чужды, и amor в первом случае имеет совсем иное значение, чем во втором. И тут вскрывается с особенной ясностью духовная близость Сократа и Спинозы. Оба они, по примеру первого человека, прельстились обетованиями искусителя: будете, как боги, знающие добро и зло, – оба, по примеру первого человека, променяли плоды с дерева жизни на плоды с дерева познания, т. е. res quae in nostra potestate non sunt на то, что находится в нашей власти. Свободно ли они приняли свое решение, или они были, как передается в библейском повествовании, во власти каких-то непостижимых для нашего ума чар – об этом у нас речь впереди. Но несомненно одно: протянувши руку к дереву познания, люди навсегда утратили свободу. Или иначе: у них осталась свобода, но только свобода выбирать между «добром» и «злом». Недаром Спиноза, не признававший свободы, озаглавил две последние части «Этики» словами: De libertate humana et de servitute humana (о человеческой свободе и о человеческом рабстве). Тут тоже нет противоречия, наоборот, тут глубокая внутренняя связь и огромная метафизическая правда. Люди, по-видимому, совершенно забыли, что в отдаленную, быть может, мифическую пору своего существования им предоставлена была возможность выбирать не между добром и злом, а между тем, быть злу или не быть. Так прочно забыли, что все убеждены, что такой свободы никогда не было и быть не могло не только у них, но и ни у одного существа, даже высшего. В своей замечательной статье о сущности человеческой свободы, которая несомненно была вдохновлена IV-ой и V-ой частями спинозовской «Этики», Шеллинг с трогательной откровенностью свидетельствует об этом: «Der reale und der lebendige Begriff aber ist, dass sie (die Freiheit) ein Vermögen des Guten und des Bösen sei. Dies ist des Punkt der tiefsten Schwierigkeit in der ganzen Lehre von der Freiheit, die von jeher empfunden war» (но реальное и ясное понятие состоит в том, что она (свобода) есть способность к добру и злу. Это пункт глубочайшей трудности во всем учении о свободе, который всегда воспринимался как таковой). И ведь точно: по нашему разумению свобода есть свобода выбора между добром и злом: захотим – выберем добро, захотим – выберем зло. Но ведь могло бы быть так, что зла совсем и не было бы в мироздании. Откуда пришло оно? И не есть ли необходимость и способность выбирать между добром и злом не свобода, как думает Спиноза, а за Спинозой Шеллинг и все, а призрак отсутствия, потери свободы? Свободному существу принадлежит суверенное право нарекать все вещи своими именами, и как он их назовет, так они и именоваться будут. Свободный человек мог не допустить зло войти в мир, а теперь – он может только «выбирать» между злом, которое ему неподвластно, и добром, которое тоже ему неподвластно. Но уже для Сократа было самоочевиднейшей истиной, что такой власти и таких возможностей человек никогда не имел. Имена вещам были даны не человеком и даже не существом, по образу и подобию которого человек был создан, и зло вошло в мир, никого не спросивши. В своем первом воплощении Сократ даже и не делал попытки бороться с этой самоочевидностью или, по крайней мере, ничего о своих попытках не рассказал – может быть, потому, что они всегда кончались позорными неудачами. Но в своем втором воплощении, т. е. когда он уже явился людям в образе Спинозы, он был несколько откровеннее. Он все-таки кое-что поведал нам о своих безрезультатных бореньях и, как мы помним, признался нам, что его положение, т. е. положение человека qui sola ratione ducitur (который руководится одним разумом), не лучше, чем положение буридановского осла, умирающего от голода между двумя вязанками сена. В молодости это казалось Спинозе совершенно нестерпимым. В «Cogitata metaphysica» (11, 12 и 10) он еще заявлял dari voluntatem (что воля дается) и прибавлял, что если нет у нас свободы, то homo non pro re cogitante, sed pro asino turpissimo erit habendus (человека надо было бы считать не мыслящей вещью, а презреннейшим ослом). Но, по русской поговорке, – укатали сивку крутые горки. Проходят годы, и Спиноза, с ужасом, о котором свидетельствуют первые страницы его «Tractatus de intellectus emendatione», убедился, что между человеком и буридановским ослом нет разницы: они равно не свободны, их воля равно парализована. Выбор за них уже давно и окончательно сделан: «Бог не руководится в действии принципом или целью». Это есть действительность – последняя и окончательная. Изменить что-либо в ней философ так же мало может, как простой обыватель и как asinus, animal turpissimum, это – res quae in nostra potestate non sunt.
В распоряжении философа есть только одни docet (учения): aequo animo ferre (с равнодушием сносить) то, что принесла нам судьба. И этим человек должен довольствоваться: beatitudo non est proemium virtutis, sed ipsa virtus.








