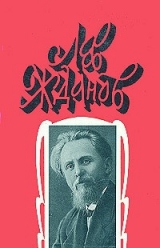
Текст книги "Сгибла Польша"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Он умолк.
Но первое впечатление сделано. Силы почти равны… И снова несутся клики:
– Бог поможет!.. Да живет отчизна!..
Удивляются "добровольцы-стенографы", сидящие среди публики: откуда знает так хорошо подполковник польской армии русские силы? Торопливо заносят они имя Хшановского в свои заметки…
Полковник Колачковский сладким елейным тоном начинает говорить о мерах, принятых и намеченных впереди для обороны Варшавы.
– Сами пойдем окопы сыпать! – раздаются голоса из публики, как женские, так и мужские.
– И мы не отстанем, – кричат депутаты, сенаторы. Новый короткий взрыв энтузиазма, восторгов, смешанных с предчувствием большой, близкой беды…
Кончены речи и отчеты, пестрящие рядами важных, но утомительных для публики, цифр… А публика, впервые после десятков лет снова попавшая в стены своего парламента, – принимает живое участие в заседании, влияя сильно и на ораторов, и на весь состав Сейма.
Словно турнир происходит по-старинному на глазах первых красавиц земли, на глазах всего народа…
И самые спокойные ораторы зарываются, как горячие скакуны, почуявшие укол шпоры на своих благородных боках…
Стукнул жезлом маршал Сейма, дал знак – и явились в своих красивых старинных нарядах делегаты Литвы и Жмуди, Волыни и Подолии. Все молодежь, но первые имена страны. И явились эти юноши, посланные старейшинами в семье, как представители целых родов, всей земли, некогда польской, теперь – слитой с российскими границами.
– Мы готовы до последнего помочь словом и делом родной Польше. Помогите нам слиться с вами, стать свободными, равными вам…
Кончили свои речи, кланяются Сейму и народу…
Совещается недолго Сейм. Постановлено – принять предложение завоеванных россиянами старых польских земель. Им – слиться с Польшею в одно. Польше – помогать собратьям до последнего часа.
Снова буря кликов и плесков потрясает зал.
Сели тесной, красивой чередой делегаты в цветных чамарах, в кунтушах, в оружии, сверкающем золотой насечкой и дорогими каменьями.
Дальше "обрядует", ведет свое заседание Сейм.
Знак дал маршал. Новую папку с документами раскрыл секретарь Плихта и громко объявляет:
– Бывшего Диктатора Польши, генерала Юзефа Хлопицкого с правительством и крулем-цесарем Николаем переписка.
– Огласите для Сейма документы, пан секретарь, – предлагает маршал.
По всему залу разносится громкое, отчетливое чтение Плихты.
– Пять документов было вручено послам, графам Ксаверию Любецкому и Яну Езерскому. Доклад Административного Совета от четвертого декабря нового стиля одна тысяча восемьсот тридцатого года, второй доклад Временного правительства с пометкой пятого декабря, два собственноручных письма Диктатора от десятого декабря, первое – крулю-цесарю Николаю, второе – цесаревичу Константину. И, наконец, наставление, писанное от Ржонда, выданное послам относительно порядка и сути поручений, возложенных на вельможных послов от имени польского народа.
– Письма!.. Начать с писем… – раздаются голоса депутатов. Их поддерживает и публика, которая из газет знает содержание докладов и наставления, но для которой содержание столь важных писем до сих пор было тайной.
Плихта взглянул на маршала. Тот ударил своей тростью и, выждав, когда шум стих, объявил:
– Начнем с писем. Но все-таки раньше огласим те условия, какие ставило польское правительство в основу соглашения с крулем Николаем. Их не мешает освежить в памяти тех, кто знал, и объявить для общего сведения другим.
– "Первое, – читает Плихта, – строго и неуклонно в пределах крулевства должна соблюдаться конституция, дарованная в Бозе почивающим Александром-миротворцем Польше на основании подписанных в Вене трактатов. Второе: эта же "хартия вольностей" и все законосвободные учреждения, связанные с нею, в соответствии с помянутыми трактатами, получают силу и для областей Литвы и Жмуди, Подолии, Украины и Волыни. Третье: на первое мая одна тысяча восемьсот тридцать первого года – сзывается в Варшаве Всеобщий Сейм, на котором сберутся не только послы, депутаты и сенаторы крулевства Польского, но также и от всех областей, упомянутых выше. Четвертое: необходимо иметь ручательство, что российские войска не будут никогда введены для постоя в пределы крулевства. Пятое: полное прощение и забвение всех политических преступлений, совершенных словом либо делом до последнего дня".
– Так… Правильно… Все хорошо… – гудит толпа в зале и с галерей.
– Болтовня пустая… Трусливые забеги, – звонко прорезают два-три задорных юных голоса резкою нотой разлада общий согласный хор.
Но шиканье, новые крики одобрения заглушают эти единичные голоса…
Начинает читать письмо Хлопицкого крулю Николаю пан секретарь – и все стихло.
Так же как и Ржонд в своем докладе, Диктатор начинает с того, что восстание, начатое молодежью, нашло широкий отклик в стране, потому что поводы для него, и слишком достаточные, даны были именно теми лицами, которые поставлены были на страже законности, а сами попирали и законы, и "хартию вольностей" на каждом шагу. Указывал Хлопицкий и на доверчивость цесаревича по отношению к людям дурным, продажным, и на его нерешительное бездействие в первые минуты взрыва. Как бы желая оправдать свои собственные действия, Диктатор писал, что принял власть в минуту всеобщей растерянности, когда анархия грозила бедой, когда надо было скорее положить конец общественным беспорядкам, сохранить в войсках остатки дисциплины, расшатанной революцией, предупредить крайности военного и гражданского террора. Он писал, что целый народ силою обстоятельств доведен до отчаяния… Но сам Хлопицкий готов приложить крайние усилия, постарается успокоить край, на одном лишь условии, конечно, если будет объявлено, что Польше обеспечена полная независимость, согласно трактатам. Народ не думает рвать узы, связующие его с крулем-цесарем, подтвержденные присягой… И надеется, что области, отошедшие к России, также будут слиты по-старому с Польшей и осчастливлены тою же "хартией", как их братья на берегах Вислы.
– "Заклинаю Ваше Величество во имя человечности, – заканчивал Хлопицкий, – преклоните слух к живейшим, горячим просьбам, какие от имени польского народа сложат у трона Вашего послы народа. Верность до конца, искренняя любовь целого народа – вот что будет ответом крулю-цесарю на его внимание к голосам земли".
– Подождите… Дальше послушаем, – снова прорезались дерзкие молодые голоса и потонули в шуме протеста.
Совсем иначе звучит "конфиденциальное" письмо Диктатора, посланное на имя цесаревича, врученное последнему Любецким в Брест-Литовском по пути в Петербург.
Горячо заверял Константина Хлопицкий, что и, не подозревая ничего, не мог ожидать, что вспыхнет этот бессмысленный бунт шалой молодежи, которую подожгли корыстные честолюбивцы-политиканы. Себе он приписал прямую заслугу тем, что сумел остановить анархию и произвол, ослабил на первых же шагах гидру мятежа, просил цесаревича не делать весь польский народ ответственным за те крайности, безумные, дикие проявления толпы, которые неразлучны со всяким народным взрывом. Плохие советники цесаревича, вроде Новосильцева, Рожнецкого и им подобных, конечно, тоже виноваты: они своей неправдой тревожили, мутили всех честных людей, таили правду от цесаревича ради личной корысти. Но теперь, когда все вышло на чистую воду, он, Диктатор, молит цесаревича явиться перед троном государя истолкователем желаний польского народа, заступником и помощником его в беде. К его сердцу, влиянию и уму обращается Хлопицкий.
Прочел секретарь последние, обычные строки, но такие же приниженные, полуопасливые, как и все письмо, и умолк.
Молчит весь зал. И только одно легкое восклицание вырвалось на галерее из чьих-то женских уст:
– Фуй!..
И опять тишина…
– Пан депутат Роман Солтык будет говорить, – объявляет маршал Сейма, увидя, что фигура последнего поднялась из рядов.
– Да много и говорить не приходится. Дело ясно, как детская азбучка, – заговорил этот гордый, желчный, но прямой, отважный человек. – Знаю я экс-Диктатора, как свой старый чапан… И это коротенькое, но довольно гнусное письмо не изменило моего мнения о пане генерале Хлопицком. Он еще терпим в казарме, в кровавой свалке, но не в зале Совета, где дурно делается от его солдатской дипломатии… Я наравне со всеми испытываю отвращение, узнав, что вождь народа – бранил свой народ… Что он ковал измену с первой минуты… что для измены взял в руки неограниченную диктаторскую власть. "Фуй!" – сорвалось там с чьих-то уст. И это восклицание отдалось, я уверен, в сердцах у нас у всех. Отдаваться будет в сердцах целого народа польского много и много лет спустя. Экс-Диктатор виновен перед народом… Он и сейчас опасен родине. А потому я в свое время внесу предложение о том, как бы обезвредить его, лишить возможности губить отчизну и дальше, как это он делал доныне. Затем, хотелось бы послушать, что скажет сидящий здесь граф Езерский о своем посольстве в Петербурге? Помог ли там цесаревич полякам?.. Получил ли там князь Любецкий свои три тысячи дукатов, данные в Брест-Литовском взаймы княгине Лович?.. Вообще, пусть сломит печать молчанья, как делал то в Згерже… И пусть не опасается… Во-первых, генерал Круковецкий, который выловил его там из реки, – сидит и здесь… А во-вторых, мы не будем купать в ледяной воде… плохого посла… за… неумные вести. Или наоборот? Я спутался, словом… Уж потом напомню и пану маршалу Сейма о моем предложении, которое сложил к его жезлу еще три дня тому назад…
Сел Солтык. Меняется в лице граф Островский.
Он надеялся было, что гроза пройдет, что роковое решение можно будет обойти. Нет, оно снова встает на очередь…
Говорят депутаты. Малаховский пытается защитить Хлопицкого. Граф Ян Ледуховский, стремительный и пылкий, за ним Старжевский и другие – обрушились с новой силой на экс-Диктатора…
Маршал поспешил дать слово Езерскому, но растерянный, бестактный, недалекий от природы, граф не поправил дела.
– Я, видит Матерь Божия, мосци панове депутаты, не знал об этом письме. Один князь Ксаверий… Он и толковал очень долго в Бресте с цесаревичем… он… все он… А я докладывал его величеству крулю-цесарю, как мне был дан наказ от Ржонда. И оставил мемориал… Но результаты вы знаете, вельможное панство… Указ оглашен: надо сдаваться на полную ласку круля-цесаря… Эти войска, которые называл полковник Хшановский, – это что!.. Круль-цесарь говорил, что зальет землю войсками… Сотрет Варшаву с лица зе…
Ему не дали договорить… Под свистки, под грозные окрики и брань удалился граф из зала, оберегаемый несколькими депутатами от более серьезных оскорблений толпы…
Буря растет грознее, шире… Слышатся угрозы, крики:
– Изменники!.. В Сейме, в Ржонде!.. Всюду!.. Искоренить их пора!..
Бледный как полотно поднимается граф-маршал, громко ударяет жезлом… Еще… и еще, каждый раз громче прежнего… Дрожит серебряный орел от ударов, сотрясается трость…
Затихла понемногу буря криков.
Громко заявляет маршал Сейма:
– Теперь настало время внести на обсуждение высокого собрания то предложение, о котором поминал депутат пан Солтык. Как слишком важное, решающее судьбу Польши раз и навсегда, оно было отложено до более подходящего мига. И он наступил. Посол из Петербурга полковник Гауке привез такие условия, о которых и говорить нельзя спокойно. Эти условия и "приказ" по армии Дибича напечатаны в газетах как угроза польской земле и народу. Наши условия отвергнуты окончательно… Что нам остается, панове высокая рада Сейма?!
– Война! Война! – загремело со всех сторон.
– Видно, пробил час! – покрыл граф-маршал общий шум своим ясным вибрирующим сейчас голосом. – Московские полчища двинулись против Польши. Неужели мы поддадимся страху или под влиянием старого навыка смиримся, как дети? Того не будет. Нам говорят, что мы нарушили клятву верности и потому круль-цесарь считает себя вправе нас покарать, считает себя свободным от данных раньше обещаний. А мы знаем, что права, дарованные нам добровольно, наша конституция, скрепленная торжественными обетами, – была нарушена лицами, поставленными от круля на страже закона, во главе правления крулевства. Эти Новосильцевы, Куруты, Любовицкие! Кто их не знает, поляки?!
Говорит граф Островский, чувствует, что зал и галерея с волнением ловят его речи. Сам разгорается оратор; теряя самообладание все больше и больше. Еще горячей заговорил он:
– Мы верно держим клятву, веками хранили ее, данную Пястам, Ягеллонам и другим правителям земли. Но теперь больше клятвы для нас не существует. Она нарушена не нами – и мы свободны. Страдания наши известны целому миру. Теперь хотят отнять последние остатки нашей вольности… Смерть… Скорее смерть, чем рабство.
– Война, война!
– Да, война… Оружие решит… "Смерть или воля" – вот наш пароль и лозунг отныне. Завет, цель нашей жизни. И верьте, нелегко будет солдатам неприятельских полков задушить этот клич, вылетевший из груди целого народа, смело идущего на бой за гражданскую честь и свободу… за все святое в жизни… Мы не будем подсчитывать своих батальонов, считать ряды воинов, защищающих народную свободу… Мы слышим биение их отважных сердец, видим пламя в очах, решимость победить или пасть… Так возгласим же нашу независимость, веруя в собственные силы, веря в единодушие и разум европейских держав, надеясь более всего на Небесную справедливость и милость Творца миров… Первый долг польского народа отныне – все отдать для достижения великой цели… И мы, члены Сейма, – переходя в торжественный тон, заговорил медленнее Островский и поднял к небу руку, словно для присяги. Весь зал был мгновенно на ногах; руки, как одна, поднялись над головами толпы. Граф продолжал: – Мы, члены Сейма, перед лицом Господа и народа даем клятву: выполнить наш долг до конца без колебаний и страха, не щадя себя ни в чем. Наша единая цель видеть страну свободной, видеть Польшу в рядах народов целого мира на том месте, какое ей назначено Провидением. А потому предлагаю прежде всего, на основании проекта, предложенного депутатом Романом Солтыком, выработать и утвердить голосованием закон, коим Польша навсегда отделяется от Москвы.
– Согласны, немедленно внести!.. Закон!.. Голосовать!.. – послышались возгласы.
Все их покрыл снова неугомонный, зычный Ледуховский:
– Что там за проекты?.. Зачем возиться, время терять. Дело ясно: свободная Польша!.. Живет отчизна!.. Вот и весь закон!..
– Живет отчизна!.. – ответила голосу Ледуховского вся тысяча мужских и женских голосов. Депутаты стоя размахивали палашами, конфедератками… Дамы махали платками, срывали шарфы, цветы с себя и кидали вниз…
И вдруг сразу стихло все, словно кто приказал или шепнул людям на ухо: "Молчанье!"
Оглядываются все, не то тревожно, не то радостно. Страшное слово сказано. Через день его узнает край… Через три – Европа, а через пять – он, грозный, пугающий даже издали всю эту толпу возбужденных людей.
Но будь там что будет… Сейчас надо ликовать.
Подымается посол поветовый, пан Лущевский, вынимает часы и, обращаясь к маршалу Сейма, к секретарю, как человек закона и порядка, объявляет:
– В сей день, двадцать пятого января одна тысяча восемьсот тридцать первого года, в три часа и шестнадцать минут пополудни, по единодушному решению Вольного польского Сейма порвано единение короны Польской с Московской и трон крулевский объявлен свободным. Прошу записать.
– Записано, пан посол Седдецкий, – успокаивает маршал. – А к этому предлагаю прибавить для сведения и успокоения Европы, для наших друзей и врагов, – что польский народ создаст новое правление, под сенью новой династии будет жить мирно, в труде, верный конституционно-монархическим заветам, каким верны были наши отцы и деды.
– Слово… Прошу слова… Я хочу сказать!.. Мне слово, пан маршал!.. – с разных сторон поднялись и крикнули вожаки крайних партий: Лелевель, Ян Ольрих из Шанецка и другие…
Но Островский чует опасность, перебивает всех:
– Я недосказал еще… Не хвалиться буду… Должен сказать… Пешком пришел я нынче в заседание, потому что всех лошадей своих отослал для армии… Теперь же вношу триста тысяч злотых в общенародное дело. Верю, что многие сделают подобно мне.
– Вношу сто тысяч злотых, – четко и кратко заявил граф Людвик Пац…
– Я – пятьдесят… тридцать… семьдесят тысяч пишите… – слышно со всех сторон.
Покрывается подписями лист… Растет итог… За миллион перешел.
Дембинский, подписав свои двадцать тысяч, просит голоса.
Слушают все внимательно почтенного депутата, наполеоновского славного офицера.
– Мосци панове, вы тоже знаете: дом, семью, детей я кинул, как только узнал, что отчизна в опасности. Что ей нужны руки! Но надо подумать и о будущем. Россия велика. Нас всего и пяти миллионов не наберется. От наборов больше двухсот тысяч солдат нам не вывести в поле. А край боронить надо… Возьмем хороший пример у неприятелей, у тех же россиян. Народ там, холопы столько же воевали с Великой армией, сколько и линейные войска. Хороший там, добрый народ… И он угнетен крепостным игом… И он в рабстве. А затем, мы не сказали ясно, чего ждем от завоеванных провинций. Что готовим для них? Вот мой проект закона в трех отделах или как там?.. Пусть юристы назовут… Первое: народ польский не сложит оружия, пока Литва со Жмудью, Подолью и Волынь с Украиной не войдут под сень польской короны. Второе: немедленно надо объявить и дать знать по всему простору Российского царства, что польский народ не сложит оружия, пока русские братья не получат законосвободных учреждений по примеру нашей земли. Третье: свобода от оброка и панщины объявляется всем холопам крулевства, и они уравниваются в правах с остальным, шляхетным людом нашей земли. Я сказал.
Одобрения, громкие и единодушные, какими сопровождались первые два предложения, – словно споткнулись и замерли, когда Дембинский высказал третий свой пункт.
Маршал покрыл неловкую паузу:
– Все слышали. Предложение записано. В свое время внесем его на голоса… А теперь мы слишком все потрясены… Объявляю до завтра перерыв…
Кончился радостно этот начатый так тревожно день…
Но много горя, крови и слез принес он потом польскому народу, шляхте, люду, холопам… всей земле…
Собственный свой приговор подписали паны депутаты.
И только один прозорливый старый политик, князь Адам Чарторыский, остался грустен среди общего возбуждения и шумного ликованья, понимая все политическое безрассудство, содеянное Сеймом в этот миг. Только он, подписывая протокол заседания, скользнул взором по строкам, где стояли роковые слова, и шепнул:
– Сгубили Польшу…
Глава II
ОСТРОЛЕНКА
… Еще напор, – и враг бежит…
И следом конница пустилась.
Убийством – тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи…
А. Пушкин
…Святой победы торжество,
Нет в мире сладостней его.
– Изменник!.. Предатель родины!
Такое обвинение, эту смертельную обиду представители народа пред целым Сеймом и всей Варшавой кинули чуть ли не в лицо экс-Диктатору, своему недавнему кумиру…
Толпа легко создает себе кумиров, возносит их высоко-высоко и быстро свергает в пропасть презрения, забвения или вражды.
Эта игра забавляет серую, усталую от жизни толпу, медленно влачащую дни в полусумраке житейских дрязг и невзгод.
Минутные кумиры, игра с ними скрашивают пустоту жизни… Скучно, тоскливо было бы без них…
И словно возликовали Сейм, Варшава, Польша, когда оглашено было письмо Хлопицкого к Константину, которое большинству давало достаточное основание презирать героя, вчера еще чтимого, носившего название "первого из поляков, храброго из храбрых… Бога войны и рыцаря свободы"…
Но люди избранные, близкие к кулисам политической жизни края отлично знали, что и как говорил Хлопицкий, принимая власть… Знали, что экс-Диктатор и не мог цесаревичу писать иного, чем сказанное им громко, перед членами того же Сейма, шесть недель назад, когда они явились вручить власть избранному народом вождю. Но тогда Сейм надеялся, что Хлопицкий "изменит" свои убеждения, пойдет по их путям, а не по своим…
Этого не случилось. Отважный и упорный галичанин-солдат остался верен себе до конца, ни на какие сделки не пошел ни с Ржондом, ни с Сеймом, ни с целой страной.
Результаты получились печальные. Враждебное войско подходило, а не было готово ни пушек, ни снарядов в достаточном количестве, не собрано даже того числа солдат, какое можно было поставить под знамена еще месяц назад!.. Не было даже дано значков и знамен полкам и батальонам. Не создали священных хоругвей и орлов, к которым в минуту боя могли стекаться воины, разметанные ураганом борьбы…
Страна эта узнала. Искала виновных… Слагая с себя вину, взвалив груз ее на экс-Диктатора, Ржонд и члены Сейма поступили ловко… но далеко не честно…
Поэтому отношение к генералу правительства и Сейма, за исключением некоторых непосвященных или не любящих Хлопицкого, – осталось по-прежнему полным доверия, особенно как к военачальнику.
Верило и войско своему генералу, все офицеры до последнего. Они не могли наверное знать, но чуяли, что экс-Диктатор потерпел за чужие грехи, по проискам "штафирок", крыс сеймовых и других… И потому с радостью узнали, что генералиссимус, князь Радзивилл, – только кукла, пышно одетая и поставленная на высоте ради связей и знатного имени. А настоящим вождем, хотя без всякого чина, даже без мундира, является тот же генерал Хлопицкий, в своем гранатном сюртуке-бекеше постоянно мелькающий теперь среди обозов Праги, между полками, стоящими за Прагой, на Гроховских полях, обращенных в огромный военный лагерь…
Правда, досадовала молодежь, отчего не позволяют кинуться навстречу российским батальонам, опрокинуть их, прогнать назад и не допустить, чтобы враждебная нога топтала польскую землю, чтобы двуглавые орлы реяли над прекрасной Вислой.
Но железная дисциплина, которую пятнадцать лет насаждал в польских батальонах цесаревич, и слепая вера в Хлопицкого не позволяли недовольству проявиться как-нибудь открыто, резко. Судили у себя, по углам, а внешне ничем не проявлялось брожение в рядах бездействующей армии, до которой ежедневно доходили вести, как спокойно надвигается враг к столице, развернув свои отряды на сотни верст…
Варшава, отпировавшая Новый год, встречающая карнавал, – вела обычную, шумную, кипучую жизнь. Военное положение, объявленное в столице, связанные с ним работы на окопах Праги и Иерусалимской заставы, движение войск, грохот провозимых орудий – все это не набросило, казалось, малейшей темной тени на обычную, свойственную варшавянам жажду жизни, а придало ей особую остроту и прелесть…
Не смутил столицу и грозный манифест, которым ответил круль-цесарь Николай на отчаянный вызов, брошенный поляками в роковой день 25 января.
Все вины Польши и самая тяжкая из них: акт детро-низации, – были перечислены в Указе. А заканчивался он так:
"Столь неслыханное забвение присяги и долга, такое упорство в неправоте своей переполнило меру проступков. Пробил час применить силу оружия против закоренелых в строптивости гордецов, и, призвав на помощь Высшего Судью дел и помыслов людских, мы приказали верным войскам нашим выступить на бунтовщиков…"
Читают варшавяне угрозу, сулящую много горя и слез… У самых отважных сжимаются сердца… Но они крепятся… Даже самые робкие пока не выказывают тревоги…
– Пресвятая Дева и Христос Распятый спасут Польшу, где народ так почитает Божественного Избавителя!..
Так шепчут женщины и с утра наполняют храмы, часами лежат, упав ниц пред Распятием, распростершись также крестом на холодных плитах.
Мужчины ведут обычные дела или маршируют в рядах Народной гвардии, спорят о политике, делятся вестями, доходящими из армии; наполняют галереи Сейма, слушают тамошний спор, пререканья и "рокош", как говорили в старину.
А вечером коротают часы в близком кругу или в каком-нибудь театре, клубе, кафе, где собирается больше народу.
Совсем по-обычному катится колесо жизни; по утрам Варшава молилась, каялась, днем – сеймовала, "роковала", торговала… Вечерами – играла, пела, плясала и грешила до полуночи…
Так шли дни за днями до 14 февраля н. с, когда в первом же большом столкновении с россиянами отряд генерала Дверницкого первою одержанной победой порадовал свой край…
Большим багровым кругом садится солнце за мглистым, синевато-фиолетовым изломом, за иглистыми вершинами дальних лесов, протянувшихся вокруг Варшавы и за нею по левому берегу Вислы.
Быстро спадает ночь и на правом берегу ее, где за предместьем Праги раскинулось Гроховское поле, много раз вспаханное и перепаханное остриями мечей и ядрами вместо плугов, засеянное телами, орошенное кровью вместо посева и благодатного вешнего дождя.
И сейчас здесь затихает лишь понемногу упорный, затяжной бой, начатый еще вчера на рассвете, 19 февраля, у самой Ваврской корчмы. Ночная темнота остановила сражение, а наутро оно разгорелось опять с новой силой и яростью.
Долго грохотала сперва канонада, своими летучими жалами ядер и картечи отыскивая за холмами, за перелесками вражеские отряды, стоящие здесь и там неподвижно, молча, наготове, с ружьями в руке, с беззвучной, затаенной мольбой о личном спасении, о светлом мгновении победы на сжатых, побледневших губах…
Потом затрещали ружья. Их легкие, светлые дымки свивались под дыханием ветра в причудливые извивы, разрывались, сбивались опять клубами, переплетаясь с темными, тяжелыми дымами орудийных залпов… Эти клубы, словно завесой одевающие поле в течение десяти – двенадцати часов, и сейчас не успели рассеяться…
Под их покровом шли друг на друга стеной батальоны со штыками наперевес и валили, кололи, опрокидывали друг друга… В сером покрове дымов неслись на конях эскадроны, рубили пехоту, валились всадники с коней, пронизанные пулями, исколотые штыками… Кони с распоротыми боками и животами, в крови, которая хлестала из ран на груди, носились, как слепые, в пороховом дыму, пока не падали и затихали…
Кончилась рукопашная свалка. Темнота развела бойцов, никому не принося победы… Звучат протяжно, резко полковые трубы, отзывая с поля уцелевших бойцов. Перестали тяжко громыхать вдали орудия в заключительной вечерней канонаде, истощив свои запасы смертоносных летучих жал. Нет больше шрапнелей, картечей и ядер! Расходятся бойцы, каждый в свою сторону, на тревожный ночной отдых после кровавого посева, которым и сегодня люди засеяли Гроховское и соседние с ним поля… А дымы пороховые и ружейные – еще реют над ним. Их клочья, отдельные клубы и струи тянутся к темнеющему небу, сливаются там с темными, тяжелыми облаками, бегущими к западу…
Облака эти одевают зубчатыми своими краями огненный круг заходящего солнца, как будто вступили с ним в бой… Как будто в небе над Гроховским полем тоже гремела канонада и теперь там клубятся черные дымы невидимых пушек и мортир…
В этот же день, 20 февраля, часов около трех, когда уже затихла почти канонада и первый упорный, тяжкий натиск российских колонн, бешеный налет их конницы был отражен изумительной стойкостью, безрассудной отвагой польских рот и эскадронов, отчаянно кидавшихся в ответное наступление, где только это было возможно, – настала как бы мгновенная передышка…
Еще ударяли одинокие выстрелы орудий, здесь и там падали ядра и рвались картечи, взрывая землю, вздымая кверху снег и дым.
Трещали запоздалые залпы, какими польские каре провожали российские эскадроны, скачущие в беспорядке прочь после бешеного натиска и отраженной атаки… Польские уланы и конные стрельцы еще описывали широкую дугу, стреляя в темные ряды российских батальонов, отходящих под прикрытие своей артиллерии из пределов вражеского ружейного и орудийного огня.
Но все это потеряло прежнее направление, силу и стройность, то единство и мощь, каким отличается высшее развитие боя.
Первый удар нападающим не удался. Они стягивали назад усталые, поределые части, готовились новые, свежие двинуть вперед, пополняя зарядные ящики и лядунки стрелков…
То же делалось и у поляков, которым тяжело досталась радость сознания, что враг пока отбит, что удалось остановить первую, огнистую, опоясанную остриями штыков лавину его батальонов…
Чем-то грозит вторая, третья?! Кто знает, сколько еще каких ударов готовит нынче Дибич и Толь!
Бон там уже на опушках лесов строятся новые пехотные и кавалерийские колонны. Задвигались батареи, отыскивая поудобнее позиции для второй половины боевого дня…
Зашевелился и Главный польский штаб.
Гетман-"кукла", Радзивилл, с удобного и вполне безопасного пригорка наблюдавший за колебаниями и случайностями боя, за быстрой, живою сменой его грозных, широких картин, ударявший себя в грудь рукою и шептавший молитвы небесам, когда на земле люди сталкивались в последнем стремлении, несущем смерть, – и он теперь съехал со своего холма, объезжает поле битвы, едет по земле, залитой кровью, усеянной телами, снарядами и палыми лошадьми. По земле, которая еще как будто судорожно и тяжело, но глухо дышит после безумия борьбы, поднятой на ее груди двумя народами-братьями, ее родными, жалкими детьми!..
Хлопицкий, сумрачный, бледный, едет рядом, в своем штатском сюртуке, с вечной папиросой в зубах… Третьим с ними едет Баржиковский, член правительства. Остальной штаб широкой цветистой группой всадников следует за ними поодаль.
Подъезжая к небольшой ольховой роще, красиво брошенной в центре между обеими враждебными армиями и составляющей ключ расположения войск, все задержали коней.
Два свежих полка подходили сюда: славные "чвартаки" со своим полковником, пожилым, добродушным балагуром, спокойным храбрецом Богуславским, и молодой 5-й полк егерей.
А из рощи выступали усталые, поределые ряды, обвеянные пороховым дымом… Это шли на отдых полки, выдержавшие в заклятой ольшине первый тяжкий натиск врага…
– Бог в помощь вам, дети мои! – приветствует тех и других генералиссимус князь Радзивилл.
– Виват, Хлопицкий! – усталыми, хриплыми голосами отвечают ряды, покидающие рощу Смерти, ольшину.
Они видели, как далеко стоял от боя "вождь". Видели, как "штатский" по наряду, но воин духом Хлопицкий сам водил в огонь, в рукопашный бой батальоны генерала Мильберга, спеша на выручку им, сидящим в этой адской мышеловке, в ольховой роще.
Первый глухой, но дружный клич солдат еще дружнее подхвачен с другой стороны подходящими свежими полками.
– Виват, Хлопицкий!..
Разве могут они крикнуть иначе сегодня, когда видели все, что видели и другие их товарищи, живые еще и лежащие, кругом, на широких Гроховских полях?!
Грустно, слабо улыбается Радзивилл, дает шпоры коню и двигается дальше, кивнув успокоительно и дружески Хлопицкому, который так виновато пожимает плечами, так смущенно глядит на "официального" генералиссимуса, он, действительный вождь польских сил в данный миг…








