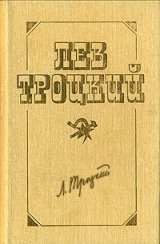
Текст книги "Европа в войне (1914 – 1918 г.г.)"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Л. Троцкий. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ ВОЙНЫ
Вот уже тринадцать месяцев, как Европа в огне и крови. И, может быть, самым удивительным феноменом войны является тот именно факт, что она длится тринадцать месяцев и что европейское человечество ее выносит. То поколение европейской интеллигенции, которое возводило в культ тончайшие переживания и демонстрировало в искусстве «обнаженные нервы», сидит сейчас в траншеях вместе с крестьянами и рабочими, мокнет под дождем, загорает дочерна под солнцем, покрывается вшами и – выдерживает. Сколько мрачных пророков скулило нам в уши, что цивилизованное человечество идет к физическому вырождению. А между тем… о, поистине для энергии современного поколения можно бы найти иное, более достойное применение, но не видеть, что именно пружины новой эпохи – машина, электричество, автомобиль, газета, город – пробудили в человечестве небывалую энергию и небывалую выносливость, могут отныне только безнадежные слепцы!
Несомненно, человечество вошло в эту войну более энергичным и отважным, более здоровым, чем когда бы то ни было. Но если таким оно вошло в войну, каким оно выйдет из нее? Какую часть творческой энергии поглотит война? Насколько обессилит и обескровит Европу? Какие изменения внесет в сознание нашего поколения и того, которое незаметно подрастает нам на смену? С какими чувствами, с каким складом сознания вернутся назад из своих окопов те, которые… вернутся? Эти вопросы стоят, как загадки. Пока дело идет о финансах, промышленности, политике, прогноз, по крайней мере, в рамках общих тенденций, еще возможен. Но бесконечно труднее учесть те непосредственные изменения, какие война порождает в сознании современного человечества. А между тем совершенно ясно, что нынешняя катастрофа будет еще в течение лет, десятилетий и столетий излучать из себя кровавые лучи, в свете которых будущие поколения станут рассматривать свою судьбу, как нынешняя Европа до вчерашнего дня чувствовала на себе излучение Великой Французской Революции и наполеоновских войн. А как мелки те отдаленные от нас пятью четвертями столетия события от тех, которые мы теперь «делаем» или переживаем, и особенно тех, которым идем навстречу!
В человеческом сознании есть тенденция к банальности. Оно медленно и неохотно карабкается на вершины колоссальных событий и всегда при этом бессознательно стремится, несмотря на все громкие слова, уменьшить для себя их значение, чтобы тем легче ассимилировать их. Вообще, если что в числе многого другого потерпело в этой войне жесточайший крах, так это мнимоцарственные притязания нашего сознания.
С небывалой еще до сих пор отчетливостью обнаружилось, что человеческая психология представляет собою самую консервативную силу: не великие события вырастают из пружин сознания, а, наоборот, события, возникающие из сочетания, взаимодействия и пересечения больших объективных исторических сил, вынуждают затем нашу косную, ленивую психологию, ковыляя и прихрамывая, приспособляться к ним. Об этом факте, горестном для нашей ставшей второй натурой мании величия, вопит соединенными голосами всех пушек и ружей нынешняя судьба современных культурных наций в целом. Война пришла помимо и против их сознания; она обрушилась на них и подчинила себе не только всю материально-общественную жизнь во всей ее сложности, но и душевные переживания наций, отдельных общественных групп, небольших коллективов и отдельных лиц, чувства и мысли правящих и управляемых, военных корпусов и женских монастырей, рабочих организаций и университетов, матерей и возлюбленных.
Не сознание управляет войной, а война управляет сознанием. Какие изменения внесет она в него?
Наиболее остро ставят нынешние события вопрос о тех перерождениях, которые произошли и происходят в психологии цвета европейских наций, их наиболее жизненных и творческих поколений, которые замкнуты ныне в железные соты полков, дивизий и корпусов и чрез казармы, депо, лагери и траншеи проходят все этапы, приближающие их к средоточию современных событий: к физическому столкновению с врагом, атаке, наступлению, защите, отступлению, чтобы затем часть своих кадров вычеркнуть из книги живых, а другую часть, через врачебные пункты, лазареты и дома для выздоравливающих, возвратить снова в общество в виде слепцов, безруких и безногих калек…
Какие силы внутреннего психологического характера, какие непосредственные переживания толкают эти человеческие массы навстречу самым «нечеловеческим» испытаниям, где нарушается и разрушается все, что считалось ценным или необходимым: здоровье, удобства, гигиена, порядок, привычные житейские отношения, дружеские связи, профессиональные обязанности, наконец незыблемые, казалось, правила морали? Какие новые психологические отражения вызывает, какие изменения вносит этот страшный кровавый беспорядок нашей жизни, который стал ее новым порядком?
Подводить этому на наших глазах совершающемуся процессу итоги, хотя бы и самые общие и приблизительные, сейчас страшно трудно прежде всего потому, что сами мы, т.-е. все те среди нас, которые задаются такими вопросами, являемся не спокойными наблюдателями событий, для которых переживания наций, общественных групп и индивидов являются только сырым материалом, подлежащим научной обработке, – да и где они, научные методы коллективной психологии? – нет, все мы так или иначе, под одним или другим углом зрения, но с ног и до головы захвачены событиями, находимся целиком в их власти и не только судим о них, но собственное наше суждение стремимся немедленно же превратить в маленький фактор этих событий. С другой стороны, и сам этот сырой материал слишком необъятен, слишком разнообразен и никогда не может быть собран в своем подлинно-"сыром" виде. Он всегда превращается по пути, по крайней мере, в полуфабрикат. В грубых чертах современное человечество можно разделить на две неравные части: прямых участников боя и страстно захваченных зрителей его. Между теми и другими имеется узкая прослойка посредников, наблюдателей-профессионалов, военных хроникеров и пр. Прямые участники военных событий меньше всего располагают возможностью оставаться спокойными и объективными повествователями того, что они переживают. Нужна совершенно незаурядная умственная выдержка, высокий уровень психического самообладания, чтобы сознательно закрепить в своей памяти переживания, испытанные в самые острые моменты боя, когда напряженные до последней степени жизненные силы направлены на самое непосредственное самосохранение, и чтобы затем эти переживания, в их неприкосновенном, неприукрашенном виде, предоставить в общее распоряжение. Факт давно установленный: рядовые участники боя, пройдя через несколько встреч, бесед, попыток восстановить в своей памяти то, что с ними произошло, дают не действительную картину того, что было, а новый, несравненно более сложный образ, в котором элементы творчества, фантазии, слухов, догадок, постороннего внушения, наконец, рисовки играют огромную роль.
С другой стороны, профессиональные посредники между армией и страной, военные корреспонденты, дают материал, часто очень живописный и интересный, но в психологическом отношении в большинстве случаев мало надежный. Прежде всего потому, что сами корреспонденты наблюдают совершающееся издалека: дальше фасада корреспондентов, по крайней мере, на французском фронте, совершенно не пускают. Но и в тех случаях, когда им действительно удается в полглаза подглядеть, как «это» делается, на сетчатой оболочке у них запечатлеваются только самые внешние подробности одной случайной частицы того огромного процесса, который называется войной. А между тем явления, которые нас сейчас интересуют, по самой природе своей не могут запечатлеваться на сетчатке, хотя бы и очень чувствительной: это психологические процессы, душевные движения, метаморфозы сознания.
Сами корреспонденты являются не только наблюдателями, меньше всего наблюдателями, чаще всего прямыми противниками объективного наблюдения: они страстные агенты в этой драме, они национальные провода между сражающимися и обществом. Они стремятся выполнять известную политическую функцию: поддерживать на известной высоте самочувствие сражающихся, ободрять собственный народ, терроризовать противника. Их корреспонденции не только в своих суждениях и выводах, но прежде всего в своих фактических отчетах всегда окрашены в определенные цвета. И не только, может быть, не столько в силу сознательного пристрастия, сколько в силу естественного психического отбора, который порождается определенным устремлением внимания и памяти.
Наконец, самый интерес к вопросам психологии войны возник значительно позже интереса к самой войне. Если психология, как мы сказали, сила тяжелая на подъем и всегда отстающая от событий, то нет ничего удивительного в том, что самый интерес к психологии возникает позже интереса к объективным историческим событиям, к их динамике, к их драматизму.
Тем не менее при настойчивости и наличности необходимых предпосылок научного исследования возможно, как показывают некоторые появившиеся уже работы, добиться и сейчас отнюдь не малоценных результатов в области психологии войны. Непосредственные встречи с солдатами и офицерами на месте их действия дают чрезвычайно ценный, не подвергшийся еще внутренней и внешней переработке, материал. Когда солдат после нескольких дней, проведенных в траншее, под непрерывным градом неприятельской артиллерии или после атаки, целиком еще остается мыслью и чувством в только что пережитом, когда из фондов его психики еще не освободилось достаточно энергии, чтобы дополнять и украшать переживания вымыслами и домыслами, тогда он дает, может быть, и скудный, но в своей непосредственности правдивый отчет о том, что только что думал и чувствовал. Незачем говорить, что и здесь сохранит все свое значение работа критического отделения зерен от шелухи…
До известной степени надежным источником могут служить также письма солдат, которые пишутся непосредственно с фронта в течение долгого времени одному и тому же лицу, перед которым солдат внутренне не охорашивается, не позирует. Особенно это относится, пожалуй, к первым периодам боевого испытания, когда еще не создалось боевого загара ни на теле, ни на душе, шаблонной фразеологии, траншейной рутины. События войны до такой степени необычны и в такой мере выбивают сознание солдата из равновесия, что он с трудом находит в своем старом словаре нужные слова, чтобы дать отчет о том, что произошло перед его глазами и в его сознании. И эта трудность, эта бедность слов для выражения новых потрясающих переживаний обычно так поглощает в первый период солдата, что у него не остается ни сил, ни времени и не возникает охоты дополнять и прикрашивать пережитое.
Словом, если комбинировать методы исследования, если вносить в них контроль недремлющей критики, если очищать материалы от наслоений, если добывать незахватанные посредническими руками данные, если, опираясь на них и вооружаясь удвоенным критическим недоверием, извлекать затем ценные материалы из вторых рук, т.-е. из газет и книг, то можно уже и сейчас подойти к очень интересным и значительным выводам относительно психологии войны.
Париж.
«Киевская Мысль» N 252, 11 сентября 1915 г.
VII. Через Испанию
Л. Троцкий. ИСПАНСКИЕ «ВПЕЧАТЛЕНИЯ»
(Почти арабская сказка)
Мадридская тюрьма – читатель видит, что мы подходим к вопросу без околичностей – мадридская тюрьма состоит из пяти корпусов. Расположены они радиусами, и каждый производит самое солидное впечатление. Особенностью тюрьмы является то, что новопоступающего спрашивают: желает ли он занимать камеру в 1 фр. 50 сант. в сутки, в 75 сант. или бесплатную. Если новопоступающий не свободен от максималистских тенденций, то он может ответить, что отказывается даже и от бесплатной камеры, но тогда следует разъяснение, что свобода выбора так далеко не простирается.
Камера в 1 фр. 50 сант. имеет два окна, которые задрапированы ситцевыми занавесками, очевидно, чтоб решетки не оскорбляли ваших глаз, на каменном полу – всесторонне проплеванный ковер, два застекленных шкафчика по углам, распятие над столом, не стул, а почти кресло, но дверь… дверь запирается снаружи каким-то сложным и скрипучим замком.
Читатель, привыкший к самостоятельным умозаключениям, сделает из предшествующих строк тот вывод, что автор этого письма имел случай изучать мадридскую тюрьму изнутри.
И читатель не ошибается: исключительно счастливое стечение обстоятельств позволило мне провести трое суток в мадридской тюрьме.
Автор этих строк не испанец, и, будучи интернационалистом по образу мыслей, он сохранил за собой, однако, право на известную национальную ограниченность, наивно полагая, что тюрем его собственной родины для него, так сказать, за глаза довольно. Он ошибался. «Развитие международного обмена», как говорит в первых своих строках программа российской социал-демократии, привело к тесному общению народов и тем самым завоевало для русского социалиста право гражданства даже в тюрьмах Кастилии.
Собственно говоря, между развитием обмена и моим арестом в столице Альфонса XIII[249]249
Альфонс XIII (род. в 1886 г.) – испанский король, царствующий с 1902 г. В день его свадьбы, 31 мая 1906 г., на него было произведено покушение каталонцем Морралем. Жесткое деспотическое правление Альфонса XIII вызвало в 1917 г. ряд местных волнений, которые были подавлены с необычайной свирепостью. В 1907 г., под давлением части испанской буржуазии, Альфонс XIII заключил договоры с Англией и Францией по средиземному вопросу. С наступлением империалистической войны Альфонс XIII, занимая формально нейтральную позицию, вел на деле германофильскую политику и фактически играл роль германского агента. Поражение Германии в мировой войне тяжело отозвалось на положении Испании и вызвало в стране сильное брожение. Чтобы отвлечь общественное внимание в другую сторону, Альфонс XIII предпринял решительные действия в Риффе и Марокко. Так как революционное движение в стране не прекращалось и стало угрожать существованию монархии, Альфонс XIII 13 сентября 1923 г. произвел военный переворот, превративший Испанию в страну фашистской диктатуры.
[Закрыть] нет непосредственной и, так сказать, повелительной связи. Не нужно быть сторонником русской социологической школы, чтобы наряду с общей экономической предпосылкой потребовать также и предъявления «субъективного фактора».
– За что, собственно, вы меня арестовали, господа? – С таким субъективным вопросом обратился автор к полицейскому Олимпу, когда предстал перед ним. – В Испании я ровным счетом 10 дней. По-испански не говорю. Не знаю ни одного испанца. Не опубликовал в Испании ни одной строки. Пока что посетил только ваши музеи и церкви. Казалось бы, прямо-таки идеальные условия, исключающие для меня всякую возможность потрясать какие бы то ни было основы. За что же вы меня арестовали?
Этот простой вопрос, как это ни странно, поставил полицейских олимпийцев в тупик. – В самом деле, за что мы его арестуем? – Они стали по очереди предлагать различные гипотезы, крайне, на мой взгляд, неубедительные. Так, например, один сослался на паспортные затруднения, которые русское правительство чинит иностранцам, отправляющимся в Россию.
– Если б вы знали, сколько мы денег тратим на преследование наших анархистов… – искал моего сочувствия другой.
– Но позвольте: ведь я не могу отвечать одновременно и за русскую полицию и за испанских анархистов.
– Конечно, конечно. Это мы только к примеру…
– Но арестовать-то вы меня все-таки арестовали!
– Какие ваши взгляды? – спросил, наконец, после размышлений «шеф».
Я в популярной форме изложил свои взгляды.
– Ну, вот видите, – ответили мне.
Читатель в праве заподозрить здесь карикатуру, пародию, шутку. Ничего подобного: все происходило буквально так, как здесь написано: «Ваши взгляды являются слишком передовыми для Испании».
– Но, во-первых, о моих взглядах вы только что узнали от меня, а во-вторых, не достаточно иметь «слишком передовые» взгляды, нужно еще выражать их в форме, противной законам, и пр. и пр.
Диалог затягивался бесплодно, ибо приказ о моем аресте был уже подписан.
В конце концов, «хефе» (шеф) отдал приказ одному из арестовавших меня «ахентов» (мушаров), чтобы со мной обращались как с «кабальеро», чтобы мне отвели хорошую «комнату» и пр. и пр., и в двенадцать часов ночи меня отвезли в мадридскую тюрьму.
Ахенте, получивший пять песет наградных, немедленно же выпил и стал придавать полученной им инструкции несколько восторженное истолкование. Он хлопал меня по плечу, подмигивал своим единственным глазом (другой американцы прострелили ему во время кубанской войны), требовал, чтоб я курил его папиросы, объяснялся в любви союзникам вообще, русским в частности, мне в особенности, несколько раз на извозчике пытался обнять меня и кончил тем, что остановил экипаж подле пивной и стал требовать, чтобы нам обоим вынесли пива, за которое он платит, ибо я его amigo (друг). Должен вообще сказать, преодолевая скромность и забегая вперед, что я открыл в себе несколько неожиданную способность привлекать сердца испанских «ахентов»: до сих пор уже три из них предлагали мне свою дружбу, а ведь «испанская» глава моей жизни еще не завершена.
О тюрьме я уже сказал выше. Деление обитателей этого учреждения на три разряда, сообразно вносимой ими за помещение плате, показалось мне сперва совершенно бесстыдным, особенно когда я узнал, что «первоклассные» постояльцы пользуются двухчасовой прогулкой и ежедневными свиданиями, тогда как обитатели бесплатных камер ограничены и в прогулках и в свиданиях. Но в сущности это только последовательно. Какой смысл устанавливать фиктивное равенство перед острожным режимом в обществе, которое целиком построено на классовом неравенстве. К тому же, привлекая всяческими льготами арестантов в платную часть тюрьмы, мудрая администрация облегчает государственный бюджет, который в Испании, как известно, больше чем где бы то ни было нуждается в облегчении.
Помощник начальника тюрьмы и тюремный кюрэ выражали мне всячески свое сочувствие и жестоко критиковали «либеральное» министерство графа Романонеса,[250]250
Романонес, Альваро-де-Фигэра (род. в 1859 г.) – видный испанский политический деятель, лидер либеральной партии. С 1912 по 1919 г. занимал, с небольшими промежутками, пост премьер-министра Испании. В период империалистской войны Романонес вел энергичную кампанию за нарушение нейтралитета и вмешательство Испании в войну на стороне Антанты. С 1922 по 1923 г. Романонес был министром юстиции.
[Закрыть] при чем кюрэ заканчивал беседу благочестивыми словами: «Но что же остается делать? Paciencia! Paciencia!» (Терпение! Терпение!).
Только однажды, когда меня позвали на дактилоскопические исследования, я не проявил необходимой «пасиенсии», отказавшись добровольно мазать руки краской и вообще содействовать острожной науке. После долгих колебаний и совещаний надзиратели взяли в свое распоряжение мои руки (я, разумеется, не сопротивлялся) и произвели все необходимые манипуляции. Но дошло дело до ног, и мне предложили снять сапоги. «Нет, уж потрудитесь снимать сами». Здесь испанская настойчивость истощилась: уходили, приходили, совещались, призывали высшее начальство, но, в конце концов, оставили мои ноги в покое.
Из тюрьмы я написал министру внутренних дел письмо, в котором обращал его внимание на все неприличие поведения испанской полиции. «Вчера ко мне прислали в тюрьму агента, – писал я, – который повторил мне, что я должен покинуть Испанию и заявить немедленно, в какую страну я намерен выехать. Но в настоящее время невозможно выехать свободно никуда: нужно получить предварительное разрешение соответственного правительства. И особенно после моего ареста в Мадриде: ибо, господин министр, ни один человек в Европе и в целом мире не захочет верить, что я был арестован в Мадриде без всякой не только осязательной, но и умопостигаемой причины».
На следующий день меня «освободили», при чем приставленный ко мне одноглазый ахенте заявил мне у ворот тюрьмы, что я буду сегодня же вечером препровожден в… Кадикс. Почему именно в Кадикс?
Я посмотрел на карту. Кадикс находится на самом крайнем пункте юго-западного полуострова Европы: из Березова через Петербург в Австрию, из Австрии во Францию, из Франции в Испанию и, наконец, через весь Пиренейский полуостров – в Кадикс. Дальше материк кончается, начинается океан.
Ахенты, меня сопровождавшие, отнюдь не окружали нашего путешествия тайной: наоборот, всем, всем, кто только интересовался, они обстоятельно рассказывали мою историю (к этому времени в испанской прессе появилось уже немалое количество статей и заметок по поводу моего ареста), при чем характеризовали меня с самой лучшей стороны: не фальшивомонетчик, а кабальеро, но с неподходящими взглядами. Все утешали меня тем, что в Кадиксе очень хороший климат.
– Мы бы никогда не арестовали синьора, – говорит второй ахенте, – если бы не телеграмма. Но хефе получил телеграмму: «Три дня тому назад проехал через Сан-Себастьян ахитадор нелигросо (опасный) анархиста-террориста – имя рек – направился в Мадрид».
Я и раньше не сомневался, что в «почти арабской сказке» моих испанских приключений дело не обошлось без «телеграммы». Теперь я имел авторитетнейшее подтверждение. «Анархиста-террориста» мой ахенте вероятно сам прибавил, для красноречия. Но несомненно, что телеграмма (от просвещенной республиканской полиции г. Бриана) была нарочно составлена в неопределенно угрожающих выражениях, которые отнюдь не исключали ни анархизма, ни терроризма…
Так или иначе либеральное испанское министерство препроводило меня в Кадикс. Здесь же будет, может быть, уместно отметить похвальную бережливость испанских властей: высылая меня из Мадрида в Кадикс, полиция предложила мне взять билет на собственный счет. Так как я в Кадикс совершенно не собирался, то и не усмотрел причин к удовлетворению этого требования – тем более, что уже оказал достаточную поддержку испанской казне, уплатив 4 фр. 50 сант. за пребывание в тюрьме. Ахенты совершенно одобрили мои соображения и исхлопотали для меня билет на казенный счет.
Перед кадикским префектом лежала куча телеграмм, не вполне согласованных одна с другой. Ему рекомендовалось отправить меня в одну из американских республик, по моему выбору, и в то же время «с первым отходящим пароходом».
Посоветовавшись с губернатором, префект разрешил противоречие в пользу первого парохода, который отправлялся на другое утро в… Гаванну. На этот раз мне было сразу предложено бесплатное место. Мне предстояло совершить путешествие в трюме и перейти из испанской полиции в руки гаваннской. Я запротестовал, послал срочные телеграммы директору охраны, министру внутренних дел и графу Романонесу с требованием, чтобы мне дали возможность свободно выехать в Нью-Йорк. Префект и губернатор дрогнули, послали срочный запрос в Мадрид, а сами стали склоняться к признанию моего права не ехать в Гаванну. Это толкование было подтверждено из Мадрида, где тем временем республиканский депутат Костровидо внес по поводу моего ареста и моей высылки интерпеляцию. Меня оставили в Кадиксе до 30 ноября, когда отходит пароход в Нью-Йорк. Приставленный ко мне мушар поставил меня в известность, что дед его был гранд и имел сорок миллионов состояния. Но в карете дедушки далеко не уедешь, как говорится у Горького,[251]251
Горький – см. т. IV, прим. 52.
[Закрыть] поэтому я угощаю моего мушара кофе, пивом и табаком. Он приемлет с благодарностью, только жалуется, что я курю слишком легкие папиросы.
В библиотеке он садится против меня и терпеливо плюет в течение трех часов на пол.
Так мы коротаем с ним время в ожидании парохода на Нью-Йорк.
P. S. Так как префект Кадикса не владеет иностранными языками, то он пригласил в качестве переводчика при наших объяснениях какого-то немца. Потом оказалось, что этот немец секретарь германского консульства. К сведению ахентов и хефов из «Призыва».
Кадикс, 21 ноября.
«Начало» N 53, 2 декабря 1916 г.








