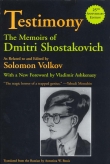Текст книги "Лесковское ожерелье"
Автор книги: Лев Аннинский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Помилуйте, да она чужие жизнив жертву приносит. Тем людям вы что ж не сострадаете? Но как тут объяснишь: у нас всегда «условия» виноваты, это «условия» нас корежат, нам бы только «условия» преодолеть… И что ж тогда?.. Я все ждал, скажет ли А. Гончаров эти слова… Сказал: положительная героиняперед нами, с «обостренным чувством жизни»…
Да, из такой осады даже и Гундаревой не вырваться. Сказано: ни крестом, ни пестом нас не пробьешь… Натура.
Взгляд в сторону: зарубежные инсценировки.
Они не учтены в нашем театроведении, но волею судеб одна из них оказалась в поле моего зрения. Пражский молодежный театр «Рубин», сезон 1978 года. Весьма современныйтеатр: не более полсотни зрителей; в середине зальчика – нечто вроде боксерского «ринга», только вместо канатов – трапеции: можно качаться. Минимум предметов. Смысл спектакля – любовный треугольник; мужчина неважен, несуществен; главное – две женщины: одна – мягкая, добрая, беззащитная, матерински щедрая; другая – острая, волевая, агрессивная: подбородок вперед. Автор спектакля Зденек Потужил отказывается решать, кто из них прав; он говорит: такова жизнь. Да, люди обижают друг друга, но это нельзя изменить и поправить: мир жесток и неисправим. А раз так, то в этом мире надо жить, находя в нем доброе, и в него, несмотря ни на что, верить. Афиши и диалоги свидетельствуют, что это – история любви Катерины, Сергея и Сонетки из очерка Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»… Ни за что бы не догадался.
Нет сомнения, что пражский «Рубин» – не единственный зарубежный театр, инсценировавший очерк: популярность его, особенно в славянских странах и странах с немецким языком, дает к тому достаточные основания. Эта тема большею частью театроведческая, нам же нужно одно: ощущение горизонтовлесковского наследия.
Обратимся к художникам.
Начало – 1930 год. Впрочем, формально говоря, раньше. Сохранилась небольшая картинка М. Микешина: звездная ночь, тенистый сад, романтическая красавица в белом вытянулась в объятьях черноусого молодца – что-то знойное, экзотическое, скорее «кавказское», чем русское, и уж вовсе не лесковское; картинка (акварель, гуашь – смешанная техника) относится к 1890-м годам и хранится в московском Литературном музее; в лесковских изданиях она не воспроизводилась; ее мало кто знает. Так что начало осмысления лесковского очерка художниками все-таки откладывается на треть века.
Итак – 1930 год: Ленинградское «Издательство писателей» выпускает «Леди Макбет Мценского уезда» с иллюстрациями Бориса Кустодиева. Художника уже нет в живых – работы его взяты из архива. Сделаны они были – для другого издательства, для «Аквилона», семью годами раньше: в 1922—1923-м. [14]14
Некоторые исследователи творчества Кустодиева считают, что это издание тогда же, в 1923 году, и вышло. Сомнительно: «Аквилон» в ту пору фактически прекратил существование; скорее всего, книга была подготовлена, но не выпущена. Во всяком случае, в картотеках Всесоюзной книжной палаты и крупнейших наших библиотек она не показана. В. Е. Лебедева, обозначившая это издание в библиографии к своей книге о Кустодиеве, цитирует, однако, издание 1930 года, которое называет «вторым», – «первое» она, видимо, так и не разыскала.
[Закрыть]
Обе даты существенны. Общественный резонанскустодиевских рисунков начинается с 1930 года, когда интерес к лесковскому очерку становится всеобщим; сделаныже они в пору, когда ни резонанса, ни каких-либо истолкований лесковского сюжета еще нет, ни даже сам очерк еще не переиздан, а покоится в дореволюционных собраниях сочинений Лескова. Кустодиев осмысляет сюжет как бы в вакууме, он начинает «с нуля»: идет от текста и только от текста.
Ему помогает не только общность тематических интересов с Лесковым: влюбленность в купеческий слой средней и южной России – легко уловить общее и в самой «интонации» их письма. Конечно, Кустодиев мягче и добрей Лескова, его ирония никогда не становится горькой, насмешка – жалящей; однако в самой «сдвоенности» взгляда, в обманчивой наивности штриха, в чуть уловимой терпкостилинии есть что-то от лесковского «коварства». Критики давно подметили эту особенность кустодиевского письма: смотришь – простота, богатство, рубенсовская роскошь! Отходишь – ив роскошестве многотелесных красавиц ощущаешь иронию, тревогу, тоску художника, тоску русского интеллигента на рубеже двух веков…
Иллюстрации Кустодиева к лесковской «Леди Макбет…» повествовательны, просты, четки и – по внешности – вполне совпадают с той концепцией провинциальной русской жизни, которая сделала Кустодиева в глазах критиков – «отечественным Рубенсом». Толстые руки, щеки, груди; тела среди подушек, похожие на подушки; лиц почти не видно – дородство и жар тел. Тела сливаются с интерьером: занавески, одеяла, кружева, ветки, оконные переплеты – пестрядь, в которой все как-то уютно и мягко перемешано; даже с деревом тело перевито: Сергей спускается с галереи, обхватив столб; Катерина Львовна в окне, как в резной раме, – никакой грандиозности, никакого «ужаса» – домашняя соизмеримость людей и вещей, тучный покой… Но он и оборачивается тревогой. Туча толпы – каша голов – люди лезут через забор в дом Измайловых… Рыхлая мягкость фактуры, ноздреватый снег на купеческом дворе, где играет Федя Лямин, переходит в хлябь, в з а меть и топкую грязь Владимирки, в дождь, сливающийся с хлябью Волги, в мокрую кашу тел на пароме. Тесные стены деревянных кварталов перерастают в тесные каменные мешки казематов; заключительный пейзаж города – толстые, «сонные» дома с маленькими, как свиные глазки, окнами-бойницами. И все это – «мерцающим» штрихом, чарующим, обволакивающим, мягким, как бы наивным… Кустодиев безошибочно откликается на гениальную обманчивость лесковской «сторонней» интонации, когда рассказчик вроде бы добродушен и младенчески прост, но рассказывает так и такое, что именно наивность эта таит в себе главное коварство.

Художник Б. М. Кустодиев. Фронтиспис

Художник Б. М. Кустодиев. Иллюстрация к «Леди Макбет…»
Из кустодиевских работ с равным успехом извлекались и ясный реализм, и романтическая таинственность. Э. Голлербах противопоставлял повествовательную ясность этой графики тоновому вычуру соратников Кустодиева по «Миру искусства»; другие ценители откликались как раз на трепетность штриха и на «атмосферу». В дальнейшем прослеживаются обе тенденции.
Иван Овешков, иллюстрировавший «академический» однотомник Лескова 1937 года, решает чисто повествовательные задачи. В его рациональных, «станковых» композициях – никакого контакта с лесковской стилистикой: зализанность фигур, мелочная проработка деталей – учебник этнографии или дурной театр с обозначением абстрактных «страстей».
Николай Кузьмин, давший заставку и лист к «Леди Макбет…» издания 1954 года, делает упор на иронии. Характерный «смеющийся» штрих по тонированному полю; типажная резкость; Сергей – купчик-приказчик с пробором посередине; Катерина Львовна – гладкая дамочка, скорее похожая на нэпманшу 20-х годов XX века, чем на купчиху XIX-го. Остро, нетривиально… Увы, кузьминский лист потерялся на фоне триумфально принятых в 50-е годы кузьминских же иллюстраций к «Левше»… А может, дело в том, что дальнейшее осмысление очерка пошло не по ироническому, а по патетическому пути.
В конце 50-х годов – серия В. Пуршева. Романтически изысканный «дымчатый» штрих, размывающий фигуры влюбленных в саду. Тот же штрих, но как бы «пенящийся» – по искаженным лицам и орущим ртам в дверях дома Измайловых (в такой манере послевоенные художники изображали полицию, врывающуюся к разведчикам-радистам)… Косой штрих дождя, силуэты в дымке, прекрасные страдающие лица гонимых узников (в такой манере рисовали в послевоенные годы угон жителей в германскую кабалу). У Пуршева – не Лесков, но романтическая красота и скорбь тех лет, приложенные к Лескову.
Илья Глазунов прилагает к нему несколько иные ценности, но в романтическом же духе. Семь его листов, навеянные «Леди Макбет…» и сделанные для известного «зеленого» лесковского шеститомника начала 70-х годов, напоены ревнивой любовью к изображаемому. Пейзаж города Мценска: нежно-синий снег улицы, нежно-синий силуэт колокольни, нежно-желтое небо, нежно-желтые окна – тепло, покой, скрип саней – духовный рай. Любовь в саду: кипень розовых бликов и пятен на счастливых лицах влюбленных. Отравление старца: усопший похож на святого, над ним Катерина Львовна со склянкой, тонкое лицо встревожено – кажется, что тут лечат больного. Интерьер дома: край письменного стола освещен лампой; счеты, бумаги; черный силуэт в сумрачной глубине; колорит – «Достоевский», ощущение – вековой прочности. Предсмертный портрет Феди Лямина: большеглазый отрок на фоне икон, ручка на груди – парафразис страстей по Дмитрию убиенному. Наконец, два основных портрета. Сергей: красная рубаха, озорные цыганские глаза, черные спутанные волосы, красавец-молодец на фоне куполов, крестов и летящих птиц – излюбленный Глазуновым мужской портрет анфас (так же – Мечтатель к «Белым ночам», Рогожин к «Идиоту», царь Федор Иоаннович)… Женский портрет, напротив, излюблен профильный (такова Вера к гончаровскому «Обрыву», Дуня к Мельникову-Печерскому, некрасовская крестьянка). И вот – Катерина Львовна: прекрасный тонкий профиль женщины в русском платке на фоне врачующего зелено-голубого русского простора.
Кто убивал? Кого убивали? И намека нет! Нежной современной кистью, настоянной на древней иконописи, Илья Глазунов пишет величественный гимн вечной русской старине и духовной прочности, прекрасной даже в страдании.
Еще несколько трактовок – у других современных художников.
Вот милая скуластая красавица с чистыми глазами, чутко смотрящая вниз из-за занавески, – на «воздушном» штриховом рисунке Бориса Семенова к ленгизовскому изданию 1977 года – еще один вариант романтической героини.
Вот попытка волгоградской художницы В. В. Цынновой эту романтическую трактовку опровергнуть: резкий, «грязный», саркастический штрих, грубая заливка: злобный старик, похожий на царя Додона; конфетный любовник – губки бантиком; упрямая, жестокая героиня со змеиным изгибом шеи и остановившимся взглядом – горькая насмешка художницы.
Вот ответ художницы Н. Корниловой в однотомнике «Советская Россия» 1981 года: легкие штриховые силуэты, дама и кавалер, иконописные складки платьев, но все как бы невсерьез – палехская прелесть, переданная с улыбкой современного «понимания», ноль трагизма…
Вот заставки в однотомниках Лескова, изданных в 1981 году в Магадане и Туле. Штрих Ю. Коровкина «гладкий», нежно-обливной, и купчиха у него – гладко-тяжелая, вся в себе, «себе на уме», непредсказуемая; за спиной – зеркало, в зеркале – крадущаяся фигура Сергея. Штрих М. Рудакова – «шероховатый», грубоватый; хитрое, жестокое, красивое лицо; и опять – Сергей на втором плане. И там, и тут – полное отрицание глазуновского кроткого любования.
Вот восемь листов П. Пинкисевича в лесковском пятитомнике 1981 года. Острая, опасная красота в лице героини – гордыня и воля. Оранжевая шаль, дымное коричневое небо, предчувствие катастрофы. Она же – над распростертым телом мужа, после удара подсвечником: лицо красное, глаза тупые, рот безвольный. И она же – в каторжной колонне: дикий, огненный, ненавидящий взгляд… И всюду – оранжево-красно-коричневая гамма – адское мучение души, и никакой глазуновской успокоительной сини-зелени.
Вот несколько листов белгородского графика Станислава Косенкова в Воронежском однотомнике 1981 года. Косенков – знаток лесковских книг и лесковских мест; оформляя музей Лескова, исходил на Орловщине все лесковские дороги, работает в стилистике старой, «иконоподобной» книжной иллюстрации; иллюстрировал многие вещи Лескова: к иным его работам мы еще вернемся, а пока – «Леди Макбет…». Не героиня, не жертва, скорее – старинная «душа», бестрепетно проходящая семь кругов ада; то лик убитого старика проступает из черноты, то бесовская усмешка каторжанина, то хаотический разор сброшенных со своих мест вещей, – это страшно, но не сентиментально, и страшно именно «бесстрастием» письма: крепостью векового, словно из тьмы времени проступающего резца… Спор художников вокруг лесковской «Леди Макбет…» продолжается.
Последний из его эпизодов – диптих Георгия Юдина.
Тут сам жанр, сама юдинская серия нуждается в некоторой характеристике. Юдин делает большие графические листы, предназначенные не для книг, а для выставочных экспозиций; такой лист – семьдесят на восемьдесят – ни в какую книжку и не встанет; если же его до книжного размера уменьшить – размельчится, потеряет ощущение монументальности, программности. Работы Юдина – именно программные, а не иллюстративные. Это философские фантазии на темы Лескова: диптих «Леди Макбет Мценского уезда»; триптих «Запечатленный ангел» и лист «Очарованный странник». Кроме того, Г. Юдин сделал традиционные книжные иллюстрации к «Левше», но об этом ниже. Пока – о листах. Это, повторяю, программные интерпретации лесковских текстов. Что-то вроде версий их духа.
То, что эти огромные листы – графичные (автолитография), тоже имеет свой смысл, хотя так и хочется назвать эти листы «полотнами»; они дают не сцены, не «пластику» действия, не «поверхность» повествования и не психологическое воплощение действующих лиц, как чаще всего бывает в иллюстрациях и, тем более, в полотнах живописи на литературные темы. Графика несет в себе что-то от чертежа: здесь работает обнаженная структура, и рисунки включаются не в пластическое сцепление, не в картину пространственно-видимого мира, а в сцепление графическое, пространственно-символическое, иногда на грани аллегоризма, с прямой и ясной, «черно-белой» логикой цвета.
Вернее, с черно-бело-красной, если брать два листа, посвященные «Леди Макбет…».
В центре красного (цвета крови) квадрата – черный квадрат. В черном квадрате – любовная сцена: Сергей и Катерина: алое и черное – вихрем вокруг пышно-белого, быстрое и острое – вокруг ленивого и круглого. За гранью черного квадрата, по широкому красному полю – разлетающиеся фигурки; композиционно это как бы клейма: ангел зла – иссыхающий черный амурчик на тощих крылышках; гладкая баба, бьющая подсвечником упавшего мужчину; задушенный мальчик, летящий в бездну: тоненький, черный, растворяющийся в красном; рядом летит вниз, рассекая красное, огромная белая женская туша…
Это – первый лист. Рядом – второй, точно такой же по рисунку, но «негативный» по цвету. Тут на черномквадрате – красныйквадрат; и все обернуто: черное по красному в центре и красное по черному – по краям. Только белое неизменно в этом обороте цвета: толстое, гладкое, ленивое, непробиваемое…
Я спросил:
– Что это Катерина Львовна у вас такая большая? Она ж, по Лескову…
– Знаю, какая она по Лескову, – ответил Юдин. – Зло не может быть «маленьким», оно огромно.
Что поражает в этом юдинском ответе и в самом его диптихе, помимо графической выразительности: впервые лесковский сюжет воспринят не как гимн любви, вынужденной устилать себе дорогу трупами, а как кромешный ад души, творящей зло и не знающей просвета.
Переводы. Самый ранний (из учтенных Государственной библиотекой иностранной литературы) – немецкий: мюнхенское издание 1921 года, повторенное в 1924-м. К середине 40-х годов «Леди Макбет Мценского уезда» издана в США и Бразилии; к середине 50-х – в Швеции, Швейцарии, Голландии, Югославии (и еще раз по-немецки – ФРГ); к середине 60-х – в Венгрии, Чехословакии, Индии, Израиле (и опять – в ФРГ, ГДР, Голландии); к середине 70-х – во Франции (и снова – в Швеции, Швейцарии, ГДР, Венгрии)… Конечно, для полного учета зарубежных переводов и изданий нужны исследования узких специалистов по странам. Но если допустить, что число карточек в каталоге «Россика» Иностранной библиотеки дает хотя бы грубое представление о степени популярности у зарубежных читателей того или иного произведения, – то «Леди Макбет…» в лесковском наследии идет вровень с «Левшой», уступая только «Очарованному страннику».
О наших изданиях. К 1980 году их 23 (если считать с 1928 года), текст переиздается «через сезон»; к 1985 году – уже более пятидесяти; плотность нарастает: после 1945 года «Леди Макбет…» выходит в среднем каждые 22 месяца. Практически это одно из самых популярных произведений русской классики.
Начался же этот поток с тоненькой брошюрки, которую в 1928 году тридцатитысячным тиражом выпустила типография «Красный пролетарий» в серии «Дешевая библиотека классиков». Очерк снабжен предисловием, где об истории Катерины Львовны Измайловой сказано как об «отчаянном протесте сильной женской личности против душной тюрьмы русского купеческого дома». Здесь же осторожно предполагается, что эта история еще способнавызвать в нас сочувствие.
Подписана статья инициалами: Л. Э. Ни по Масанову, ни по другим источникам мне не удалось установить автора. А ведь шаблонным языком – на полвека вперед предсказал безвестный автор тот романтический, «островско-добролюбовский» подход к тексту, что оказался взят вскоре на вооружение и критиками, и литературоведами, и художниками, и режиссерами! Все это впервые уловлено в «воздухе времени» автором торопливой заметки, который не имел предшественников и практически впервые написал о лесковском очерке после полного молчания о нем всей русской критики.
Вот мы и подошли к главной загадке: к русской критике, молчавшей шесть десятилетий, то есть абсолютно, напрочь, наглухо проглядевшейлесковский шедевр.
Это-то и надо объяснить.
Ведь не безвестный же дебютант «тиснул» в январе 1865 года свой опус, а самый расскандальный автор, роман которого «Некуда» был в ту пору притчей во языцех! И не в заштатном каком-нибудь органе напечатал, а у самого Достоевского, в «Эпохе» – в журнале, каждый номер которого шел в критике на полемический расхват! И – ни звука в отклик. Ни в 1865-м, когда вышел журнал; ни в 1867-м, когда очерк перепечатался в томе повестей и рассказов М. Стебницкого (Щедриным разгромленном); ни в 1873-м, когда это издание было повторено; ни в 90-е годы, когда дважды «Леди Макбет…» выходила в собраниях Лескова; ни в 900-е, когда очерк в последний раз был издан А. Ф. Марксом в приложении к «Ниве» перед наступавшим четвертьвековым перерывом (за которым, как мы уже видели, и хлынул поток).
Щедрин, ревниво следивший за публикациями М. Стебницкого, не счел только что изданный очерк достойным даже разноса – в этом смысле куда более интересным показался ему роман «Некуда». За пределами романа М. Стебницкий был в глазах Щедрина… пропагандистом «клубнички» и «цветов удовольствия». При всем безумии этой характеристики – ее следует отнести все-таки, пожалуй, более к «Воительнице», а если и к «Леди Макбет…» тоже, то это как раз говорит о полнейшем «разрыве» с текстом.
Единственное прямое замечание Щедрина об очерке Лескова (в той самой, уже знакомой нам рецензии на «Повести…» Стебницкого) звучит так:
«…Автор рассказывает об одной бабе – Фионе и говорит, что она никогда не отказывала ни одному мужчине, и затем прибавляет: „Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, в арестантских партиях и социально-демократических коммунах“.Все эти дополнения о революционерах, отрывающих всем носы, о бабе Фионе и о нигилистах-чиновниках (виновниках? – Л. А.)– без всякой связи рассеяны там и сям в книге г. Стебницкого и служат только доказательством того, что у автора время от времени бывают какого-то особого рода припадки, при чем у него является не столько злостное, сколько забавное желание – вдруг размахнуться по воздуху».
Замечание понятное. [15]15
Надо отдать должное чуткости наших издателей, которые на свой лад учли замечание Салтыкова-Щедрина и стали, начиная с 1923 года, выбрасывать выделенную им фразу из всех изданий лесковского очерка, и выбрасывали вплоть до 1956 года, далеко не всегда отмечая «дырку» хотя бы отточием.
[Закрыть]Но – попутное. И – единственное в русской критике за первые шестьдесят три года существования лесковского очерка.
Может, и впрямь нужны были шестьдесят три года драматичной российской истории, чтобы попала лесковская повесть в резонанс общественному настроению: и три революции, в ходе которых освободились копившиеся в народе яростные силы, и слом всех старых отношений, и утверждение новых, окончательно добивших в человеке психологические связи с прошлым?
Может, это и вообще закономерно, что сначала действует на современников ближний пласт текста, злободневный его уровень, глубина же открывается позже – потомкам? Но тогда где гарантия, что и потомки не извлекают из глубины всего лишь новую злободневность? А что, если «вечная жизнь» классического произведения – лишь бесконечное извлечение из него все новых злоб дня? Пусть так – я не обольщаюсь, – но как же это: вовсене заметить? Шестьдесят лет – не замечать?
А может, просто вовремя не нашлось умелого критика, который дал бы лесковскому сюжету нужное истолкование, как дал таковое, скажем, Добролюбов «Грозе» Островского? Это ведь тоже была непростая операция, она требовала и воли, и виртуозности; вспомним свидетельства современников: до статьи Добролюбова многим из них и в голову не приходило, что Островский обличил «темное царство», – они думали, что он опоэтизировал жизнь купечества…
Однако критика XIX века сумела открыть в пьесе Островского актуальный для своего времени план. И текст Островского – поддался.
К Лескову ключей не нашлось.
Читать – душно.
«По семейным памятям», писалась «Леди Макбет…» в квартире при киевском университете, где осенью 1864 года Лесков гостил у брата. Писал по ночам, запираясь в комнате студенческого карцера.
Замкнутое, запертое пространство. «Закрытая партия», как говорят шахматисты. После «Некуда» – странно. «Некуда» – партия «открытая». Там все распахнуто, вывернуто; там выяснить хотят, ясности жаждут и в ясность верят.
Тут – закрылось. Мудрено, темно, страшно. Ни словечка прямо – все обиняком, все присказкой, смешком, намеком. Коварство речи…
Бликует текст. Словно узорной сеткой все покрыто: то ли яблонев цвет, то ли солнечные зайчики, то ли тень веток – рябит, посверкивает слово, контуры сдвоены, строены – узор слоится, линии и объемы расщеплены. Совершенно новый пластический рисунок русской прозы, соблазнительный для подражателей. [16]16
Из многочисленных наследников Лескова в русской прозе с наибольшей точностью воспроизвел это слепящее мелькание Владимир Набоков в своей «Лолите»: сетка теней и зайчиков, смазывающая реальность, там явно от «Леди Макбет…», и это куда существеннее, чем напрашивающаяся сама собой аналогия Сонетка – нимфетка.
[Закрыть]Обманчивая рябь текста – внешняя ткань, под ней у Лескова сокрыта душная бездна.
Страшная непредсказуемость обнаруживается в душах героев. Какая там «Гроза» Островского – тут не луч света, тут фонтан крови бьет со дна души; тут «Анна Каренина» предвещена – отмщение бесовской страсти; тут Достоевскому под стать проблематика – недаром же Достоевский и напечатал «Леди Макбет…» в своем журнале. Ни в какую «типологию характеров» не уложишь лесковскую четырехкратную убийцу ради любви.
Не потому ли так мудрена, так пестра и коварна речевая вязь Лескова, что он вовсе не логикой «характеров» занят, – зверство и жестокость в характерах героев возникают «вдруг» и иной раз с полной для них же самих неожиданностью, – Лесков старается передать как бы исходную ткань таких характеров, самую их «пестрядь» – смесь зверства и сентиментальности, из которой вылепливаются у него характеры, словно обернутые наизнанку.
Что за купец? Не жрет в три горла, не пьянствует, не обманывает. Встает в шесть утра и, чайку попив, едет по делам. Грамотный купец, «Лука Никонович», несбывшаяся надежда Лескова.
А помните, что хрипит он, купец, когда Катерина Львовна и Сергей душат его?
– Что ж вы это, варвары?!
А кто душит? Выходец «из народа», «огородник» некрасовский, приказчик-прибаутчик. Да русская женщина, «из бедных», цельная натура, за любовь на все готовая, – признанная совесть наша, последнее наше оправдание. То есть два традиционно положительных характера русской литературы того времени. Душат человека ради своей страсти. Душат ребенка. Есть от чего прийти в отчаяние.
Перед самым финалом – единожды – выходит Лесков-рассказчик из сетки теней и бликов своей узорной речи и пытается объяснитьсебе и нам причины происходящего. Помните это место? Когда после трех убийств должно совершиться и четвертое, а за ним – и самоубийство Катерины Львовны; когда в серой хляби дороги, под серым дождливым небом, под стон и вой ветра идут каторжане на восток, к Волге – как комментирует этот финал Лесков? Фразой из «Книги Иова»: «Прокляни день твоего рождения и умри». «Кто не хочет вслушиваться в эти слова, – пишет он, – кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо».
Объяснение, после которого и впрямь «завыть» хочется…
Нетрудно спроецировать лесковский комментарий в плоскость социальных и этических воззрений его времени. Получается достаточно ясная либеральная скорбь о темноте русского мужика и о бессилии грамотного купца. Только куда сильней в лесковском объяснении звучат «стон и вой» человека, отдающего себе отчет в бессилии как либеральных, так и прочих объяснений. Ибо в отличие от писателей и критиков, вооруженных ясными теориями, Лесков погружается на глубину, где под страшным давлением меняются привычные законы. Это уже не внешнее давление и даже не обычная сила тяжести – это тектоника магмы, сжатой и сжигающей самое себя. В отличие от либералов народнического толка, Лесков чует, какая «бездна» сокрыта в людях «древнего письма», какой зверь там дремлет. И будит зверя этого не корысть и не подлость, не стечение обстоятельств и не ошибка поправимая, а самая что ни есть естественная, всю душу забирающая – любовь.
Как это объяснить и как выдержать? «Прокляни… и умри». Ни «по Островскому», ни «по Добролюбову» с этим не справиться. Ни опровергнуть, ни на пользу не обернуть. Не укладывается очерк Лескова ни в типологию, ни в эстетику своего времени. Критика тогдашняя единственно верный для себя выход почувствовала: она очерк не заметила.
И лишь век спустя, когда Лесков отодвинулся в «даль классики», а социальный пласт, им описанный, сполз в историческое небытие, – достало у нас сил на запоздалую операцию: принять Катерину Измайлову по образу и подобию Катерины Кабановой. Век спустя это легче… и Островский, конечно, сильно помогает нам, когда мы всматриваемся в бликующее зеркало лесковской прозы, стараясь удержать взгляд на ближних, объяснимых, успокоительно привычных контурах. Сокрытая за ними бездна на столетней дистанции кажется не столь фатальной, хотя, я уверен, что именно она, эта бездна, эта тайна, в сущности, и притягивает наш взгляд.