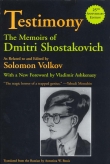Текст книги "Лесковское ожерелье"
Автор книги: Лев Аннинский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Впрочем, не все. Есть еще одно «тиснение» – в «Избранном» Лескова, выпущенном в 1981 году в Свердловске. Знаете, что там? Отрывокиз «Соборян»! Точнее, не «отрывок», а начало. Начало без продолжения – как во времена Краевского и Богушевича! Но шутки шутками, а вдруг этот «отрывок» – знамение? Вдруг это уже не школьная «дань классику», заставляющая вводить роман в Собрания, – а интерес именно к тексту:готовность вытащить оттуда самое важное, нужное, требующее прочтения сейчас…
Я думаю, что настоящая история «Соборян» в русской культуре – дело будущего. Я заключаю это не из библиографических выкладок (хотя и из них тоже), а именно из прочтения.Из того, как читается текст. Сегодня, свежими глазами, сейчас.
Знаю ли я, что Варнавка Препотенский – дурак, ошпаренный просвещением и доведший до крайностей нигилистические прописи?
Знаю.
Знаю ли, что Измаил Термосесов – негодяй, вор и провокатор, паразитирующий на левых идеях?
Знаю.
И что карлик Николай Афанасьевич – крепостной раб своей плодомасовской барыни – есть нечто вроде комнатной собачки, которую можно продать, купить, разлучить, случить и т. д.?
Знаю и это. Все знаю. Все давние лесковские обиды, все долгие брани его «налево» и «направо» – все это в «Соборянах» есть, ослабленно, но есть.
И все это мне, читателю, теперь странным образом… неважно.
Не потому, что сто лет, прошедшие со времени тогдашних баталий, лишили их актуальности; в иных лесковских романах «антинигилистские» язвы саднят куда как свежо.
Нет, они здесьне задевают, здесь, в «Соборянах». Прав был Лесков, каким-то сверхчутьем решивший очистить текст от злободневных игл и вериг. В самом тексте заключено что-то иное,обесценивающее всякую недолгую злободневность, – глубинная тема, бросающая на все новый свет.
Читая этот колдовской текст, с изумлением соображаешь, что реальные события, вокруг которых столь подробно вьется и крутится повествование, большею частью чепуховые. Как пометят поп и протопоп трости, чтоб не перепутать? Хватит ли у Варнавки смелости дернуть за ус капитана Повердовню? Поймает ли карлик ручку своей госпожи для поцелуя? Поймает ли дьякон вора, нарядившегося чертом?.. О, какой эпос! Почтмейстерша, желая избить своего мужа, по ошибке в темноте избивает Препотенского. Госпожа Мордоконаки, разоблачаясь после бала, находит записку с графоманскими стихами влюбившегося в нее капитана Повердовни и думает по-французски: «Боже мой, вот она, настоящая Россия!..» Анекдотцы какие-то, или, как сам автор нам подсказывает: ничтожные сказочки.
Проницательная эта подсказка, однако, по-лесковски коварна. Ничтожность сказочек отсылает нас на иной уровень, где и решается художественное действие этого странного текста, навернутого на видимые пустяки. Суть – в том сложном, мощном, многозначном узорном речевом строе, сквозькоторый пропущены анекдотцы и сказочки. Не в том дело, что учитель и дьякон крадут друг у друга мертвецкие кости. А в том, как много, как неосторожно много души вкладывают в эту чепуху, как увлечены они оба этой игрой, – как они опасно безоглядны в ней.
Смешно. Смех стоном проходит сквозь книгу. Смеясь грешат, смеясь каются. Из пустяков на рожон лезут, на пустяках и мирятся. Из-за случая – кто первый с куста придорожного ягоды сорвет – у Ахиллы свалка со взводом солдат, «и братца Финогешу убили» – как просто, как легко; момент – и все забыто. Толпа, вышибающая камнями стекла в канцелярии, чтоб показали ей пойманного дьяконом черта, узнав, что чертом нарядился Данилка, со смехом расходится. Весело! Искрящимся, слепящим блеском разливается по этой жизни всеобщая бесшабашная веселость, всеобщая беспечность и беззаботность; не по себе от этой простоты человеку, рискнувшему над нею задуматься.
Ощущение душевной распахнутости и детской бесшабашности, по существу, глубоко беззащитной, и составляет в «Соборянах» ту призму,сквозь которую видится действие. Суть – в самой призме. Все пропорции сквозь нее меняются, все приобретает иной масштаб. Каменное оказывается призрачным, призрачное отвердевает камнем, крепкое шатается, шатающееся идет вразлет. Черное и белое меняются местами, непримиримое сходится, враги, ведущие войну насмерть, оборачиваются близнецами.
Чего, кажется, воюют и спорят из-за костей дьякон с учителем? – они ведь равно прекрасны в своей плутовской изобретательности, и право, более похожи на двух гимназистов, неразлучных в озорстве, чем на действительных противников.
А сам Термосесов, исчадье ада, не того же разве общего корня? Он ведь незлобив, в сущности, этот петербургский пакостник, у него ни одной «длинной мысли», все сплошные импровизации: схватил то, перехватил это; и хватает-то не из злобных помыслов, а просто потому, что плохо лежит, а плохо лежитв Старогороде все, от акцизничихи Бизюкиной около мужа-осла до валяющихся где попало браслетов оной акцизничихи, – так как же Термосесову и не поозорничать в таком хаосе вещей и мыслей, он, Термосесов, вовсе не злодей, скорее он фрукт,он – шут,он – шельма!Он так же непомерен в своем наивном шкодничестве, как Ахилла в своем наивном праведничестве, они – как негатив и позитив, сделаны по одной мерке, и только случаем один вышел черен, а другой бел – могли и перепутать.
Ну, а тихий карлик, защищающий Ахиллу от людских напастей? Тут уж героизм прямо рождается из своей противоположности: богом убитый «калечка», которого «на свободе воробьи заклюют», – проявляет изумительную отвагу, крепость его достоинства неотделима от той крепости, которою он огражден во владениях своей всесильной хозяйки. Одно без другого не существует! И умиление, которое испытывает к тихому карлику громоподобный великан-дьякон, – не тайная ли тяга несчастной свободы к счастливому рабству? Тут завязан самый потаенный и неразрешимый узел лесковского раздумья о России.
Есть ли однозначный ответ у Лескова на этот веер вопросов?
Нет.
Хотя вполне возможно извлечь из «Соборян» версии как героичные, так и апокалипсические. Нынешняя критика склонна видеть в лесковском романе апофеоз национальной мощи: богатырская душа Ахиллы плюс несгибаемый дух Савелия… Есть это в лесковском романе? Есть. Как есть и противоположное: предчувствуемая неизбежная гибель старой России, гибель от потери веры, в погоне за выдуманным чертом. В этом смысле автор «Соборян» выступает пророком прямо в параллель автору «Бесов». Но в том-то и дело, что, в отличие от Достоевского, Лесков отнюдь не находится во власти своих мрачных предчувствий; в пестром спектре его духовного опыта эта мрачная апокалиптика несколько теряется, и вопрос остается открытым: вопрос о немеряных потенциях шатающейся русской души.
Среди нитей, которыми Ахилла Десницын, символизирующий эту добродушную и веселую «шатость», связан со всеми другими героями романа, решающая нить – к протопопу Савелию. Это связь «творения» с «творцом», «мира» с «демиургом», или, если угодно, связь того, кто поступает, с тем, кто берется отвечать за его поступки. Тема, существеннейшая для русской литературы, недаром десять лет спустя Достоевский и ее довел до степени апокалипсического ужаса в дуэте Ивана Карамазова и Смердякова. Лесков видит иное. Слезы катятся по лицу мятежного протопопа, и невозможно понять, что значат эти слезы, то ли от горечи они, то ли от умиления. Беспричинные слезы посреди беспричинного смеха – лейтмотив «Соборян». Одинок и бессилен Савелий Туберозов среди детского веселия своей паствы, потому что понимает добрые глубинные корни этого веселия. Он видит: беззащитная наивность Ахиллы – другая сторона непомерной широты и силы; одно без другого не живет; усмирить в этом дитяти вавилонскую дурь невозможно, потому что для этого надо оградить и обкорнать его душу. Замыкается круг: в себе самом чувствует мятежный протопоп эту опасную удаль, и тем горше его отчаяние, что смиряет эту мятежность не столько он сам, сколько ненавистная ему консисторская «цыфирь» внешнего благочестия.
Нет, не от удушья консисторского погибает умный протопоп, а скорее от состояния обратного: от того, что рвет и шатает его избыток силы, от невозможности удержать меру в славном природном буйстве, от неотвратимости гибельного и прекрасного риска души. Ни отделить себя от людей он не может, ни предотвратить драмы не может, а главное, – и не хочет, потому что любитпротопоп в дьяконе, детище своем, то самое, что должен укротить и смирить.
Выписывая этот сложнейший психологический узор, гениальное перо Лескова выявляет куда больше, чем сам он, кажется, может сформулировать в своем «антинигилистическом» рассудке. Отсюда – странная несходимость лесковских частных оценок, узорная прихотливость его стиля, смесь коварной незаинтересованности и иронической благостности повествователя. Через полстолетия А. М. Горький отнесет это чудо на счет чисто языковой изобретательности, однако Ф. М. Достоевский более прав, когда видит в этом лесковском диковинном языке отнюдь не формальную, а глубоко содержательную загадку. Достоевский формулирует замечательно: этот язык кажетсяневыделанным и полным оплошностей, а на самом деле тут секрет в противоречии внешнего («вывескного»?), воплощенного – и потаенного, поэтического, замышленного…
Сухость красок– это потрясающе точно почувствовано. При всей лесковской живости, при всем очезримом безудерже его – есть какая-то бисерная точность в его рисунке. И горьковатая скребущая нота, как при сухом кашле.
О, в прежних вещах Лескова, в ранних романах его, хватало «влажности»! Когда фонтанирующие проповеди вдруг пробивали текст то самозабвенным обличением нигилизма, то самозабвенным же обличением охранительства. В тех взрывах голоса было что-то «рыдающее», что-то вязкое, вяжущее, словно увязал голос, и рад бы назад, да некуда…
С «Соборян» начинается овладевшее собой лесковское слово:сухая и точная вязь, сплетающая анекдотцы, манящая в лабиринт, а потом вдруг очерчивающая край бездны под ногами.
Это вот вечно-русское упоенное скитанье духа на краю бездны и доходит до глубин сегодняшней читательской души. Сквозь все временности давно опростоволосившегося «нигилизма» и давно почившей «поповки».
Глава 4
Распечатление «АНГЕЛА»

Странная судьба у этой вещи. Любимейший рассказ Лескова, «игрушка», выточенная им с величайшей тщательностью, текст, сразу же безоговорочно принятый огромным большинством читателей как шедевр, – «Запечатленный ангел», этот Василий Блаженный в письменности [20]20
Выражение Александра Измайлова, которое, возможно, идет от Л. Я. Гуревич, знавшей Лескова. Цит. по кн.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. М., 1984. Т. 1. С. 397. Воспоминания Л. Я. Гуревич «Из дневника журналиста» печатались в «Северном вестнике» (1895, № 4. Отд. 2. С. 64–68). Книга А. А. Измайлова уже несколько десятков лет лежит в ЦГАЛИ и ждет издания; лескововеды ее охотно цитируют, ссылаясь друг на друга и, вроде меня, беря цитаты из вторых рук. Почему именно Измайлова постигла такая судьба, неясно, – кажется, это единственная книга о Лескове, написанная крупным критиком и не дошедшая до читателя. В истории литературы бывают такие загадки.
[Закрыть]– сходу, прочно и, надо думать, навсегда вошел в историю русской литературы и в живой читательский обиход.
Но, неизменно присутствуя в посвященных Лескову литературоведческих трудах как высшее достижение его писательского гения, «Запечатленный ангел» поминается там несколько странно; он отключен и от «общественной борьбы» (в которой Лесков бурно участвует своими романами), и от картины «российской действительности» (тут в ход идут очерки), и от «истории» в соотнесении с современностью (любой исторический анекдот в исполнении Лескова дает куда больше возможностей для такого анализа). «Запечатленный ангел» является обычно в особом разделе, где речь идет о «стиле», о «сказе» или просто о «мастерстве». Как будто бывает отдельное «мастерство» вне концепции человека, вне картины действительности или вне злободневностей своего времени (то есть, бывает,конечно, но это малоинтересно). Поневоле кажется, что «Запечатленный ангел», отключенный от фундаментальной духовной проблематики Лескова, остается для нас и впрямь красиво выточенной игрушкой, что суть его – за семью печатями. Или, лучше сказать, за одной печатью – если подключиться к стилистике лесковского рассказа.
То же самое ощущение – и от издательской судьбы его.
Когда беглым взглядом окидываешь общую картину, кажется, что «Запечатленный ангел» издавался «всегда». Он вошел во все собрания Лескова: и в три дореволюционных, и в три советских – и в «красный» одиннадцатитомник 50-х годов, и в «зеленый» шеститомник 70-х, тот самый, что помнится благодаря иллюстрациям И. Глазунова, и в «коричневый» пятитомник 1981-го, где его иллюстрировал П. Пинкисевич. Словом, без «Запечатленного ангела» Лесков совершенно непредставим; никому никогда в голову не пришло бы убрать эту счастливую удачу из первой строки его шедевров и достижений русской прозы вообще.
И все-таки… За пределами лесковских собранийиздательская судьба «Запечатленного ангела» вовсе не так безоблачна, как может показаться. Опубликован – в «Русском вестнике», одном из самых «дорогостоящих» журналов того времени. Но эта публикация воистину дорого стоила Лескову; прежде, чем отдать рассказ Каткову, Лесков по инерции стучался все к тому же Юрьеву в эфемерную «Беседу», но Юрьев и эту рукопись вернул, и к Каткову Лесков понес ее, в общем, от безвыходности. Писаревский бойкот все еще имел некоторое действие; в прогрессивные журналы Лесков стучаться не хотел; свой вынужденный союз с Катковым он демонстративно объяснял соображениями денежными. В «Русском вестнике» действительно платили и двойную, и тройную цену; однако, зная Лескова, мы не можем не уловить в этой мотивировке некоторой доли «вызова»: в принципиальных вопросах Лесков, не колеблясь, жертвовал материальными выгодами. Тут положение было иное: переходное, неопределенное. Рассказ не содержал внешней идеи, которая могла бы явно задеть левых или правых (как выражались критики, в нем не было стебницизмов).С другой стороны, реальное положение Лескова было весьма неустойчиво; он искал независимости, ставя одновременно на «разные номера»: пытался закрепиться на государственной службе, чтобы не зависеть от катковских тройных гонораров, но вынужден был брать эти гонорары, чтобы не зависеть целиком от ненавистной службы. (На службе, как мы увидим, не удержался. У Каткова тоже: «Запечатленный ангел» еще прошел – чудом проскочил «за их недосугом», «в тенях», а уже на следующей публикации – на «Захудалом роде» – полный разрыв, и Катков без сожаления расстается с Лесковым: «не наш»).
Так или иначе, «Запечатленный ангел» появляется в журнале «Русский вестник» в январе 1878 года.
В октябре того же года Александр Базунов издает «Ангела» в серии «Библиотека современных писателей», сброшюровав его с путевыми заметками Лескова о «Монашеских островах на Ладожском озере». Трудно сказать, что свело в одной книжке эти произведения (история этого издания книговедами не описана; Базунов был на грани банкротства; реализовать его издания пришлось уже Вольфу), – известно, впрочем, что Лесков отрывал и выбрасывализ брошюры нелюбимые «Монашеские острова», оставляя одного «Ангела». Может быть, в издании этой вещи без ненужных сопровождений он уже тогда встретил препятствия? Во всяком случае, ясно одно: когда автор рвет книгу на части, это не свидетельствует о легкости издания.
Следующее отдельное издание «Запечатленного ангела», напротив, описано подробно – самим Лесковым.
Издание (крошечная двадцатикопеечная книжечка) было предпринято А. С. Сувориным в 1887 году. Текст пошел в цензуру и вернулся… тут надо употребить выражение Лескова… исщипанный.Лесков протестовал, ссылался на то, что «Запечатленного ангела» печатал сам Катков, что его читал сам царь Александр II и что царица присылала генерал-адъютанта выразить ее благодарность. «Это знают, – перечислял Лесков свидетелей, – Тизенгаузен, Кушелев, Пиллер, Кантакузен и министр Толстой, а также Мещерский и Победоносцев». Однако ни Победоносцев, ни министр Толстой, ни сам царь Александр не помогли Лескову: цензура «исщипала» свое. Вовсе же отказаться от издания, колоссального по тиражу (10 тысяч экземпляров для того времени огромная цифра) и потому прибыльного, – духу не хватило. Оно было весьма соблазнительно и по читательской доступности; наконец, Лесков чувствовал себя теперь уже и несколько обязанным старому недругу Суворину: из трех задуманных лесковских брошюрок в суворинской «Дешевой библиотеке» две уже успели выйти (в первой – «Скоморох Памфалон» и «Спасение погибавшего» – будущий «Человек на часах», во второй – «Очарованный странник»); что же до того, чтобы «упереться» и отстоять вымарываемое, то таких иллюзий строить не приходилось: только что из первой брошюры выбросили «Кадетский монастырь»; зная все это, Лесков смирился. Некуда деться было. Исщипанное издание вышло на радость будущим историкам царской цензуры. Пятнадцать вымарок зияет в тексте – в среднем по пять строк каждая. Никаких отточий сделать не потрудились – просто выгрызли все, что не нравилось.
Интересно, что же именно не нравилось? Для примера процитирую три оскопленных фрагмента из одной сцены – когда чиновники отбирают у староверов иконы, а главный барин (которому отказали во взятке) прижигает ангела сургучом. Вымаранные места, как и в случае с «Соборянами», подчеркну.
Вот вымарывается в «Запечатленном ангеле» словосочетание, опасное тем, что оно разрушает привычный для читателя стереотип:
«…А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котелки нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиниесмотрит и плещами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это богу изволися попустить такую дикость…»
Вот вымарка, выводящая из-под чрезмерной критики чиновную власть:
«…а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит: – Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники – отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?
А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:
– Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!..»
И вот вымарка, которая должна, по мысли цензуры, ослабить чисто эмоциональный накал святотатственной сцены и оберечь, таким образом, возлюбленных читателей от излишнего возбуждения:
«…Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит:
Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как! – да, накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!
Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам.Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь в слезе растворенная…»
«Исщипанное» издание появилось в 1887 году. Интересно все-таки: через два года тот же Суворин выпустит «Ангела» в двенадцатитомном собрании Лескова – без этих купюр. И до того рассказ дважды выходил без вымарок. Что за смысл выпускать покореженное издание? Для чего, как сказал бы герой Лескова, «богу изволися попустить такую дикость»? Для того только, чтобы воздвигнуть памятник цензуре?
В качестве такового эта книжечка и покоится теперь на полках библиофилов.
Рассказ Лескова, надо сказать, более никогда не подвергался подобным вивисекциям, и дальнейшая издательская судьба его довольно благополучна – как в оставшиеся полтора десятилетия старого века («Запечатленный ангел», как я уже говорил, трижды вышел в лесковских собраниях), так и в новом веке, накопившем за семь десятилетий десятка два с лишним изданий (я имею в виду издания отечественные).
Впрочем, сначала – взгляд «по сторонам».
В числе других шедевров Лескова «Запечатленный ангел» переведен на все основные европейские языки; издан и в США, и в Японии, и в иных концах мира. Пионером, кажется, была Франция: самый ранний из учтенных Библиотекой иностранной литературы перевод – французский, 1906 года. По степени предпочитаемости этот рассказ держится в первой пятерке лесковских текстов, уступая «Очарованному страннику», «Левше», «Леди Макбет…» и «Соборянам». Стоит подумать и над такой цифрой. С 1924 года (когда рассказ появился отдельным изданием в Мюнхене) по 1972 год (берлинское издание) накопилось десятьнемецких отдельных изданий. Подчеркиваю: отдельных,то есть продиктованных интересом именно к этому рассказу (потому что рассказ выходил еще и в однотомниках, и в собраниях). Десять – это больше, чем у нас любыхизданий за весь XX век, вплоть до 1980 года (лесковский юбилей сразу почти утроил их общее число).
Так вот, о наших отечественных изданиях.
Вослед «исщипанному» выпуску 1887 года – одно за другим, с интервалами в пять-семь лет – три обширных собрания, и в каждом «Ангел». Последний раз – в 1902 году, в приложении к «Ниве». Затем – «окно». Изряднейшее «окно», которое, пожалуй, следует осмыслить, разложив на три «створа».
Во-первых, это первые полтора десятилетия нового века. В эти годы Лесков вообще не издается. С одной стороны, на книжном рынке еще гуляют тома его собраний; с другой стороны, новый интерес к лесковским текстам, вызванный революционной ситуацией и потребовавший изданий совсем иного типа, еще не определился. Первой ласточкой этого нового интереса станет в 1916 году «Левша», выпущенный в массовой дешевой народной серии. Но до «Ангела» дойдет нескоро.
Второй «створ» – 20-е и 30-е годы. Лескова уже переиздают. Но – без «Запечатленного ангела». Можно предположить какую-то психологическую несовместимость. Ну, допустим, что читатели и издатели того времени опасаются… клерикального отсвета в самой теме рассказа. Но как раз посередине периода, в 1931 году, то есть в момент, когда подобные опасения должны были бы действовать в максимальной степени, – «Запечатленный ангел» выходит в прекрасно изданном академическом однотомнике Лескова, сопровожденный прекрасными иллюстрациями Д. Митрохина и прекрасными рекомендациями Б. Эйхенбаума. Значит, издан все-таки! Увы – единожды.
Опустим военные годы: «Ангелу» в эту пору действительно «нечего делать» – Лесков работает другими текстами, и прежде всего «Левшой» и «Железной волей». Но двадцать пять послевоенных лет – третий «створ окна» – демонстрируют почти вопиющее отсутствие «Запечатленного ангела» в лесковских изданиях: с 1945 по 1972 год вышло около 25 его книг (всевозможные лесковские однотомники), в которых этого рассказа нет. Опять-таки могла бы возникнуть мысль о каком-то сознательном отказе, если бы посередине и этого периода «Запечатленный ангел» не вышел, причем дважды: один раз в 11-томном лесковском собрании (что, допустим, академическая необходимость), а другой раз в массовом издании «Рассказов» 1954 года (что уже добрая воля).
Все это производит впечатление какого-то полуосознанного отчуждения. «Запечатленный ангел» никогда не был (и не мог быть) объектом идейного неприятия (как, скажем, роман «Некуда»); он никогда не оставался вовсе за пределами внимания, как иные малоудачные опыты Лескова (вроде, например, «Леона дворецкого сына»). Ощущение такое, что вещь номинально признана, но не до конца раскрыта сознанию. Что текст не отторгнут, но и не усвоен вполне. Что рассказ всем «хорошо известен», но… плохо читан.
Это ощущение лишь подкрепляется по контрасту резким поворотом к шедевру Лескова с начала 70-х годов. После выхода «Запечатленного ангела» в 1973 году в шеститомнике «Правды» (яркие иллюстрации И. Глазунова придали ему дополнительную остроту) рассказ переиздается чуть не каждые два года. К началу 80-х годов статистика такая: из восьми изданий «Запечатленного ангела», накопившихся у нас за весь XX век (точнее, с 1902 года), пять (то есть больше половины) приходится на 1973–1979 годы. В следующее пятилетие – пятнадцать изданий. Рост колоссальный!
Поневоле скажешь: сто лет живет рассказ, а настоящая жизнь его издательская, похоже, как раз теперь только начинается…
Театральная и кинематографическая – и не начиналась. Никаких следов. Ноль.
Простейшее объяснение напрашивается само: ни одна инсценировка, ни одна экранизация не удержит, да и не станет пытаться удерживать ту чисто словесную выделку, которой этот рассказ всецело обязан своим художественным обаянием. Классический пример несценичности и неэкранизируемости?
Так-то оно так. Да вот «Левше» не помешала же словесная выделка шагнуть на сцену, да и не сходить с нее уже более полувека! «Ангелу» что-то мешает…
Может быть, и здесь тоже – полуосознанное отчуждение?
Теперь – иллюстрации.
Две автолитографии Д. И. Митрохина в однотомнике 1931 года. На одной: «жандарм» с иконой в руке – красная клякса печати на лике в контраст с мягким, «рябящим» штрихом рисунка. На другой: Лука с иконой над ревущим Днепром идет по цепи моста – красный штрих с синим перемигивается, все иронично, «детски», в духе «улыбающейся» графики 20-х годов. (В этом же духе у Митрохина – и «Левша», и «Заячий ремиз», и «Очарованный странник» – «Ангел» не выделен.)
Сорок лет спустя – восемь листов И. Глазунова в издании 1973 года. В отличие от митрохинского «единостилия», тут – все варианты глазуновского письма. Вот сине-зеленый таинственный узор чащи с трогательной фигурой старца Памвы. Вот двойной портрет в золотисто-медовой гамме – два посланца от артели, два прекрасных русских лица: грустный умный Лука, наивный добрый Левонтий… Вот русский пейзаж: золотое и зеленое поле с птичьего полета, река вдали, храм на горизонте, над ним светлое небо, через поле гуськом люди: красное, желтое… А вот – нервный, «безумный» черно-белый штрих бушующей реки: на ближнем берегу одинокие черные силуэты людей, на дальнем – город чернеющий, а меж берегами – черные, белые полосы, то ли буря, то ли вьюга, то ли Киев лесковский, то ли Петербург Достоевского или Блока… Вот тонкий силуэт иконописца… А вот и икона: голубой фон, красный плащ, коричневая кольчуга ангела, огромные глаза – не «лесковская» икона, а «глазуновская»… Глазунов воплощает в этих листах все грани своей любви: любовь и к русской иконописи, и к русской природе, и к русской мифологии – вообще к русской культуре. Здесь нет графической концепции данного произведения, «Запечатленного ангела» Н. Лескова, – текст прочитан как бы с восьми точек зрения, – но есть жгучее желание подключить это произведение к нашему сегодняшнему раздумью о славном прошлом.
И опять как бы в ответ Глазунову – два листа П. Пинкисевича в пятитомнике 1981 года: там благообразная прописанность – здесь грубоватая небрежность, там чарующая лесная зелень – здесь раздражающая кирпичная краснота стены, там кроткий Памва с вязаночкой дров – здесь развесистый Марой с ломом и веревкой. Как ответ небезынтересно, но как версия – невнятно, да и мало.
Три серии – за сто с лишним лет. Ну, еще кузьминская заставка к «Повестям и рассказам» Лескова 1954 года, да корниловская заставка же в однотомнике 1981 года все в том же ее стиле «палеха понарошку», да одна «черная доска» С. Косенкова… Мало. Удивительно, прискорбно мало для такойвещи! И – бедно: лесковский сюжет как бы «извне» привлечен, воспринят художниками для «своей нужды». Выходит, и тут пока что бедновато.

Гравюра Ст. Косенкова
Впрочем, три листа Георгия Юдина (1980 год) заставляют взглянуть на этот вопрос по-новому.
Излюбленный юдинекий «квадрат в квадрате»: густой по тону, золотой с зеленью «квадрат иконы» – в центре бледно-золотистого «квадрата жизни» с разбросанными по сторонам фигурами действующих лиц. Динамика создается силуэтом крылатого ангела, излетающего из иконы. Или выпадающего из нее. Ангел ал от крыльев до кончика меча (только силуэт головы – золотой: лица нет); в квадрате иконы остается покинутый этой алой фигурой белый, бесцветный, крылатый пустой пробой.
Еще два листа с абсолютно тем же рисунком. Движение – только в цвете. Если первый лист – алое, золотое, зеленое, то второй – черное. Черное одеяние ангела и черный фон. Гибель иконы. Третий лист – пепельный. Серый сумеречный силуэт. Выморочность. Непоправимость.
Это не иллюстрация к «Запечатленному ангелу». Это своеобразная графическая симфония на тему лесковского рассказа. Не буду распространяться по поводу чисто художественных качеств: композиционная точность, выразительность фигур, масштабность и смелость колористического решения – все очень сильно, но это не моя сфера, да и книга посвящена другому: не самим иллюстрациям, а тому, как в них выявляется наше отношение к Лескову.
Так вот, здесь выявляется новое отношение.Никакого натуралистического разжевывания текста! И никакого благостного умиления «парению духа»…
Духовное напряжение. Духовное рассуждение. Духовная тревога.
Разумеется, все это извлекается из лесковского рассказа без всякого над ним насилия: все это там заложено. Но это мыизвлекаем, сегодня,это наша теперешняя нужда и жажда.
Раньше извлекалось другое…
Теперь такой вопрос: воздействовал ли шедевр Лескова на развитие русской прозы? Если не на общелитературную ситуацию, то хотя бы на развитие жанра, на словесный инструментарий, на «тон речи», что ли…
Формально – да, воздействовал.
Фактически – вряд ли.
Форма – «рождественский рассказ». Лесков вспоминал не без гордости, что «Запечатленный ангел» создал в русской прозе модуна рождественские рассказы. Точнее так: жанр этот, «возведенный в перл» Диккенсом в Англии, у нас после Гоголя как бы захирел, а после «Запечатленного ангела» как бы ожил. Но ненадолго: скоро опять «испошлился». Гордость, с какой Лесков сообщает все это Суворину в декабре 1888 года, тронута, однако, и некоторой самоиронией. Уж кто-кто, а Лесков, сам охотно пользующийся формой «рождественского рассказа», прекрасно понимает, сколь разное содержание может быть вложено в эту форму и сколь мало связывает эта форма настоящего художника, а «мода»… «Мода» на «рождественские рассказы» в русской прозе 1870– 80-х годов – это ведь, в сущности, такая малозначащая, такая бесследно прошедшая подробность ее беллетристического «быта», такой жалкий тип воздействия, что в сопоставлении с «Запечатленным ангелом» о нем и говорить странно. Это все равно, что подмечать у певца цвет галстука. Если и воздействовал «Запечатленный ангел» на глубокие искания русской прозы, то уж, конечно, не как «рождественский рассказ». И наступило воздействие в эпоху, далекую от истершейся моды, – это уже XX век, принцип «сказа», Бабель и Вс. Иванов, Ремизов и Замятин, «серапионы» и орнаментальная, «метельная» проза 20-х годов. И воздействовал уже, собственно, не «Ангел», а весь строй лесковского художества, и не на «жанр», а скорее на общий склад прозы… Вряд ли Лесков провидел такойплан своего воздействия на русскую литературу, сам он был слишком втянут в споры и иллюзии своего времени, он все надеялся доказать свое «нигилистам» и «консерваторам». Однако каким-то сверхчутьем Лесков в «Запечатленного ангела» верил и любил его как одно из лучших своих созданий. Можно предположить, что он смутно предчувствовал долгое и дальнее воздействие этого рассказа помимо и «резной речи» его, и непосредственной проблематики.