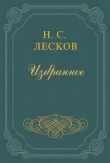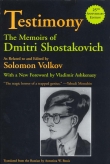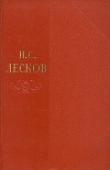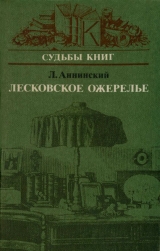
Текст книги "Лесковское ожерелье"
Автор книги: Лев Аннинский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Любопытно и другое: немецкий «приоритет» в интересе к этой вещи статистически подкрепляется на протяжении десятилетий: начиная с берлинского семитомника Лескова 1905 года и по сей день каждое четвертое зарубежное издание «Левши» – немецкое. Следом – югославы…
Качество переводов – тема щекотливая. В поле зрения нашей критики как-то попало нью-йоркское издание 1943 года («Харпер энд Роу»); обнаружилось, что переводчики-адаптаторы, в соответствии с ожиданиями американского потребителя, приставили к рассказу «хэппи энд»… Но это случай курьезный. Куда существеннее те «созвучия и игра слов», о которых предупреждал Лесков. Это надо анализировать специально, и тут нужны узкие специалисты. Отмечу одно: трудности не отпугнули, а мобилизовали мастеров. Достаточно сказать, что «Левшу» переводили: на польский язык – Юлиан Тувим, на немецкий – Иоханн фон Гюнтер, на сербскохорватский – Йован Максимович, на английский – Уильям Эджертон…
Теперь вернемся на родину и завершим картину векового бытования «Левши» в умах и душах справкой об отечественных его изданиях в советское время.
С 1918 года он издан более ста раз. Общий тираж, накопленный за шестьдесят семь лет, миллионов семнадцать. Расчленим эту цифру по одному формальному, но небезынтересному признаку. Существуют издания, когда «Левша» входит в то или иное собрание Лескова. Назовем такие издания «включенными». И есть издания собственно «Левши» или «Левши» с добавлением других рассказов, но так, что именно «Левша» вынесен на титул. Назовем их «титульными». Соотношение включенных и титульных изданий и есть показатель предпочитаемости данной вещи в общем наследии классика. Так вот, для «Левши» это соотношение беспрецедентно: один к одному. То есть каждое второеиздание «Левши» продиктовано интересом не просто к Лескову, а именно и специально к данной вещи. В этом смысле у «Левши» в лесковском наследии конкурентов нет.
Теперь – по десятилетиям.
Двадцатые годы (включая книжечку 1918 года): пять изданий; около 50 тысяч экземпляров.
Тридцатые: восемь изданий; около 80 тысяч.
Сороковые: семнадцать изданий; более миллиона экземпляров (война! русские оружейники… любопытно, что с войны интерес к «Левше» резко возрастает и на Западе).
Пятидесятые: шестнадцать изданий; более двух миллионов экземпляров.
Шестидесятые: пятнадцать изданий; около 800 тысяч (малые тиражи – в республиках: «Левшу» активно переводят на языки народов СССР).
Семидесятые: пятнадцать изданий; около трех миллионов экземпляров.
Восьмидесятые, первая половина: тридцать пять изданий; в среднем по четверть миллиона, но есть и два миллионных; а всего за пять лет – около девяти миллионов экземпляров.
Когда я писал эту главу для первого издания книги, в Киеве, в Печерской лавре, работала выставка прикладного искусства. Один из стендов был уснащен увеличительными стеклами: демонстрировались изделия знаменитого украинского умельца – типичного «Левши», ставшего инженером медицинской «мелкоскопной» техники Миколы Сядрыстого. Например, электромотор величиной с рисовое зерно. И другие вещи, совершенно необходимые в современной медицине. Почетное место на стенде занимала блоха. Натуральная блоха, разве что проспиртованная для сохранности. Она лежала на мраморной подставке под увеличительным стеклом.
Блоха была подкована.
Писатель Геннадий Комраков во время войны мальчишкой работал на оборонном заводе. И познакомился там с тульским виртуозом, мастером слесарного дела, которого все звали дядя Ваня. Однажды дядя Ваня увидел у парня на тумбочке книжку «Левша». Дальнейшее Комраков слово в слово воспроизвел в газете «Известия» сорок лет спустя, 21 сентября 1983 года.
Дядя Ваня сказал:
– Зря голову забиваешь. На нас, тульских металлистов, напраслину возвели.
– Но ведь писатель похвалил мастеров! – не понял тот.
– Обидел кровно. А в народе, толком не разобравшись, думают: похвалил.
– Но как же…
– А вот так! – обрезал дядя Ваня. – Зачем они ковали блоху?
– Хотели сделать как лучше…
– Кому? Стальная блоха аглицким мастером для чего была сделана? Для того, чтоб плясала, услаждая людей своим необыкновенным свойством. А подкованная без точного расчета, она только ножками сучила – плясать разучилась. И выходит, как ни крути, земляки мои испортили заморскую диковину. Умение свое применили во вред изделию.
Малый остолбенел. На всю, можно сказать, жизнь задумался. Самое время и нам задуматься. На сей раз не о Лескове. А о ясном уме русского рабочего человека, умении его видеть суть сквозь словесные узоры. Куда лучше литературных критиков.
Но долг критика повелевает мне войти в круг. Я читаю рассказ. Не по «легенде», летящей вперед текста, а вот просто: раскрываю текст и читаю «ничего не знающими глазами». Как если бы он только что появился.
Разумеется, я раскрываю первоначальный и необрубленный вариант, то есть начинаю с «Предисловия».
И конечно, я не верю в «оружейничью легенду», не верю ни в блоху, ни в шкипера, ни в подковки, ни в сам сюжет. Мне даже, пожалуй, все равно, подкуют или не подкуют, «посрамят» или не «посрамят». Я улавливаю, что игра не в этом. Всем своим читательским сознанием, обкатанным литературой XX века, я настраиваюсь не на сюжет, а на тон. На обертона. И с первой строчки меня охватывает противоречивое, загадочное и веселое ощущение мистификации и исповеди вместе, лукавства и сокровенной правды одновременно. «Я не могу сказать,где именно родилась легенда», – пишет Лесков, и это не могув устах всемогущего рассказчика сразу заряжает меня двумя разнонаправленными ожиданиями – и оба оправдываются! Не надо быть сверхпроницательным читателем, чтобы уловить иронию в том, как Лесков интонирует рассказ о посрамлении англичан, однако в откровенно ироническом и даже несколько глумливом обещании выяснить «некоторую секретную причину военных неудач в Крыму» нельзя не уловить и странную для этого веселого тона боль и серьезность. Читатель XIX века, не привыкший к такого рода полифонии, вполне мог воспринять ее как двусмысленность (испугавшись этого, Лесков и снял зачин), – однако читатель двадцатого века, протащенный историей через такие «амбивалентные» ситуации, какие и не снились девятнадцатому, – готов созерцать «обе бездны», открывающиеся в «Левше»: и бездну безудержной, напропалую рвущейся веселости, и бездну последней серьезности, что на грани смерти. И все это вместе. Разом. Нераздельно и неслиянно.
Эта вибрация текста между фантастическим гротеском и реалистичнейшей точностью составляет суть художественного ритма. Когда «валдахины», «мерблюзьи мантоны» и «смолевые непромокабли» уже ввергли вас в атмосферу карнавальной фантасмагории, и автор только что с удовольствием шарахнул вас по голове «Аболоном полведерским», и вы видите, что по кунсткамере меж «бюстров» и монстров шествуют не люди, а заводные куклы: Александр и Платов, – первый вдруг поворачивается ко второму и, дернув того за рукав, произносит весьма натурально:
– Пожалуйста, не порть мне политики.
Словно в одной из глав «Войны и мира».
Легенда о тульских мастерах городит перед нами геркулесовы столпы выдумки: бревном опрокидывают крышу, кричат: «Пожар!!», падают без чувств от вони в избе, летят от города к городу с дикой, «космической» скоростью, но… проскакиваютпо инерции станцию на сто «скачков» лишних, – словно в реальном повествовании с инерцией, ну, скажем, как если бы Илья Ильич Обломов, замечтавшись, прозевал бы шлагбаум…
Трезвейшая реальность спрятана в самой сердцевине безудержного словесного лесковского карнавала. И выявляется она – в неожиданных, уже по «Запечатленному ангелу» знакомых нам сбоях сюжетной логики. Надо бы мастерам идти в Москву, ан нет, пошли к Киеву… А если вы поверили, что в Киев, так тоже нет, потому что не в Киев, а в Мценск, к святителю Мир-Ликийских. Но если вы настроились узнать, что за таинство свершилось с мастерами у Николы, то опять-таки зря, потому что это «ужасный секрет». Логика рывками обходит сокровенное, обозначая, очерчивая его. Это и мистификация, и истина: реальность выявляется, но окольно, обиняками, «навыворот».
Реальность народного дарования, растрачиваемого впустую и на пустое.
Реальность того ощущения, что при всей пустоте и бессмысленности подвига Левши, в результате которого английская блоха, как правильно заметил дядя Ваня, плясать перестала,и, таким образом, минимальный смысл всего дела вывернулся наизнанку и вышел абсурдом, – все-таки умелость, талант, доброта и терпение, в этот конфуз вложенные, реальны. Они – почва и непреложность.
И вот интонация Лескова-рассказчика тонко и остро колеблется между отталкивающимися полюсами. С одной стороны, отчаянная удаль, отсутствие всякой меры, какой-то праздник абсурда: таскают за чубы? – хорошо! разбили голову? – давай еще! Чем хуже, тем лучше: где наша не пропадала!.. И вдруг, среди этого лихого посвиста – какая-нибудь тихая, трезвая фраза, совсем из другого ряда, со стороны:
– Это ихэпос, и притом с очень «человечкиной душою»…
«Человечкиной». Странное словцо: тихое, хрупкое, робкое какое-то. Совсем не с того карнавала: не с «парата» питерского и не из той вонючей избы, где все без чувств пали. И вообще, пожалуй, не с карнавала, а… из мягкой гостиной в провинциальном дворянском доме. Или из редакции какого-нибудь умеренно-гуманного журнала, воспрянувшего с неуверенным человеколюбием в «либеральные годы».
Так и работает текст: отсчитываешь от веселой фантасмагории – натыкаешься на нормальный человеческий «сантимент», отсчитываешь от нормальной чувствительности – и вдруг проваливаешься в бездну, где смех и отчаяние соединяются в причудливом единстве.
В 60-е годы Лесков был, как мы помним, – «пылкий либерал». И хотя отлучили его тогда «от прогресса», – никуда этот пласт из его души не делся. Только в сложнейшем соединении с горьким опытом последующих десятилетий дал странную, парадоксальную фактуру души, полной «необъяснимых» поворотов.
Так ведь и Толстого объяснить не могли! – как же это гениальная мощь романа о 1812 годе соединяется в одной судьбе с отречением от «мира сего»?
И Достоевского не вдруг переварили, – хорошо М. М. Бахтин подсказал объясняющий термин: «диалогизм», назвавпо имени загадку «амбивалентной» художественной действительности.
Неистовый Лесков был взыскан талантом для сходных задач. В планиметрическом времени своего века он ввязывался в бесконечные драки и терпел злободневные поражения – но чутьем великого художника чуял подступающую драматичную смену логики. Он не пытался осмыслить ее ни в плане всеобщей практической нравственности, как Толстой, ни с позиций теоретического мирового духа, как Достоевский. Лесков был писателем жизненной пластики, и новое мироощущение гнуло, крутило и корежило у него эту пластику.
Дважды два получалось пять, подкованная блоха не плясала, заковавший ее мастер выходил героем, благодарные соотечественники разбивали ему голову – на абсурде всходила загадка народной гениальности и, оставаясь абсурдной, обнаруживала непреложный, реальный, бытийный смысл.
Косой, убитый Левша был реален: его бытие оказывалось непреложней частных оценок.
Лескова спрашивали: так он у вас хорош или плох? Так вы над ним смеетесь или восхищаетесь? Так это правда или вымысел? Так англичане дураки или умные? Так вы – занарод или противнарода? Вы его восславить хотели или обидеть кровно?
Он не находил, что ответить. Стрелки зашкаливали.
«Рудное тело», сокровенно заложенное в его маленький рассказ, кидало стрелки в разные стороны.
И это же «рудное тело» сквозь столетие вывело «Левшу» из ряда побасенок и баснословий и поставило на самый стрежень русской духовной проблематики.
Глава 7
Воскрешение «ТУПЕЙНОГО ХУДОЖНИКА»

Все знают этот рассказ, но никто ничего не знает об этом рассказе.
История крепостного парикмахера, «тупейного художника», бежавшего со своей возлюбленной от злого помещика, живет в нашем читательском сознании с детства. Она, эта история, несменяемо лежит в фундаменте начитанности вот уже пяти поколений – и вместе с тем мы не знаем, как писался этот рассказ, откуда брал и как преображал автор свой материал, что при этом чувствовал. В переписке Лескова и в его публицистике, где можно найти множество разнообразных авторских признаний касательно его любимых произведений, где есть целые защитительные речи по поводу «Некуда», пронзительные признания о «Леди Макбет…», любовно сохраненные подробности из истории «Соборян», «Левши» и «Запечатленного ангела», – «Тупейный художник» обойден молчанием. Разумеется, для окончательного об этом суждения нужно, как минимум, полное собрание сочинений, но ведь и по трем сотням опубликованных писем можно кое о чем судить: сравнительно с другими шедеврами, «Тупейный художник»… то ли забыт, то ли пренебрежен, то ли прикрыт тайной: только то о нем и известно, что в нем самомнаписано. Рассказ старой няни о крепостном театре времен ее молодости. Некоторые подробности об этом самом театре – знаменитом театре графов Каменских. Ну, еще дата написания, точная, выставленная под заглавием: «Светлой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 года», – стало быть, ровно двадцать два года спустя написано: в феврале 1883-го. Вот все.
В этом кругу и крутятся комментаторы. Единственное, что могут добавить к рассказанному Лесковым, – это что театр Каменских за 37 лет до Лескова был описан у Герцена в «Сороке-воровке». В остальном, докапываясь до фактической основы произведения, литературоведы вот уж полвека пересказывают само лесковское произведение, да с такой доверчивостью, что сын писателя, Андрей Лесков, вынужден был как-то их несколько и охладить, засвидетельствовав (в примечаниях к однотомнику 1945 года), что старая Любовь Онисимовна могла и не нянчить детей в доме Лесковых: реальность и предание в рассказе перемешаны; что там «взаправду», а что «миром сложено», – уже и не различишь.
Фактическая сторона дела постепенно все более подтверждается.
Литературовед Николай Чернов, автор книги о писателях-орловцах, рассказывал мне, что разыскал в одном орловском архиве списки актеров, крестившихся во время оно в орловской церкви, – там оказалось имя Любовь Онисимовна.
В опубликованных в 87-м томе «Литературного наследства» набросках к роману «Соколий перелет», начатому и оставленному Лесковым в самом начале 80-х годов, действует «нянька Любовь Анисимовна…из отставных актрис Каменского театра».
Зная приверженность Лескова к «былям времени», мы можем быть уверены, что в основе «Тупейного художника» лежат… предания о фактах. Дело, однако, в том художественном соотношении, которое найдено здесь фактам и преданиям.
Именно это и сам Лесков внушает читателю в своей характерной лукавой манере. Он пишет: «При котором именно из графов Каменских» произошли события: то ли при генерал-фельдмаршале Михаиле Федотовиче, убитом крепостными за жестокость, то ли при его сыновьях, – «я с точностью указать не смею» (!). «В каких именно было годах – точно не знаю»… Какой именно государь проезжал через Орел в ту пору: Александр Павлович или Николай Павлович, – «не могу сказать». Читатели, знающие эту манеру Лескова, вряд ли ошибутся в том, что именно означают подобные оговорки; они означают: не хочу сказать.По верному наблюдению Бориса Бухштаба, откомментировавшего лесковский рассказ для шеститомника 70-х годов, – Лесков намеренно путаетлица и даты, сбивая точность, и это нежелание точности весьма необычно у писателя, всегда бесстрашно точного в документальной основе своих картин (за что нашивал он, как мы помним, характеристики от «фотографа» и «стенографа» до «пасквилянта» и «шпиона»). Так что некоторый мифологический туман в «Тупейном художнике» как бы соединяется с некоторым туманом вокруг него: с тем молчанием, каким этот рассказ окружен в лесковских автокомментариях. Словно сам автор не придает ему значения. Словно не рассчитывает на интерес. Словно не очень-то надеется на внимание.
Косвенно это подтверждает история публикации: «Тупейный художник» отдан в малосущественный для литературы орган, полное название которого звучит так: «Художественный журнал с приложением художественного альбома», – издание скорее для любителей живописи и графики, чем для любителей чтения. Впрочем, у этого издания было одно важное для Лескова достоинство: оно не подвергалось предварительной цензуре.
Вообще говоря, Лесков за долгие годы отверженности привык помещать свои вещи в третьеразрядных органах, с которыми его в душе ничего не связывало. Его сотрудничество в «Художественном журнале» было кратковременно: за пару месяцев до «Тупейного художника» он поместил там рассуждения о расколе (повод – одно из полотен В.Перова), а месяц спустя после «Тупейного художника» – заметку из сферы иконоведения.
На этом закончилось эфемерное участие Лескова в эфемерном журнале, недолго просуществовавшем и руководимом довольно бесцветным художественным и литературным критиком Николаем Александровым (а начинал Александров, между прочим, в славном «Современнике» и ядовитой «Осе» и как раз в ту пору, когда и сам Лесков начинал в «Библиотеке для чтения» под именем Стебницкого).
Удивительно не то, что «Тупейный художник» попал в столь маловажный орган печати. [31]31
Этот журнал, впрочем, вошел в историю русской журналистики – тем, что здесь впервые в России были напечатаны фотографические снимки; но уж тут Лесков решительно ни при чем.
[Закрыть]Удивительно то, что рассказ, похоже, для этого органа и был предназначен.
Помните начало?
«У нас многие думают, что „художники“ – это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею… У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который „был художник“… Не было ли чего-нибудь в таком же необычайном художественном роде и на Руси? Мне кажется, что было, но не знаю, как об этом подумают другие…»
Типично лесковский «коварный» заход, по касательной выводящий к теме, ибо рассуждение о том, можно ли назвать художником парикмахера, – не самый прямой путь к рассказу о любви двух крепостных и о зверстве их помещика. Ложный посыл нужен Лескову для создания художественного объема и тональности лукавого сказывания; а вот содержаниезачина явно адресовано «Художественному журналу» и должно привязать текст к «профилю» издания. Не странно ли? Принципиальные свои вещи Лесков писал без такой примерки, а печатал – где брали. С узким адресом делались вещи «ближнего прицела»: журнальные и газетные заметки на злобу дня. Похоже, что перед нами второй случай. Что Лесков шел от органа печати и лишь с этой целью поднял из «семейных памятей» рассказанный няней случай. Возможно, конечно, что у него при этом возникли и более далекие планы: «Тупейный художник» был объявлен как начало цикла «Рассказов из жизни вольных художников», но цикл не состоялся, и мы не можем судить, насколько эта реклама имела под собой почву. Рассказ остался одиночным. И ни разу не попытался Лесков после «Художественного журнала» издать его отдельно или в сборнике: ни в один из трех суворинских выпусков «Повестей и рассказов» 1887 года не вставил (это еще до первого Собрания сочинений), ни в «Очерки и рассказы» 1892 года (уже после Собрания) – никуда, где «Тупейный художник» мог быпоявиться. Да и в Собрание он вошел при обстоятельствах драматичных… но об этом ниже.
Так это издательское небрежение – не от одного ли корня с тем молчанием, которым обойден этот рассказ в автокомментариях Лескова? Ведь и критика 1883 года ни словом не обмолвилась о «Тупейном художнике»…
Чтобы вовсе не заметили, не прочли, не знали, – в это я никогда не поверю. Не тот автор! Тем более что на протяжении всего 1883 года журналы отнюдь не упускают Лескова из виду. И роман «Некуда» уже отнюдь не заслоняет в глазах критиков все прочие писания Лескова (как в тени этого романа проскочила когда-то незамеченной «Леди Макбет…»). На сей раз отношение к Лескову и достаточно внимательно, и достаточно объективно. И все же…
Вот сюжеты, в которых предстает Лесков журнальной критике с февраля по декабрь 1883 года, то есть в те самые месяцы, когда она должна была быоткликнуться на появление «Тупейного художника».
Сюжетов – три.
Во-первых, это выход сочинений Павла Якушкина, куда издатели включили воспоминания о нем десятка литераторов. Журнал «Дело», отрецензировавший этот том в конце 1883 года, из всех воспоминателей выделил именно Лескова и оснастил рецензию обильными выдержками из его очерка о Якушкине. При этом выражения вроде «обычная г. Лескову талантливость» идут в журнале «Дело» как сами собой разумеющиеся. Правда, Николай Шелгунов (статья подписана «Н. Ш.») и в прошлом обходился с Лесковым сравнительно мягко, а все же знаменательно: прогрессивная критика, в свое время отказывавшая Стебницкому не только в звании порядочногописателя, но просто в звании писателя, – двадцать лет спустя великодушно вернула ему «талантливость». Расстановка сил явно обновилась: заметим, что Павел Якушкин, столь тепло обрисованный Лесковым, – видный народник.
На якушкинский том откликнулись и «Отечественные записки» и тоже сослались на Лескова. А именно на то место, где он говорит о постепеновцахи нетерпеливцахэпохи 60-х годов. Этот пассаж журнал Салтыкова-Щедрина откомментировал со сдержанным недовольством: «…так г. Лескову угодно называть наших тогдашних консерваторов и прогрессистов».
Но главное высказывание «Отечественных записок» о Лескове в этот момент связано с другим сюжетом: с только что появившимся письмом Лескова в «Газету Гатцука». В письме Лесков объясняет свой отказ продолжать роман «Соколий перелет», тринадцать глав которого Гатцук успел напечатать. «В романе, – объясняет Лесков, – должны были выступить на свет… многие и многие из лиц, известных публике по роману „Некуда“, который…» – обратите внимание на нижеследующий оборот – «…который в одной из критических заметок г-на П. Щ. был назван „пророческим“. Во многом действительно намеченное в том романе совершилось как по писаному…» – Дипломатично прикрывшись мнением П. Щебальского (что в глазах «прогрессистов» могло лишь усугубить издевку), Лесков не удерживается от соблазна напомнить последним о старых счетах. И даже в том, как он отказываетсясводить счеты, предостаточно яду: говоря о невозможности продолжить линию «Некуда», Лесков намекает отнюдь не только на цензуру, но еще более на «партийные давления» в литературе; взамен серьезногочтения он обещает ублажить читателей чем-нибудь «интересным» на тему: «влюбился и женился» или «влюбился и застрелился».
От имени «прогрессистов» перчатку поднимает Н. Михайловский.
«Есть у нас писатель, Н. С. Лесков, – с иронической торжественностью напоминает он читателям. – Когда-то, под псевдонимом Стебницкого, он занимался беллетристическим изобличением разных „измов“, но потом оставил эту тему и перешел к изображению, иногда очень талантливому (! – Л. А.),быта нашего духовенства…»
Изложив далее мотивы, по которым Лесков отказался продолжить свою «изобличительную» линию в «Сокольем перелете», – Михайловский вскользь уточняет: «Я не знаю „Сокольего перелета“, но знаю „Некуда“. Этот роман представляет отчасти фотографию, отчасти пасквиль и насквозь проникнут тою обличительною тенденциею, которою ныне блещут романы „Русского вестника“ и которая в ту пору была еще новинкой».
Пассаж, достойный преемника Писарева. Однако времена переменились, и Михайловский в старые споры не углубляется. Он сразу переводит разговор на новые задачи. И что знаменательно: на новом этапе он склонен использовать Лескова в роли… пусть пассивного, но союзника. До чего мы дошли, иронизирует апостол легального народничества, даже роман вроде «Некуда» теперь создать невозможно! Не будем, милостивые государи, ждать, пока возопиют камни, если уж г. Лесков возопил. А уж он-то, г. Лесков, будучи несравненно талантливее (! – Л. А.)своих собратьев (по «Русскому вестнику». – Л. А.),мог бы десятками плодить романы на тему «влюбился – застрелился», – однако, видите, с какой неохотой он это делает…
Николай Михайловский с помощью Лескова решает здесь, разумеется, своюпублицистическую задачу, но интересно другое. Интересна позиция народнической критики относительно Лескова. Критики уверены, что из-под его пера может выйти одно из двух: либо пасквиль в духе «Некуда», либо какая-нибудь «пустяковина». Третьего не дано. Заметить «Тупейного художника» при такой установке мудрено. А ведь статья Постороннего (так подписывал Михайловский в «Отечественных записках» свои обзоры) появилась в апреле 1883 года – как раз тогда, когда «Тупейный художник» должен бы рецензироваться.
Власти оказались прозорливее критиков, и с этим связан третий сюжет, в котором Лесков обсуждается тою весной в журналах. Уж власти-то давно уловили, что изображение «быта нашего духовенства» (признанное Н. Михайловским как «иногда очень талантливое») решительно несовместимо с государственной службой. Десять лет назад, как мы помним, Лесков, измученный нуждой и литературной загнанностью, использовал успех «Запечатленного ангела» и пробился в министерство народного просвещения. Карьеры он не сделал, конечно. Более того, его писания все время раздражали начальство. «Мелочи архиерейской жизни» переполнили чашу. Беспокойному чиновнику был предоставлен выбор: либо служба, либо литература. Он выбрал литературу. Развязка наступила как раз в феврале 1883 года – Лескову предложили «подать прошение» (в переводе на современный язык: уйти по собственному желанию). Лесков отказался (в переводе на современный язык: вам надо, вы и увольняйте). Министр Делянов, не привыкший к подобным демаршам, спросил: зачем вам нужно такоеувольнение, Николай Семенович? Лесков ответил: для некрологов: моего и… вашего! – и оборвал разговор.
Конечно, он побеспокоился, чтобы такаяотставка не прошла незамеченной: дело попало в газеты и довольно живо обсуждалось.
«Отечественные записки» откликнулись вскользь, найдя эту историю не очень интересной.
«Вестник Европы» высказался подробнее. Он все это счел со стороны Лескова ловкой саморекламой и изобразил удивление: зачем такое надо автору, и без того весьма известному? – на что разъяренный Лесков немедленно ответил, что «Вестник Европы» делает вид, будто не понимает, что произошло.
А может, и правда, не понимали? Ни Стасюлевич, ни Михайловский, ни Шелгунов? Это ведь потомстало ясно, что именно от «Тупейного художника», который был написан в дни отставки,а опубликован в разгар скандала, – что именно от этого маленького рассказа идет дело к «Зверю» и «Чертовым куклам», к «Полунощникам» и «Загону», к повестям и рассказам 90-х годов, в которых открыто и явно развернулся Лесков против «начальства», – идет дело к цензурному гону, к катастрофе с шестым томом Сочинений, к последним вещам, так и оставшимся в столе…
Но ведь и потом, когда все это стало ясней ясного, – внимание критики оказалось притянуто к самым последним бунтам неистового еретика. Рядом с ними история тупейного художника, замордованного при крепостном праве, как-то затерялась. В обширном предисловии к первому Собранию сочинений Лескова (где в 1890 году «Тупейный художник» единственный раз автором был прижизненно переиздан) Ростислав Сементковский не обронил о рассказе ни слова. Отвечавший ему обширной статьей Михайловский – тоже ни слова. Михаил Протопопов в знаменитой статье «Больной талант» – ни слова. И никто: ни Александр Скабичевский в гневной статье «Чем отличается направление в искусстве от „партийности“», ни Семен Венгеров в сочувственной статье для брокгаузовской энциклопедии 90-х годов, ни он же – двадцать лет спустя – для второго издания Брокгауза и Ефрона, ни Львов-Рогачевский в словаре «Гранат» в 1913 году – нигде, никто, ни единого слова об этом рассказе!
Для характеристики того незнания, каким уже в начале нового века был окружен трижды изданный к тому времени в Собраниях лесковский рассказ, – последний пример.
В 1925 году Николай Евреинов переиздаетв Ленинграде свою книжку «Крепостные актеры». Глава о театре Каменского в Орле пестрит цитатами из «Тупейного художника». Это, кстати, не очень корректно: историку театра опираться на художественное произведение как на источник, – но дело не в том; главное – такая опора в 1925 году воспринимается как нечто само собой разумеющееся: театр Каменского без картин из «Тупейного художника» невообразим!
Хорошо. Открываем первое изданиекниги Евреинова: Санкт-Петербург, 1911 год… Рассказ Лескова – не упомянут! В 1911 году Евреинов его не знает. Может быть, даже и не слыхал о нем.
Между 1911 и 1925 годами происходит то, что никем не замеченный рассказ становится одним из самых признанных произведений хрестоматийного, всенародного чтения.
Точка поворота – 1922 год. «Тупейный художник» выходит в петроградском издательстве «Аквилон».
Вот она у меня в руках, эта тоненькая книжечка, с которой все началось.
«Настоящее издание отпечатано в 15-й государственной типографии (бывшей Голике и Вильборг) в марте 1922 года под наблюдением В. И. Анисимова в количестве 1500 экземпляров».
Бумага хорошая, гладкая, с кремовым оттенком – излюбленная художниками «Мира искусства», – взята, наверное, еще со старых складов. И в типографии, не так давно национализированной, еще помнят прежних владельцев. Однако разруха успела уже поприжать старых мастеров: печатать приходится под наблюдением…Печать бледновата; или краска некачественная досталась – времен военного коммунизма? Впрочем, хорошо, четко смотрятся эмблемы и буквицы; тут чувствуется и школа, и рука мастера: книгу оформил Мстислав Добужинский.

Художник М. Добужинский

Художник М. Добужинский
В заставках и буквицах Добужинский «привычен»; критики, всецело поддерживая его в традиционной четкости рисунка, будут добродушно шутить: на обложке могильный крест, опрокинутая лира, две театральные маски, окровавленный нож и кнут – рассказ можно не читать: и так все ясно… Четыре полосные иллюстрации, напротив, вызовут у критиков сомнения: неверный, прерывистый, короткий штришок «скобочками», тревожный, растрепанный, колеблющийся, покажется смутным и «сумятным»… Но именно листы Добужинского войдут в историю русского искусства. Эти тяжелые затылки сиятельных зрителей на первом плане, а из-за них – там, вдали – легкий, эфирный, трепещущий мир сцены – мир искусства. Этот хрупкий декор – рамка-рампа – распахнутые часы в доме предателя-попа, в часах – по оси листа – спрятавшаяся дрожащая Люба, а справа и слева – орущие преследователи… А вот страшная физиономия в зеркале: графов брат, приказавший Аркадию побрить его; на столе – пистолеты: порежешь – убью!.. И, наконец, знаменитый прыжок в окно: Аркадий с Любой на руках – два тела, вытянувшиеся по диагонали листа, два летящие ангела, овеянные романтическим шлейфом волос, и опять этот штрих, этот нежно дышащий, робко струящийся штрих, эти волосяные «скобочки», чуть тронутые тушевкой, – мотив обреченной тонкости…