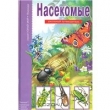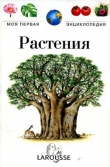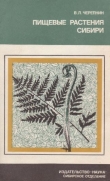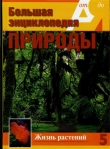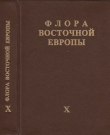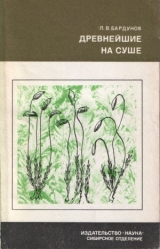
Текст книги "Древнейшие на суше"
Автор книги: Леонид Бардунов
Жанр:
Ботаника
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Еще один путь использования сорбирующих способностей бриофитов – употребление мхов в качестве упаковочного материала. Живые увлажненные мхи очень широко применяются в разных странах для упаковки и перевозки черенков, саженцев, вообще живых растений. Для этих целей используются многие листостебельные бокоплодные мхи из тех, что имеют сравнительно крупные размеры, и некоторые, тоже листостебельные, печеночники. Некоторые виды используются как среда при культивировании орхидей.
Эластичность и упругость высушенных мхов дает возможность использовать их также в качестве упаковочного материала, но только для перевозки уже совсем других вещей. В сухие мхи упаковываются хрупкие, бьющиеся предметы, в том числе фаянсовая посуда.
Широко использовались мхи (в основном опять-таки имеющие крупные размеры листостебельные бокоплодные) для набивания подушек. Цель при этом преследовалась двоякая. С одной стороны, мхи эти – прекрасный набивочный материал, с другой – считалось, что они вызывают сон. Между прочим, название одного из родов мхов, а именно – рода Hypnum (гипнум) – имеет тот же корень, что и хорошо известное вам слово гипноз. В переводе на русский язык оно означает «сон». В прошлом веке название Hypnum применялось очень широко. Едва ли не большинство крупных бокоплодных мхов включалось в этот род. Ныне же эти виды рассматриваются в составе не только разных родов, но и разных семейств и даже порядков.
Возникло, несомненно, в глубокой древности продолжающееся в широких масштабах и поныне использование мхов в качестве теплоизоляционных прокладок при строительстве деревянных (бревенчатых) строений. Каждый венец (слой) бревен прокладывается высушенными мхами. Особенно массовый характер это использование имеет в лесных районах средних и довольно высоких широт. В последнее время мхи в качестве прокладок все чаще заменяются паклей. Однако в сельской местности таежной зоны, особенно в Сибири, они по-прежнему используются чрезвычайно широко. Практически строительство ни одного дома не обходится без мхов. Как и в других аналогичных случаях, используются главным образом бокоплодные листостебельные мхи, относящиеся к различным родам и семействам, лесные и болотные: Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, виды родов Drepanocladus, Calliergon, Sphagnum, Fontinalis. Какой именно вид использовать – неважно. Важно, чтобы мох был крупным и его легко можно было собрать в больших количествах. Ведь для прокладок и упаковок мхов нужно много. Те виды и роды, что перечислены, крупные и часто растут во множестве, образуя сплошные ковры, простирающиеся на большой площади в лесах или на болотах.
Упругость и хорошие теплоизоляционные свойства мхов позволили жителям Скандинавии, а возможно, и других районов оригинальным образом использовать все тот же кукушкин лен. Из него делались матрацы. Способ приготовления их был предельно прост. На участках, где мха было много, вырезался кусок дерна необходимого размера, высушивался и отряхивался от почвы. Матрац получался превосходный – легкий, мягкий, упругий, транспортабельный. Когда он слишком уплотнялся от долгого употребления, достаточно было его слегка увлажнить, и восстанавливалась первоначальная толщина и эластичность. Другой кусок такого же дерна, так же приготовленный и примерно такого же размера служил одеялом. Во время своих путешествий по Лапландии великий шведский естествоиспытатель Карл Линней постоянно пользовался моховым ложем и отзывался о нем положительно.
Стебли некоторых видов листостебельных мхов использовались для приготовления фитилей в светильниках.
А вот пример бесполезного применения мха. Широко распространенным водным мхом Fontinalis antipyretica обкладывались внутри помещения дымоходные трубы (мхом заполнялось пространство между дымоходом и стенкой). Считалось, что он обладает противопожарными свойствами. Вряд ли нужны специальные доказательства, что этот мох горит (в сухом, конечно, состоянии) и предохранить от пожара не может.
Мохообразные употребляются и с декоративной целью. Это имело широкие масштабы и было довольно разнообразным. Мхи использовались (а в сельских местностях многих стран используются и сейчас) для украшения внутри помещений, зданий, для придания им и уголкам сада более «древнего», «старого» вида. До середины прошлого века дамские шляпки украшались мхом Climacium dendroides, который не терял декоративных качеств и в сухом состоянии.
Аборигены Австралии мхи из рода Dawsonia втыкали в волосы, украшали им браслеты, корзины.
Мы рассказали об основных способах прямого использования мохообразных человеком. Однако практическое значение их этим не ограничивается. Вид может иметь большое хозяйственное значение и при этом совершенно не использоваться. Во всяком случае, прямо. Например, кормовые растения домашних и промысловых животных, а также тех животных, которыми питаются промысловые.
Как кормовые растения мохообразные имеют очень небольшое значение. Почти никто из домашних животных их не ест. Это, правда, не относится к северному оленю, в рационе которого мхи в зимнее время часто составляют около 14 процентов. В некоторых районах Арктики доля их может достигать 20—40 процентов. В заметных количествах мхи поедаются и другими северными животными – карибу и овцебыком. Известно также, что и мамонты не чуждались мхов.
Однако во всех случаях дело не только в «сознательном» (преднамеренном) поедании мхов, но нередко и в случайном захвате их при поедании кормовых растений. При обилии мхов в тундрах, некоторых северных типах леса и в редколесьях (то есть в местах обитания животных, о которых идет речь) такой непреднамеренный захват может быть значительным. А большое количество мхов в желудках частично, вероятно, может быть объяснено их плохой перевариваемостью, в результате чего и происходит накапливание.
«Сознательно» или нет, но названные животные поедают ряд видов листостебельных мхов различного систематического состава: Aulacomnium turgidum и A. palustre, Pleurozium schreberi, Tomenthypnum nitens, Campylium stellatum, Hylocomium splendens, Sphagnum fimbriatum, некоторые виды родов Dicranum, Mnium, Hypnum, Polytrichum, Drepanocladus, Calliergon. Из печеночников только один вид «удостоился» внимания животных (более точно, северного оленя) – это маршанция.
В рационе перечисленных животных мхи лишь примесь к основным продуктам питания, нередко очень существенная. Небольшую примесь составляют мхи в зимнем питании ондатры. Основой же пищевого рациона листостебельные мхи являются у двух видов мышевидных грызунов – норвежского и лесного леммингов. Что касается лесного лемминга, то он, не особенно привередничая, ест почти все мхи, что имеются в районах его обитания. Примерно так же обстоит дело и с норвежским леммингом, так что кормовая база у них всегда обеспечена. Кажется, этими двумя видами и ограничивается число животных (позвоночных), питающихся преимущественно мохообразными. Напомним, что сами лемминги являются важной составной частью пищевого рациона очень ценного пушного зверя – песца.
Пока речь шла о поедании гаметофитов или гаметофитов вместе со спорофитами. Но отдельно спорофиты (главным образом коробочки листостебельных мхов) привлекают животных гораздо больше, чем гаметофиты. Так, целый ряд птиц из отряда куриных и воробьиных (куропатки, тетерев, глухарь, несколько видов дроздов, овсянки и др.), некоторые из мышевидных грызунов (главным образом полевки) нередко в довольно больших количествах поедают коробочки мхов: Bryum angustirete, Bryum nitidulum, Polytrichum commune, Polytrichum formosum, Pohlia nutans, Plagiothecium laetum, Mnium punctatum и других. Известны случаи, когда зобы глухарей были целиком заполнены коробочками кукушкина льна.
Гаметофиты этих же видов мхов остаются совершенно без внимания.
Общее число видов животных, в той или иной степени поедающих мохообразных (гаметофиты или спорофиты по отдельности или то и другое вместе), невелико – немногим более 30—40. Это позвоночные. Среди беспозвоночных животных тоже не наблюдается массового увлечения гастрономическими качествами бриофитов.
В той или иной степени питаются мохообразными не более нескольких десятков [видов] беспозвоночных. Это наземные моллюски, личинки насекомых нескольких отрядов, тихоходки, черви, некоторые виды муравьев. Последние поедают коробочки Aloina ambigua, Bryum bicolor, Crossidium crassinervium и еще ряда видов. Муравьи забираются на коробочку и перегрызают ножку возле ее основания. Упавшая коробочка утаскивается в муравейник.
Человеком мохообразные в пищу не употребляются и не употреблялись в прежние времена. Есть, правда, сведения об использовании сфагнов в голодные годы в Китае. Известно также, что некоторые народы Северной Европы при выпечке хлеба применяли их в качестве одного из ингредиентов. Вот и все.
Факт чрезвычайно малого поедания мохообразных животными, чуть ли не игнорирования этой большой группы растений заслуживает пристального внимания. Не связано ли это с антимикробной активностью мохообразных? Может быть, бриофиты угнетают кишечную флору многих животных? Не является ли плохая поедаемость мохообразных результатом каких-то свойств этих растений, которые могут быть полезны для человека?
Еще пример, когда мхи имеют важное хозяйственное значение, но не используются. Важным источником получения дубильных веществ являются так называемые дубильные, или чернильные, орешки – галлы, возникающие на листьях некоторых растений при повреждении их тлями. В ряде районов Китая большое экономическое значение имеют галлы, образующиеся на листьях сумаха яванского в результате повреждений их тлями, относящимися к виду Schlechtendalia mimifushi.
Все это хорошо, но при чем здесь мхи?
А вот при чем. Выяснилось, что эта самая тля, численность которой определяет обилие «орешков», зимует на мхах. Это несколько видов из рода Mnium – M. maximoviczii, M. cuspidatum, M. vesicatum. И теперь приходится ухаживать за этими мхами, ибо от их состояния зависит урожай «орешков».
Когда говорят о практическом значении какой-либо группы растений, имеют в виду не только пользу, приносимую ими, но и вред, если он, конечно, есть. Приносят ли какой-нибудь вред человеку мохообразные? Да, приносят. Правда, к счастью, сравнительно небольшой. Кое о чем уже говорилось в предыдущем разделе. О том, что разрастание мхов на лугах снижает их хозяйственную ценность, делает малопродуктивными, может привести к заболачиванию; о том, что слишком густой и высокий моховой покров в лесу затрудняет лесовозобновление; о том, что сфагновый покров приводит к заболачиванию леса.
Еще один пример – разрушение мхами деревянных крыш жилых домов и хозяйственных построек. Поселяясь на деревянных крышах, они способствуют накоплению влаги и гумуса, постоянно поддерживают высокую влажность. Это приводит к более быстрому разрушению древесины, уменьшает срок службы крыши. Особенно быстро мхи разрастаются во влажных районах (и на влажных участках). Поселяются мхи и на шиферных крышах, разрушая их. Только темпы разрушения здесь уже другие, к счастью, более медленные.
Все это свидетельства вреда, приносимого мохообразными.
Глава X. Происхождение и филогения
Происхождение и филогения любого отдела растительного царства всегда полны глубочайшего интереса. И чрезвычайно сложны. Что касается мохообразных, то здесь и научный интерес, и сложности присутствуют, так сказать, «в двойном размере», если не в тройном.
Сложностей здесь больше потому, что мохообразные, будучи очень древней группой, сравнительно плохо фоссилизуются, то есть сохраняются в ископаемом состоянии. Поэтому изучение ископаемых остатков бриофитов даст для выяснения их происхождения гораздо меньше материала, чем можно было бы ожидать, учитывая тот факт, что мохообразные – одни из древнейших наземных растений.
Интерес к происхождению этой группы растений определяется ее положением в системе растительного царства. Мохообразные – самые примитивные из ныне существующих высших растений. И хотя они представляют собою слепую, боковую ветвь эволюции и не являются предками остальных высших растений, все же они – ближайшие родственники этих предков. К тому же родственники современные, а не вымершие. Вопрос о происхождении мохообразных – это также в большей мере и вопрос о происхождении всех высших растений вообще. Вот почему к нему постоянно обращаются ботаники разных специальностей, а не одни только бриологи.
Как и почти в любом случае, когда речь заходит о происхождении таксона самого крупного ранга – отдела, так и в происхождении бриофитов много неясного, неопределенного, предположительного.
Напомним сначала, что известно о происхождении бриофитов по данным палеоботаники. Известно, надо сказать, не так уж много.
Наиболее древние остатки мохообразных найдены в девонских отложениях (один вид печеночника) и в отложениях верхней половины каменноугольного периода. Представлены эти остатки талломными печеночниками и одним листостебельным мхом. Печеночники похожи на маршанцию, листостебельный мох – на представителей семейства Polytrichaceae, к которому относится уже многократно упоминавшийся кукушкин лен. Из этого, конечно, не следует, что ископаемые остатки бриофитов могут рассматриваться как относящиеся к роду маршанция и к семейству политриховых. И все же сходство (и родство) этих древнейших (палеозойских!) организмов и ныне живущих просто поразительно. И вряд ли можно оспаривать правомерность включения каменноугольных и девонских мохообразных в состав современных порядков.
В следующем периоде палеозойской эры – пермском – мохообразные несколько более многочисленны и разнообразны, особенно листостебельные мхи, которых насчитывается около 20 видов, относящихся к двум порядкам. При этом представители одного порядка (Protosphagnales) известны только из пермских отложений. Ни до ни после они не обнаружены (характеристика порядка дана в гл. XI).
В отложениях более позднего возраста количество видов ископаемых бриофитов резко увеличивается. В особенности это относится к кайнозою. К сегодняшнему дню известно, вероятно, не менее 300 видов ископаемых мохообразных. Из них на долю печеночников (антоцеротовые в ископаемом состоянии неизвестны) приходится примерно 50—70 видов, остальное – листостебельные мхи.
Самое существенное, что вытекает из анализа ископаемых мохообразных, это следующее. Раньше девона мохообразные достоверно неизвестны, листостебельные мхи – раньше каменноугольного периода, листостебельные печеночники – раньше третичного периода. Наиболее древние из известных ископаемых остатков бриофитов представлены уже довольно далеко разошедшимися и продвинувшимися формами. И следовательно, возникли мохообразные, скорее всего, значительно раньше того времени, из которого известны их первые ископаемые остатки.
Обращает на себя внимание большая степень близости ископаемых мохообразных к современным. Начиная с третичного периода, большая их часть отождествляется с ныне живущими видами. Наиболее отличающиеся от современных формы выделяются в особые роды и семейства и, как исключение, в особые порядки, точнее в порядок. Ибо известен всего лишь один порядок, представленный только ископаемыми формами – Protosphagnales.
Из всего этого напрашивается вывод о большой древности и всего отдела мохообразных и большей части его подразделений (всех классов, почти всех порядков, основной части семейств, не менее половины родов).
Как современная бриология представляет себе происхождение мохообразных?
На этот счет существует много высказываний, взглядов, гипотез, точек зрения. Попытаемся все это многообразие, конечно, с известной долей схематизации и упрощения сгруппировать по тому общему, что их объединяет. Получится две основные группы гипотез. Первая исходит из предположения, что предками мохообразных были псилофиты (риниофиты). Вторая – выводит мохообразных из водорослей. Каждая из этих групп гипотез имеет свои привлекательные стороны, и каждая же – весьма серьезные изъяны.
Рассмотрим каждую из этих групп гипотез.
Первая группа. Возможные предки мохообразных – псилофиты. Псилофиты и мохообразные – наиболее родственные, близкие между собой отделы высших растений. Родство это настолько несомненно и, можно сказать, велико, что ряд ботаников один из классов мохообразных – антоцеротовые – даже выделяет из отдела мохообразных в включает в состав отдела псилофитов. И хотя большинство бриологов эту точку зрения не разделяет, все же несомненно, что из ничего она возникнуть не могла, что для этого необходимы серьезные основания.
Одно из наиболее ярких свидетельств родства псилофитов и мохообразных – замечательное сходство в строении спорангия псилофитов и коробочки мохообразных (см. гл. II). У части псилофитов и у некоторых мохообразных (у антоцеротовых, сфагнов и андреевых) спорангий и коробочка (которая тоже является спорангием, просто в отношении мохообразных термин «спорангий» не особенно употребителен) устроены очень сходно. Напомним это строение. Бокаловидная в схеме коробочка заполнена клетками двух родов: материнскими клетками спор (впоследствии спорами), образующими споровый мешок, и стерильными клетками – колонкой. Колонка представляет нечто вроде столбика-стерженька, поднимающегося со дна коробочки. Споровый мешок накрывает ее сверху наподобие колокола или шапки.
Такое сходство, конечно, не случайно. И проходить мимо него нельзя. Другое дело – какие выводы делать. Можно ли на основании этого сходства (понятно, с учетом и других признаков) считать, что одна группа растений возникла из другой, а именно мохообразные из псилофитов? В принципе, конечно, можно. По нельзя забывать и того, что чисто теоретически можно допустить, по меньшей мере, три варианта объяснения этого сходства: мохообразные возникли из псилофитов, псилофиты – из мохообразных, обе группы растений имеют независимое происхождение от общих предков. И какой из этих вариантов ближе к истине, сказать (обоснованно доказательно!) очень нелегко.
Большой группой бриологов и вообще ботаников, занимающихся этим вопросом, был взят на вооружение первый вариант. И главное основание для такого подхода – до недавнего времени были псилофиты, известные из гораздо более древних отложений, чем те, в которых обнаружены самые древние мохообразные. Значит, вроде бы псилофиты возникли гораздо раньше мохообразных, явившись первыми наземными растениями. И взгляд на мохообразных как на потомков псилофитов в этом случае вполне понятен.
Но действительно ли псилофиты старше мохообразных? Еще недавно самые ранние бриофиты датировались карбоном. Сейчас они известны уже из девона. И мы довольно уверенно можем говорить о приблизительно одновременном появлении на «свет» и псилофитов и бриофитов, по крайней мере талломных печеночников.
А если так, то очень трудно одну группу растений выводить из другой.
Есть еще некоторые моменты, затрудняющие попытки рассматривать псилофиты в качестве возможных предков мохообразных. Мы знаем, что псилофиты были сравнительно крупными растениями с довольно сложным и высоко организованным спорофитом, способным к самостоятельной жизни. Считать мохообразные потомками псилофитов, значит, допускать возможность (вернее, необходимость) значительной деградации спорофита и утерю им способности к самостоятельному существованию. Не очень понятны причины такой деградации. Почему растения с более развитым спорофитом (псилофиты) вымерли, а их потомки с сильно деградировавшим спорофитом (мохообразные) сохранились, выжили, несмотря на то, что в целом у наземных растений спорофитная линия эволюции оказалась единственно плодотворной и перспективной. Все наземные высшие растения (кроме мохообразных) осуществили именно спорофитную линию эволюции.
Ответа на этот вопрос гипотезы, рассматривающие псилофиты как исходную группу в происхождении мохообразных, не дают.
Правда, в последнее время появилась тенденция считать предками мохообразных не те псилофиты, что известны в ископаемом состоянии, а каких-то их родственников или предков, которые по общему уровню организации стояли не выше мохообразных. В этом случае вопрос о деградации, редукции при развитии мохообразных снимается. Но возникает вопрос о самих этих родственниках или предках и о том, можно ли считать их псилофитами и не были ли эти предполагаемые растения предками и мохообразных, и самих псилофитов.
Псилофитные гипотезы происхождения мохообразных «дружно» обходят вопрос о возникновении многоклеточных гаметангиев последних. В этом вопросе нет необходимости что-то доказывать, поскольку такие гаметангии, несомненно, уже были у псилофитов. Однако каким образом они возникли?
Выяснение этого уже выходит за рамки вопроса о происхождении мохообразных и непосредственного отношения к нему не имеет. Уход от этого вопроса, пожалуй, самая уязвимая точка гипотез, рассматривающих псилофиты в качестве возможных предков мохообразных.
Вторая группа гипотез. Возможные предки мохообразных – водоросли. Здесь проблема возникновения многоклеточных гаметангиев приобретает первостепенное значение (у водорослей их нет, или они устроены очень своеобразно и не могут рассматриваться в качестве исходных для возникновения архегония и антеридия). Она в центре внимания исследователей, видящих в водорослях возможных предков мохообразных. Еще в начале XX века английский ботаник Б. Дэвис нарисовал картину предположительного происхождения архегониев и антеридиев из многокамерных гаметангиев того типа, что наблюдается у бурых водорослей. Основной путь превращения многокамерного гаметангия бурых водорослей в многоклеточные гаметангии мохообразных – частичная стерилизация материнских клеток гамет.
Многокамерный гаметангий бурых водорослей – карпогон – представляет собой овальное или веретеновидное тело, сидящее на ножке. Все клетки карпогона фертильны. Все – в самом прямом и точном смысле, то есть, включая и те, что образуют наружный слой – стенку карпогона. Все они являются материнскими клетками гамет. Располагаются эти клетки в карпогоне не хаотично, а правильными рядами-этажами, направленными перпендикулярно длине карпогона. Мужские и женские карпогоны устроены одинаково и различаются в основном размерами – собственными и производимых ими гамет. Последние снабжены каждая двумя жгутиками и могут двигаться самостоятельно (и мужские и женские).
Представим, что под влиянием наземного образа жизни у выходящих на сушу водорослей произошла частичная стерилизация материнских клеток гамет. Наиболее вероятна потеря фертильности клетками наружного слоя карпогона, превращение их в оболочку, предохраняющую заключенные внутри нее материнские клетки гамет. В этом случае мы получим антеридий и ничто другое. Кстати, в молодом возрасте материнские клетки антерозоидов располагаются в антеридии точь-в-точь, как и материнские клетки гамет в карпогоне, – правильными рядами-этажами, ориентированными перпендикулярно длине антеридия. А если допустить, что стерильными стали все клетки, кроме одной (яйцеклетки), то мы получим архегоний в чистом виде.
Конечно, все изложенное здесь – схема.
И все же надо сказать, что в идее Б. Дэвиса о происхождении архегониев и антеридиев путем частичной стерилизации фертильных клеток карпогона или органа, близкого к нему по строению и функциям, очень много подкупающего. Чрезвычайно заманчиво выглядит эта идея. Руководствуясь ею, можно сравнительно легко вывести архегонии и антеридии из органа типа карпогона бурых водорослей. Вывести, пусть и чисто теоретически, но все-таки без лишнего нагромождения недоказанных допущений и умозрительных предположений, оставаясь, так сказать, на твердой земле фактов. И это уже немало.
Трудность подкарауливает с другой стороны. Два момента существенно осложняют гипотезы водорослевого происхождения мохообразных, в том числе и нарисованную выше картину возможного происхождения многоклеточных гаметангиев.
Первый момент заключается в том, что гаметангии типа бегло охарактеризованного карпогона бурых водорослей есть только у бурых водорослей. У зеленых ничего похожего нет. Ни у современных, ни у ископаемых. И даже, если у них встречаются иногда многоклеточные гаметангии (у харовых и у Chaetonema), то рассматривать эти органы как возможные морфологические предшественники архегониев и антеридиев очень трудно. Между тем и мохообразные, и все остальные архегониатные растения – это растения зеленые. И пигментный состав, и вся физиология, и вся биохимия у них совсем не те, что у бурых водорослей.
Какой же выход?
Некоторые ботаники пытались и пытаются найти его в конструировании гипотетических водорослей – во всем зеленых, но с гаметангиями типа карпогона бурых водорослей. К этому же склонялся и Б. Дэвис. Такое конструирование, вероятно, не лишено смысла. Но достаточно ли оно убедительно?
Второй осложняющий момент. Мохообразные хотя и стоят ближе всех остальных современных растений к водорослям, все же очень далеки от них. И выводить мохообразные непосредственно из водорослей – все равно зеленых или бурых, современных или ископаемых, реальных или полностью гипотетических (выдуманных) – крайне трудно. Возникает необходимость в промежуточном звене – каких-то полуводорослях-полумохообразных. А где их взять?
Вот и выясняется, что ни та ни другая группа гипотез не решают вопроса о происхождении мохообразных достаточно убедительно. Гипотезы псилофитного происхождения привлекают больше сторонников и более распространены, чем водорослевые. Однако это не является следствием большей убедительности или доказанности их. Предпочтение какой-либо гипотезы сегодня не вывод из непреложных фактов, а личная точка зрения исследователя, не столько вытекающая из фактов, сколько обусловленная не всегда понятными «поворотами мысли». К тому же в некоторых из последних вариантов, исходящих из предположения, что мохообразные произошли от каких-то сравнительно просто устроенных, первичных гипотетических псилофитов, эти гипотезы в какой-то мере смыкаются с водорослевыми гипотезами. Ведь эти гипотетические первичные псилофиты в сущности и есть то промежуточное звено между водорослями и мохообразными, те полуводоросли-полумохообразные, о которых говорилось выше.
* * *
Таким образом, утверждать, что вопрос о происхождении мохообразных решен сколько-нибудь удовлетворительно, будет, пожалуй, рановато. Слишком много еще неясного, неопределенного, в том числе и в вопросах филогении этой группы. Да и трудно было бы ожидать иного: происхождение и филогения тесно между собою связаны, и нерешенность одной проблемы сразу же ставит массу вопросов в другой.
Почти без преувеличений можно сказать, что в филогении мохообразных нет пока убедительных решений основных вопросов. Так, мы не знаем, в какой последовательности появлялись классы и подклассы мохообразных. Более или менее единодушны бриологи в признании за печеночниками большего возраста, чем за листостебельными мхами. Предположим, это – верная точка зрения. Но и она – скорее предположение, чем вывод из фактов. Совершенно неясным остается время появления антоцеротовых. Мы уже упомянули, что в ископаемом состоянии они неизвестны. Правильнее будет сказать, что неизвестны макроостатки. Споры обнаружены в отложениях третичного возраста. А ведь по многим признакам, например наличию хлоропласта с пиреноидом, именно антоцеротовые наиболее близко стоят к водорослям. Какова последовательность появления порядков, каковы их родственные связи? Ответа, четкого, доказательного, нет.
Нет ответа и на вопрос о том, какова была структура первичных мохообразных. Были они талломными растениями типа современных антоцеротовых, или слоевищных, печеночников или же были радиально симметричными, если и не вполне листостебельными, то хотя бы с зачатками листостебельности?
Важность правильного ответа на этот вопрос вряд ли можно переоценить. С ним связано понимание филогении и истории, построение системы всего отдела мохообразных. От этого зависит, будет ли наша система ориентирована правильно или же поставлена с ног на голову.
И вот на такой кардинальнейший вопрос нет ответа, То есть ответ, конечно, есть. Их даже много. Но вот одного-единственного, убедительного, не вызывающего сомнений как раз и нет. Какую бы точку зрения на структуру первичных мохообразных мы ни приняли, неизбежно вынуждены будем выводить один морфологический тип из другого – либо листостебельный радиально симметричный из талломного, либо наоборот. Но ни того ни другого никому из бриологов сделать пока не удалось. И это крайне трудно даже в чисто морфологическом плане. Но ведь морфологию надо еще совместить с реальной историей мохообразных. В зависимости от точки зрения, листостебельные формы должны быть либо старше талломных, либо моложе их. Ни то ни другое доказать невозможно. Если печеночники считаются старше листостебельных мхов, то сами печеночники представлены и талломными и листостебельными формами. И те и другие с одинаковыми или примерно одинаковыми основаниями можно считать примитивными, первичными.
В попытках выйти из этих сложностей родилась точка зрения, исходящая из предположения, что мохообразные представляют собою полифилетическую по происхождению (возникшую от разных предков) группу, что одни предки их дали талломные формы, а другие – листостебельные. Те и другие, следовательно, развивались сами по себе, не превращаясь одна в другую. Бесспорно, такой подход снимает массу вопросов, касающихся истории мохообразных. Но возникают другие, и вопрос о непосредственных предках мохообразных почти совсем теряет ясность.
В оправдание бриологам надо сказать, что ответов на перечисленные вопросы нет не по их вине. Дело в объективных, очень больших трудностях. Ведь мохообразные представлены рядом далеко разошедшихся, часто очень слабо между собой связанных, мало родственных линий развития. Эти линии – циклы форм различного ранга от рода до класса, как бы замкнуты внутри себя, не связаны переходами друг с другом. Часть линий развития представлена крайне олиготипными или даже монотипными таксонами, нередко довольно высокого ранга. Например, монотипный порядок Schistostegales с одним видом Schistostega pennata, олиготипные порядки Takakiales с одним родом и двумя видами, Tetraphidales с двумя родами и тремя видами, Phyllothalliales с одним родом и двумя видами и т. п.
Такой характер родственных связей крайне затрудняет установление степени родства между отдельными группами мохообразных и построение системы бриофитов. Он свидетельствует об очень большой древности мохообразных, о вымирании многих промежуточных звеньев, когда-то связывавших ныне далеко друг от друга отстоящие группы.