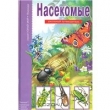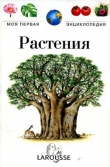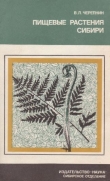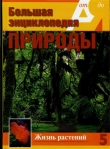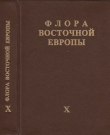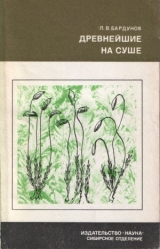
Текст книги "Древнейшие на суше"
Автор книги: Леонид Бардунов
Жанр:
Ботаника
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Глава VII. Хромосомы в эволюции и систематике мохообразных
Еще в прошлом веке было установлено, что хромосомы (известные в наше время, кажется, решительно всем!) строго постоянны по числу и строению у всех особей того или иного вида. У каждого вида растений и животных всегда свое – постоянное – число хромосом, имеющих к тому же строго определенную для данного вида форму. Следовательно, и хромосомное число, и морфология хромосом – признаки систематические.
Именно с этих позиций хромосомный аппарат стал широко и интенсивно изучаться во всех группах органического мира. Это привело к созданию нового раздела в биологии – кариосистематики. Особенно широкое развитие кариосистематика получила в последние десятилетия. Изучение хромосомного аппарата способствовало решению многих, в том числе очень трудных, вопросов эволюции и систематики организмов во всех группах, имеющих клеточное ядро.
Бриологи изучением хромосом мохообразных занимаются давно и основательно. Главное внимание было уделено хромосомным числам. К настоящему времени определены приблизительно у 9—10, может быть, 10—12 процентов от всего количества видов, входящих в отдел мохообразных. В классе листостебельных мхов хромосомные числа определены более чем у 1500 видов, у печеночников – примерно 500 и у антоцеротовых – 30 видов [Fritsch, 1972].
Виды, у которых определено хромосомное число, распределены крайне неравномерно и в систематическом отношении, и в географическом. Наибольшее число их – из умеренных широт Северного полушария. Что же касается тропиков, Южного полушария и в значительной степени субтропиков Северного полушария, то здесь дело обстоит гораздо хуже.
Поскольку у мохообразных хромосомные числа определяются главным образом во время мейоза [10]10
Мейоз – редукционное деление. При мейозе число хромосом в дочерних клетках вдвое меньше, чем в материнской.
[Закрыть], при образовании спор, то естественно, что наиболее изучены в этом отношении виды в тех семействах, где половое размножение, а значит, и спорофиты встречаются наиболее часто и массово. В классе листостебельных мхов это главным образом верхоплодные [11]11
Деление мхов на верхоплодные и бокоплодные систематического значения не имеет, как не имеет его деление покрытосеменных, например, на деревья и травы. Но если деревья и травы у покрытосеменных растений встречаются одновременно в большинстве семейств, то верхоплодные и бокоплодные мхи имеют строгую систематическую приуроченность, и подавляющее большинство семейств мхов представлено либо только верхоплодными, либо только бокоплодными формами. У верхоплодных гаметангии, а затем и спорогоны расположены на верхушке стебля или на концах боковых побегов. В обоих случаях образование гаметангиев завершает рост побега. У бокоплодных гаметангии, а затем спорогоны помещаются на специальных, сильно укороченных боковых веточках, обычно далеко от верхушки побега, на котором они сидят. Образование гаметангиев рост побега не завершает.
[Закрыть]мхи.
В целом оказалось, что в некоторых семействах процент видов, у которых определено хромосомное число, довольно высок. Высок оказался он к сегодняшнему дню и по отношению к флорам мхов некоторых стран. Во флоре мхов СССР, например, виды с известным числом хромосом составляют свыше 30 процентов всей моховой флоры [Лазаренко, Высоцкая, Лесняк, 1971].
В большинстве случаев определение хромосомного числа производилось однократно из одного пункта и даже из одной популяции. Видов, у которых хромосомы определялись несколько раз, разными исследователями и с различных территорий, не так уж много.
Тех 9—10 процентов видов, у которых определено хромосомное число, конечно, недостаточно для получения обоснованных, полноценных заключений. И от некоторых, слишком поспешных, выводов уже пришлось отказаться. Не торопясь с заключениями, попытаемся изобразить общую картину кариологии мохообразных в том виде, как она представляется сегодня.
Эта картина в основных своих, наиболее главных, частях, близка той, что наблюдается среди остальных высших растений. Мы видим среди мохообразных и полиплоидию, и анеуплоидию, и хромосомные расы, и полиплоидные ряды, и стабильные хромосомные числа у близко и не близко родственных форм.
Но кое-что оказалось довольно неожиданным. И пожалуй, самая большая неожиданность – существенные различия в поведении хромосом у представителей разных классов мохообразных и даже подчас в пределах одного класса. Наиболее ясно эти различия выступают между печеночниками, антоцеротовыми и бокоплодными листостебельными мхами, с одной стороны, и верхоплодными листостебельными мхами – с другой.
У первых трех групп хромосомные числа оказались довольно постоянными. Удивительно постоянны они у печеночников.
У трех четвертей видов печеночников, у которых определено хромосомное число, оно оказалось одинаковым и равным – в гаплоидном исчислении – девяти ( n=9). Относится ли тот или иной вид к подклассу маршанциевых или юнгерманниевых, имеет ли он слоевище или расчленен на стебель и листья, принадлежит ли он к примитивному или, наоборот, эволюционно продвинутому семейству или порядку, далеко ли отстоят виды друг от друга или очень близки между собой, молодые это виды или, напротив, древние – все равно, почти у всех у них с поразительным и не очень понятным постоянством и однообразием мы встречаем одно и то же сакраментальное число: девять, девять, девять... Других чисел очень мало. Это главным образом 8 и 10. Не без основания, кажется, некоторые бриологи предполагают, что цифра 8, по крайней мере частично, связана с ошибочным определением, возникающим из-за просмотра одной из хромосом (характеризующейся малыми размерами так называемой микрохромосомы). Если это действительно так, то и число и процент печеночников с одинаковыми хромосомными числами должны быть еще выше.
У обнаруженного всего 30 лет назад печеночника Takakia lepidozioides, который по ряду признаков рассматривается как один из наиболее примитивных мохообразных (не только печеночников!), хромосомное число оказалось крайне низким: 4 хромосомы. Это, кстати, наиболее низкое число не только среди бриофитов, но и среди всех высших растений. Одновременно оно равно наименьшему числу хромосом, выявленному у зеленых водорослей, то есть самое низкое число хромосом у зеленых растений – как низших, так и высших – 4.
Крайние же числа хромосом среди печеночников: 4 у Takakia, 36 – у некоторых видов родов Sauteria и Nardia.
Явления полиплоидии у печеночников обнаружены, но масштабы полиплоидии очень невелики; лишь около 15 процентов видов с изученным кариотипом могут считаться полиплоидами. А кроме того, очень невелик и уровень полиплоидии – в подавляющем большинстве случаев это диплоиды. Более высокий уровень плоидности имеют всего лишь несколько видов. Этот более высокий уровень – тетраплоид. Другие в этом классе неизвестны.
Внутривидовые хромосомные расы (диплоидного уровня) встречаются среди печеночников довольно редко. Они обнаружены у некоторых видов родов Marchantia (но у широко распространенного вида Marchantia polymorpha их нет), Nardia, Leiocolea, Barbilophozia.
Чрезвычайно однообразны хромосомные числа и у представителей класса антоцеротовых. Это главным образом 5 и 6 хромосом, реже 4. Явления полиплоидии крайне редки.
Большим однообразием характеризуются, как было указано, хромосомные числа бокоплодных листостебельных мхов. Только у них в отличие от печеночников и антоцеротовых, где наиболее часто встречаются числа 9, 5 и 6, самым «любимым» числом является 11. Но здесь однообразие все же не столь велико, как в классе печеночников. Число видов, имеющих 11 хромосом, не превышает двух третей. Более часты, чем у печеночников, случаи полиплоидии, чаще встречаются хромосомные расы. В большинстве случаев хромосомных рас в пределах вида не более двух – с основным (моноплоидным) и диплоидным наборами хромосом. Очень редко, однако, встречаются и триплоидные расы. Максимально высокий уровень плоидности, как и у печеночников, – тетраплоид. Но тетраплоиды – это уже виды, тетраплоидных рас практически нет.
Крайние значения хромосомных чисел у бокоплодных мхов: 5 – в родах Cyathophorum (семейство Hypopterygiaceae), Acanthocladium (семейство Sematophyllaceae), Rhytidiadelphus (семейство Rhytidiaceae) и в монотипном роде Pleurozium, представленном широко распространенным видом Pleurozium schreberi, 48 – у двух видов из семейства Amblystegiaceae – Amblystegium serpens и Leptodictyum riparium. У второго вида определялось и совсем огромное число – 96, но это вызывает сомнения.
Кроме числа 11 довольно широко распространены среди бокоплодных мхов 10, 12 и 13.
У верхоплодных листостебельных мхов дело обстоит иначе. Здесь мы видим гораздо бо́льшую пестроту и большее разнообразие хромосомных чисел, чем в рассмотренных случаях. Кроме того, у них выше процент полиплоидов и уровень плоидности. Максимально высокий уровень плоидности у верхоплодных мхов – октоплоидов [12]12
Это в природе. В эксперименте же удавалось получать формы, число хромосом у которых в 16 раз превышало таковое исходных форм. Это было сделано немецким бриологом Ф. Веттштейном при работе с межродовым гибридом Physcomitrella × Funaria с использованием апоспории (см. гл. II).
[Закрыть].
Крайние пределы хромосомных чисел здесь: 5 и 66. Пять хромосом имеют представители трех родов, относящихся к трем различным семействам.
Это некоторые виды рода Fissidens (семейство Fissidentaceae), монотипный род Leucolepis (семейство Mniaceae), один вид рода Rhizogonium (семейство Rhizogoniaceae). 66 хромосом встречены только один раз – у очень широко распространенного вида Tortula muralis (семейство Pottiaceae).
Наиболее широко распространены у верхоплодных мхов такие числа: 10, 11, 12, 13 и 14. На долю видов с указанными числами приходится до двух третей кариологически изученных видов. Часто встречается также число 7, в семействе Polytrichaceae оно является основным. Отмечено, что число 7 и производные от него 6 и 8 (а также кратные ему при полиплоидизации числа 14, реже 21 и 28) связаны преимущественно с порядками, имеющими нечленистые зубцы перистома (Polytrichales, Buxbaumiales, Tetraphidales). В порядках с членистыми зубцами перистома встречаются все остальные числа (и 7). Но это число и редко и связано преимущественно с семействами и родами, имеющими простой перистом.
В подклассе андреевых мхов хромосомные числа однообразны, известны лишь два числа: 10 и 11.
Определенное своеобразие наблюдается в кариотипе подкласса сфагновых мхов (он представлен одним родом Sphagnum). Числа хромосом здесь очень однообразны: это 19 и – у сравнительно небольшого числа диплоидов – 38 хромосом. Но дело не в постоянстве. Мы его уже видели в других группах мохообразных. Дело в добавочных к основному составу хромосом микрохромосомах. Это очень мелкие хромосомы (примерно в 10 раз меньше самой мелкой хромосомы основного состава) с несколько особым поведением. Микрохромосомы встречаются у многих видов бриофитов, но лишь в подклассе сфагновых мхов они – непременная и обязательная часть хромосомного набора всех видов. У 19‑хромосомных видов микрохромосом обычно 2, реже 4, у 38‑хромосомных – 4, иногда 8, совсем редко 5.
Так что разнообразие хромосомных чисел наблюдается не у всех верхоплодных мхов, а лишь у тех, что относятся к подклассу бриевых.
Полиплоидов среди верхоплодных мхов в процентном отношении больше, чем в какой-либо группе мохообразных. Довольно часто встречаются полиплоидные ряды – внутривидовые, внутриродовые и внутрисемейственные.
Внутривидовые ряды выражаются в наличии хромосомных рас с различными наборами хромосом. Наиболее часто встречается ситуация, когда вид представлен двумя хромосомными расами – моноплоидной и диплоидной. Таких видов около 100. Около трети этого количества представлено во флоре мхов СССР. Возможно, таких видов в действительности больше: ведь хромосомное число у большинства их определялось всего лишь один раз, и в этих случаях вопрос о наличии хромосомных рас остается открытым.
Встречаются, хотя и значительно реже, и виды с тремя хромосомными расами (моноплоид – диплоид – триплоид). К числу таких принадлежит и довольно широко распространенный Atrichum undulatum из семейства Polytrichaceae. В пределах этого вида выявлены расы с 7, 14 и 21 хромосомами. Тремя хромосомными расами представлены Atrichum crispulum из того же семейства Polytrichaceae и с точно таким же набором хромосом в каждой расе – 7, 14, 21, Tortula princeps (семейство Pottiaceae), имеющая расы с 12, 24 и 36 хромосомами, Pohlia nutans (семейство Bryaceae), имеющая расы с 11, 22 и 83 хромосомами. Этим списком число видов, имеющих по три хромосомных расы, вряд ли исчерпывается.
Есть виды и с четырьмя хромосомными расами. Это очень широко распространенная и хорошо известная Funaria hygrometrica (семейство Funariaceae). У нее выявлены расы с 14, 21, 28 и 56 хромосомами. Это и уже упоминавшаяся Tortula muralis. Ее хромосомные расы содержат 24, 48, 30 и 60 хромосом (не считая нередко наблюдающихся случаев анеуплоидии, в число которых входит и наиболее высокое для мохообразных хромосомное число 66).
Есть, по меньшей мере, один вид с пятью хромосомными расами! Это Physcomitrium pyriforme. Его хромосомные расы содержат 9, 18, 27, 36 и 52 хромосомы.
Большого внимания заслуживает вопрос о степени морфологической выраженности, а также о географии и экологии хромосомных рас. И то, и другое, и третье очень различно.
Очень часто особи одного вида с различными наборами хромосом практически не отличимы друг от друга. Однако между ними бывают и различия. В этих случаях хромосомные расы соответствуют обычно разновидностям.
Считается, что такие хромосомные расы – как морфологически различающиеся, так и неразличимые – не скрещиваются между собой, во всяком случае, как правило. То есть ведут себя как биологические виды. Впрочем, особенно большого эволюционного значения этому факту придавать не следует. Ведь у большинства мохообразных, как мы помним, преобладает вегетативное размножение. Обмен генетической информацией между различными популяциями в пределах вида существенно ослаблен. И в целом вид у мохообразных имеет не популяционный характер, как у всех остальных высших растений, а клонально-популяционный.
С географическим распространением и экологией хромосомных рас не все ясно. Есть предположения, что хромосомные расы более высокого уровня плоидности возникают в крайних условиях существования вида. Но так ли обстоит дело в действительности, сказать трудно. В этом случае разные хромосомные расы должны быть в какой-то мере обособлены географически и экологически. Это, однако, наблюдается не всегда. И моноплоидные, и диплоидные, и триплоидные (если они есть) расы распространены, выражаясь не вполне научным языком, как попало.
Все это в равной мере относится к представителям всех трех классов бриофитов.
Анализ изученных кариотипов мохообразных показывает, что полиплоидия почти не играла никакой роли в эволюции и видообразовании печеночников и антоцеротовых. В несколько меньшей степени это относится к бокоплодным листостебельным мхам, а также к андреевым и сфагновым.
В противоположность этому у верхоплодных бриевых мхов полиплоидия – явление нередкое. Полиплоидными бывают и расы, и виды, и даже роды. Во флорах мхов некоторых территорий полиплоиды составляют до 30—40 процентов от кариологически изученных представителей класса листостебельных мхов. Как в случае с диплоидными хромосомными расами, так и с полиплоидами более высокого таксономического ранга пока нет полной ясности в отношении географии и экологии их. Четкой приуроченности полиплоидов к экстремальным условиям незаметно.
Что касается происхождения полиплоидии, то наиболее вероятной обычно считается автополиплоидия. А источник ее – апоспория. Возможно, читатель, вы еще не успели забыть, что выше (см. гл. II) шла речь о способности спорофита давать протонему, которая в свою очередь может перерасти в листостебельное растение. Это растение – гаметофит – имеет уже вдвое большее число хромосом, чем было у исходного гаметофита. Ведь возникло оно из диплоидного спорофита, то есть это диплоид. При сравнительно большой легкости образования таких диплоидных гаметофитов можно предполагать, что подобный путь возникновения диплоидов (и не только их!) – дело обычное, заурядное. Ведь, если диплоидный гаметофит окажется в Состоянии произвести спорогон, то все может повториться, новый гаметофит будет уже тетраплоидным по отношению к исходному.
Еще несколько слов о различиях в хромосомном аппарате печеночников и листостебельных мхов. Они касаются половых хромосом. У листостебельных мхов половые хромосомы (морфологически выраженные) с достоверностью до сих пор не установлены. У печеночников же они не только хорошо выражены и давно установлены, но, больше того, первыми растениями, у которых были обнаружены половые хромосомы, были именно печеночники (Sphaerocarpus donnellii).
Использование кариологических данных имеет важное значение для правильного понимания ранга и систематического положения неясных таксонов. Привлекая эти данные, бриологи многое уточнили в тех случаях, когда традиционных анатомо-морфологических материалов было недостаточно для решения вопроса. При этом оказывалось, что тот или иной вид надо перенести в другой род, или возвести в ранг рода, или перевести в другое семейство. Иными словами, кариологические материалы – важный инструмент в работе систематика.
Глава VIII. Место и роль мохообразных в экономике природы
Место и роль в экономике природы... Сложное, многогранное и не всегда определенное понятие. Конечно, это прежде всего роль, которую организмы играют в круговороте веществ. А если речь заходит о зеленых фотосинтезирующих растениях, то здесь на первое место вы ступают два момента – участие в создании органического вещества и «выдача на гора», в атмосферу, кислорода. Оба они связаны главным образом с живой массой растений.
Почти всюду – и в лесу, и в степи, и в пустыне, и на скалах, и на лугах, и так далее – живая растительная масса, создаваемая мохообразными, и по весу и по объему составляет всего лишь ничтожную часть того ее количества, что создают остальные высшие растения, находящиеся в этом же фитоценозе, особенно, конечно, покрытосеменные и голосеменные. Наиболее наглядно и впечатляюще это видно в лесу. Здесь на долю мохообразных (даже в наиболее богатых мхами моховых лесах – зеленомошниках и долгомошниках) приходится лишь крохотная часть процента. Во многих других случаях соотношения значительно меняются, но при всем том фитомасса мохообразных микроскопически мала.
Исключения представляют болота, в особенности торфяные сфагновые, а также пустыни с Tortula desertorum и некоторые типы тундр. На болотах мохообразные, а точнее виды рода Sphagnum, – основная фитомасса ценоза, во всяком случае очень часто свыше 80—90 процентов. Довольно похожая ситуация наблюдается и в пустынях, где господствует тортула пустынная. Однако и в том и в другом случае количество фитомассы невелико. По сравнению с лесом сфагновое болото (в пересчете на примерно равную площадь) дает фитомассы во много сотен и тысяч раз меньше. Еще меньше она в пустыне. Да и площадь таких болот и пустынь по сравнению с площадью, занимаемой лесами, крайне невелика.
Естественно поэтому, что роль мохообразных в создании органического вещества и пополнении атмосферы свободным кислородом более чем скромна. Но значение любой группы растительных организмов не ограничивается только этим. Остается еще немало важных аспектов, в которых общая масса имеет второстепенное значение, и определяющим является место, точка, к которой эти организмы привязаны.
При широком географическом и экологическом диапазоне мохообразных они не избегают таких местообитаний, как камни и скалы, подчас совершенно голые и лишенные гумуса, гниющую древесину и гниющие листья, песчаные пустыни, обнаженные щебнистые или мелкоземные участки, лавовые потоки, вулканический пепел, склоны дюн и тому подобные, неудобные, а то и вовсе но пригодные для поселения других высших растений территории.
Здесь мохообразные выступают как первопоселенцы, пионеры зарастания. Одни или вместе с лишайниками бриофиты – авангард растительной армии. Они активно разрушают породу (например, камень), внедряясь ризоидами в микроскопически мелкие углубления на поверхности и в поверхностном слое. Они воздействуют на породу и химически, неся растворенные кислоты, и механически, способствуя проникновению воды, которая в свою очередь действует как химический агент, и опять же механически, разрушая камень, за счет расширения объема при замерзании. Отмершие остатки мохообразных создают постепенно обогащенный гумусом субстрат, пригодный для поселения других растений, более требовательных, чем бриофиты, и в том числе, конечно, покрытосеменных. Даже в живом виде мохообразные часто являются субстратом для поселения очень многих видов лишайников и некоторых видов синезеленых и зеленых водорослей. И лишайники и водоросли поселяются на мохообразных обычно как эпифиты. Но, кроме того, своей химической деятельностью (это в особенности относится к лишайникам) они часто угнетают мохообразных, ускоряя их отмирание. Нередко это угнетение вызвано простым затенением бриофита, на котором поселились лишайник или водоросль.
Известны и случаи прямого паразитизма лишайников на мохообразных. А затем и сами лишайники и водоросли, отмирая, создают вместе с остатками бриофитов субстрат, пригодный для заселения покрытосеменными растениями. Бесплодные, лишенные гумуса участки постепенно превращаются в плодородные территории, активно заселяемые всеми представителями растительного мира и, в первую очередь, наиболее важными для человека покрытосеменными растениями.
Все это в целом составляет важные звенья первичного почвообразовательного процесса. Мохообразные играют в нем очень существенную роль. Многие десятки и сотни видов пионеров зарастания из всех трех классов выполняют не очень заметную, но чрезвычайно ответственную работу – готовят почву для семенных и папоротникообразных растений. И когда на лавовом потоке, на вулканическом пепле или на скале появляются деревья, лес, то в этом большая «заслуга» мелких незаметных бриофитов.
Очень существенно значение мохообразных в жизни и нормальном функционировании многих ценозов.
Начнем с леса.
Роль мохообразных здесь и велика, и разнообразна. Даже когда их и не так много. Как и на скалах и в других подобных местах, мохообразные в лесу (или одни, или в содружестве с лишайниками) – пионеры зарастания всевозможных обнаженных незадернованных участков, прежде всего тех, на которых стояли сваленные ветром деревья. Кроме того, это кострища, пожарища, тропы. Отмирая, мохообразные обогащают такие участки гумусом, активно способствуя скорейшему вовлечению их в происходящие в ценозе процессы. Поселившиеся на гниющей древесине мхи и печеночники воздействуют на нее химически и механически и ведут к ее скорейшему разложению. Подобно плесени, они разрушают листовой опад.
Но, конечно, этим участие мохообразных в жизни лесного ценоза не ограничивается. В очень многих случаях они (главным образом, листостебельные мхи) формируют более или менее мощный, сплошной или почти сплошной покров, ковер, покрывающий всю почву в лесу и имеющий высоту до 15—20 сантиметров. Такой моховой покров очень характерен для таежных лесов и некоторых типов леса горных областей субтропиков и отчасти тропиков.
Роль мохового покрова в лесу чрезвычайно велика. Сплошной ковер затеняет почву, уменьшает размах и скорость колебаний, особенно суточных, температуры, влажности, освещенности в прилегающем к почве слое воздуха. А это значит – улучшаются условия для сохранения и прорастания семян древесных и кустарниковых растений, трав, улучшаются условия роста молодых проростков. Другими словами, моховой покров обеспечивает хорошие возможности возобновления леса, его стабильности, нормального функционирования, жизнедеятельности.
Но все это происходит лишь до определенного предела. За ним – все делается в прямо противоположном направлении. Слишком высокий и густой моховой покров препятствует нормальному возобновлению леса. Семена деревьев, кустарников и трав оседают на поверхности и в верхней части мохового покрова, зависают, не достигая почвы. А так как влажность здесь всегда высока, да и тени немало, то семена прорастают. Однако проростки, израсходовав весь запас питательных веществ, содержащихся в семени, сплошь и рядом погибают раньше, чем успевают дорасти до почвы и тем более углубиться в нее. Нормальное лесовозобновление не только затруднено, но часто вообще оказывается невозможным. Какие последствия это может иметь для жизни леса, очевидно и без разъяснений. И не только для леса, но и человека. Вот почему в ряде случаев приходится нарушать моховой покров. Нарушать, но не ликвидировать полностью, ибо это уже другая крайность и полное уничтожение мохового покрова в лесу нежелательно и даже вредно.
Но это еще не все.
Мощный моховой ковер обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и в летнее время препятствует прогреванию почвы в лесу, способствует сохранению вечной мерзлоты – там, где она есть – близко к поверхности почвы. Это, естественно, приводит к охлаждению почвы и корневой системы деревьев, в конечном счете сказывается на климате соответствующих территорий.
Если моховой ковер образован сфагнами, это почти всегда плохо для леса. Накапливая воду, сфагны способствуют его заболачиванию. Ухудшается аэрация почвы, хуже становятся условия роста деревьев и кустарников. Снижаются возможности прорастания семян деревьев и кустарников и ухудшаются условия роста молодых проростков тех и других из-за чрезмерной влажности и создаваемой сфагнами кислой реакции среды.
В некоторых наиболее влажных тропических лесах масса эпифитных мохообразных настолько велика, что порой при сильном увлажнении эпифитов они становятся такими тяжелыми, что даже обламывают ветви деревьев.
Велика роль мхов на лугах.
Мхи – конкуренты трав в борьбе за свет и влажность. А главное, они ухудшают аэрацию луговых почв, что затрудняет нормальный рост трав. Мхи накапливают влагу. В результате продуктивность лугов снижается. Начинают проявляться процессы заболачивания. Часто возникает необходимость в проведении специальных хозяйственных мероприятий (иногда дорогостоящих) для сохранения (или возвращения) высокой продуктивности лугов. Мхи на лугах, таким образом, фактор с хозяйственной точки зрения вредный. Особенно опасны они на влажных и болотистых лугах, легко подвергающихся замоховению.
Еще более велика роль мохообразных на болотах, в особенности на верховых, почти целиком образованных сфагнами. Кажется, верховые, частично переходные болота и некоторые варианты тундр – единственные ценозы, в формировании которых главенствующая роль принадлежит мхам. Превращение низинных болот сначала в переходные, а потом и в верховые с постепенным переходом от грунтового питания к атмосферному – в значительной степени результат деятельности болотных видов мохообразных. Отмирающие растительные остатки постепенно заполняют понижение, к которому приурочено болото, а огромная поглощающая и водоудерживающая способность сфагнов позволяет им расти, даже если болото поднимается над почвой и лишается грунтового увлажнения. Сфагновое болото начинает играть роль хранителя и распределителя влаги.
На земном шаре болота занимают небольшую площадь, но на равнинных территориях умеренных и высоких широт она бывает значительной. Много болот, в том числе сфагновых, в нашей стране, особенно на территории Западно-Сибирской низменности.
Рассмотрим еще один аспект участия мохообразных в экономике природы, не связанный ни с массой, ни с ролью в жизни фитоценоза. Это – участие в сложении флоры высших растений того или иного региона.
Оно чрезвычайно разнообразно. Примем, что все высшие растения любого региона, включая и мохообразные, составляют 100 процентов. На долю мохообразных – в зависимости от широты местности, высоты ее над уровнем моря, количества осадков и т. п. – придется, по ориентировочным подсчетам, примерно от 10 до 60 процентов всех видов. Степень редкости или обилия, естественно, не учитывается. Прослеживается совершенно четкая закономерность: чем дальше на север и выше в горы мы продвинемся, тем больше будет мохообразных в составе флоры высших растений. Если в лесных районах тропиков и субтропиков на их долю приходится не более 10 процентов флоры высших растений, то в умеренной зоне уже 15—23; в Арктике – 50 или даже 60 процентов (на мысе Челюскина – 62) всего количества видов высших растений. Следовательно, бриофиты в Арктике составляют более половины видов высших растений. В горах флористическое участие мохообразных не бывает большим, примерно, 35—40 процентов (в высокогорьях).
Увеличение доли мохообразных в сложении флоры в Арктике и в горах вовсе не означает, что с подъемом в горы и с продвижением на север возрастает число видов. Совсем наоборот. Чем выше в горы и дальше на север, тем все меньше видов мохообразных будет на той же площади. Возрастание процента во флоре высших растений происходит потому, что число видов остальных высших растений с подъемом в горы и продвижением на север тоже падает, но гораздо более быстрыми темпами и в больших масштабах, чем это происходит с мохообразными.
Чем выше в горы и дальше на север, тем все более заметную роль в растительном покрове начинают играть мохообразные (главным образом листостебельные мхи). Часто можно говорить о ландшафтной роли мхов. Такую роль они играют в некоторых, чаще влажных типах тундр (горных и арктических) и на моховых болотах.
Существенно их значение и в сохранении почв и вообще субстратов: мохообразные принимают на себя удары капель дождя, умеряют силу потоков. Последнее в особенности важно там, где отсутствует задернованность почв корнями и корневищами цветковых растений.
Мы видим, таким образом, что роль мохообразных в экономике природы не так уж мала. Хотя и не всегда она, что называется, «лежит на поверхности», часто, наоборот, кажется, что роль мохообразных, как и размеры их, третьестепенного значения. Однако привязанность бриофитов к очень ответственным местообитаниям и активное участие их в первичном почвообразовательном процессе, огромное значение в жизни леса и болот это представление опровергают.