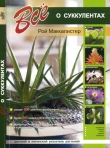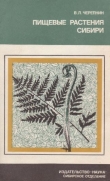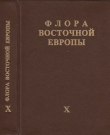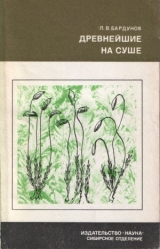
Текст книги "Древнейшие на суше"
Автор книги: Леонид Бардунов
Жанр:
Ботаника
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Это – один из примеров, характеризующих преобразование ареала из единого во множественный. Вариантов дизъюнктивных ареалов, как мы отмечали, много. Каждый требует конкретного объяснения. Общее же во всех случаях одно – изменение условий приводит к исчезновению вида с части занимаемой им территории, в то время как на другой части (или в других частях) с более благоприятными условиями он сохраняется.
Даже в эпоху максимального оледенения Арктика не представляла собой сплошь покрытого льдом пространства. Были участки – и нередко значительные по площади – свободные ото льда. На них, несмотря на суровость климата, сохранялась растительная жизнь. И сейчас в некоторых районах Арктики (широкой известностью в этом отношении пользуется, например, северная часть Аляски) сохранились виды мохообразных, росшие там еще до того, как флора Арктики стала арктической в сегодняшнем понимании. Арктические местонахождения этих видов далеко оторваны от основных участков ареалов, расположенных значительно южнее, в умеренной зоне.
Таким образом, приходим к выводу, что главный путь образования разорванных ареалов – это дробление первоначально цельного, единого ареала, связанное с изменением условий, в первую очередь климата. Другие пути формирования таких ареалов, например дальний разнос спор, имеют лишь второстепенное значение.
Отсюда – важность, огромная важность изучения разорванных ареалов, в частности, мохообразных для познания истории изменений природных условий, истории флоры и растительности того или иного региона.
Глава V. Почему велики ареалы видов мохообразных?
Из предыдущего раздела мы узнали, что ареалы видов мохообразных (большей их части) огромны, имеют необычайную протяженность по долготе и хотя, конечно, меньшую, но все же весьма значительную и по широте. С чем связано, какими причинами обусловлено столь широкое распространение очень большого числа видов мохообразных? Почему ареалы их видов в большинстве случаев гораздо обширнее ареалов большинства видов покрытосеменных растений?
Причин несколько. К главным надо, несомненно, отнести следующие: мелкие размеры тела мохообразных, угнетенность полового процесса в этой группе растении, толерантность бриофитов.
С размерами все понятно. Мелкому организму – (растению или животному) всегда легче, чем крупному, отыскать подходящую по условиям экологическую нишу и спрятаться в ней от жизненных невзгод. Очень часто ее можно назвать микронишей. Это действительно может быть участок, ничтожный по размерам, измеряемый всего лишь десятками или сотнями квадратных сантиметров по площади и какими-нибудь двумя – пятью сантиметрами в высоту. При этом надо иметь в виду, что основные экологические показатели такого участка могут очень существенно отличаться от соответствующих показателей территории, на которой он расположен. Например, поверхность камней, разбросанных среди луга, в экологическом отношении резко отличается от почвы того же луга, кора основания ствола дерева – от коры того же дерева на высоте, скажем, полтора-два метра. И так далее. Неудивительно поэтому, что на таких местообитаниях мы встречаем довольно различные наборы видов.
Возможность расселения по экологическим нишам, часто имеющим ничтожные размеры, создает порой ложное представление о будто бы широкой экологической амплитуде очень большого числа видов мохообразных. На самом же деле в этом отношении мохообразные не отличаются сколько-нибудь существенно от других наземных растений. Есть среди них виды и с очень широкой экологической амплитудой (убиквисты [8]8
Убиквисты– виды растений и животных, обитающие повсеместно в самых разнообразных условиях среды.
[Закрыть]или почти убиквисты), и с очень узкой, виды стенотопные, и есть все переходы от одной экологической группы к другой. В целом картина примерно такая же, как в других группах высших растений, хотя видов с широкой экологической амплитудой среди мохообразных все же несколько больше.
Иллюзия широкой экологической амплитуды многих видов бриофитов возникает из-за экологической специфики микрониш, когда на них автоматически переносятся все те условия, что ее окружают. При этом забывается, что в микронише очень многое может быть не так, как вокруг нее.
И среди вроде бы чуждых, не свойственных данному виду условий мохообразные могут отыскать вполне подходящие, не выходя при этом за рамки экологических требований вида (не особенно широких), не попадая в условия, требующие каких-либо перестроек анатомно-морфологического характера. И все это возможно даже и при очень значительных, крупных изменениях условий среды в течение длительного времени. Мохообразные уходят в «закоулки» среды с мало меняющимися условиями.
Предположим, возросла суровость климата. Не приспособленные к усилившимся холодам виды мохообразных должны вымерзнуть. И они действительно вымерзают, но не повсеместно, а лишь на тех участках, где зимовать им приходится «на открытом воздухе», вне снегового покрытия. Там же, где бриофиты могут перезимовать под снегом, они прекрасно переносят возросшие холода и живут, если, может быть, и не «припеваючи», то все же вполне сносно. При этом им вовсе не нужно особенно мощного, высокого снежного покрова, вполне устраивает их толщина снега в полметра. А такой слой есть, едва ли не всюду, кроме аридных засушливых районов.
Подчеркнем, что степень теплолюбивости вида при этом не изменилась. Вид не стал более холодостойким, не приспособился к возросшей суровости климата, а просто отыскал уголок, где оказалось не так холодно. Очень удобно.
А если не изменились условия существования, незачем меняться и организмам. Не надо только понимать это слишком буквально. Мы хотели сказать, что при стабильности условий скорее всего будут отбираться формы, близкие к исходным, и темп видообразования будет более медленным, чем в условиях, быстро и резко меняющихся.
Все это способствует сохранению морфологического единства вида на всем протяжении его подчас огромного ареала. Экологически и географически крайние точки ареала не выходят за пределы экологических требований вида. И в итоге, даже заняв обширнейший ареал, вид не распадается на серию видов, хотя бы и близких, но все же разных, а очень часто остается единым.
А как угнетенность полового процесса может способствовать созданию обширных ареалов видов? Очень просто, так как при угнетенности полового процесса существенную или даже главную роль начинает играть размножение вегетативное. Это значит – уменьшение, притом резкое уменьшение изменчивости, создание внутри видов целой серии чистых линий или клонов, где особи на протяжении множества сменяющихся друг друга поколении практически ничем между собой не различаются, полностью идентичны. Правильнее даже будет сказать, что при вегетативном размножении смены поколений не происходит, и мы все время имеем дело с серией одних и тех же бесконечно разросшихся в пространстве и едва ли не столь же бесконечных во времени особей.
Это приводит к очень длительному существованию вида без сколько-нибудь заметных изменений, без возникновения дочерних видов и без распада на новые.
Короче говоря, преобладание вегетативного размножения над половым приводит к замедлению темпов эволюции, видообразования. Это является одной из важнейших предпосылок длительности существования хотя бы части уже возникших видов, не имеющих конкурентов в лице новых, более отвечающих изменившимся условиям, более приспособленных. А чем дольше живет вид, тем при прочих равных условиях более обширный ареал он может иметь. Древний, давно существующий вид далеко не всегда имеет обширный ареал, но обширный ареал почти всегда принадлежит древнему виду.
Если бы не мелкие размеры тела бриофитов и возможность довольно легкого отыскания экологических микрониш, в которых можно спрятаться от жизненных невзгод, такое положение должно было бы со временем привести к резкой дисгармонии существующих видов с окружающей средой и в конечном счете к массовому вымиранию представителей группы. Мохообразных спасает от этого «бегство» в экологические микрониши с относительно мало меняющимися условиями. Это позволяет бриофитам не только сносно существовать, но порой и процветать.
Впрочем – как посмотреть! Высокая степень дизъюнктивности, присущая мохообразным (о ней говорилось в предыдущей главе), и есть свидетельство хотя и частичного, но достаточно массового вымирания видов, пришедших в дисгармонию со средой и не сумевших отыскать подходящие микрониши на большей части ареала. Сократившиеся с течением времени и ставшие дизъюнктивными ареалы очень большого числа видов мохообразных – результат недостаточно оперативного из-за угнетенности полового процесса реагирования на меняющиеся условия среды.
Насколько значительно у мохообразных, в частности у листостебельных мхов, угнетен половой процесс, насколько широко половое размножение вытеснено и заменено вегетативным, показывают следующие цифры. На Британских островах, например, по данным английского бриолога А. Геммеля, 10 процентов мхов никогда не образуют спорогонов, размножаются только вегетативно. Более или менее регулярно спороносят меньше 30% всего числа видов мхов. В пределах Алтая и Саян, по нашим материалам, не обнаружено половое размножение у 42 процентов видов! И еще у 16% оно встречается изредка. А регулярно (не значит исключительно) размножается половым путем около 30 процентов видов.
Хотя эти цифры в значительной степени случайны и даже не очень близки, масштабы замены полового размножения вегетативным они иллюстрируют необычайно ярко. О преобладании вегетативного размножения над половым можно говорить вполне определенно.
Мы не располагаем соответствующим цифровым материалом в отношении представителей двух других классов мохообразных – антоцеротовых и печеночников, однако имеющиеся материалы показывают, что и там картина примерно такая же. А именно – вегетативное размножение преобладает!
Таким образом, целый отдел растительного царства – мохообразные – размножается преимущественно вегетативным путем, утратив в значительной мере способность к половому воспроизводству.
Связано это с трудностями в осуществлении у мохообразных полового процесса. Об этом уже говорилось. Напомним, что для оплодотворения бриофитам непременно нужна вода, ибо только в ней могут передвигаться антерозоиды. Поскольку мохообразные в подавляющем большинстве растения сухопутные, наземные, воды в нужный момент может и не хватить. А так как мохообразные вдобавок очень часто растения двудомные, то возможность оплодотворения становится почти нереальной.
Вот и пришлось мохообразным давать крен в сторону вегетативного размножения, изобретая великое множество способов и органов для его быстрого и верного осуществления.
А это привело к консервативности видов и в сочетании с мелкими размерами тела обеспечило возможность длительного их существования и в конечном счете способствовало формированию очень обширных ареалов.
Теперь обратимся к толерантности. Толерантность – это выносливость растений, устойчивость их к различным неблагоприятным факторам среды. У мохообразных она поистине фантастична, особенно в том, что касается воды. Мы уже приводили факты, свидетельствующие об очень большой устойчивости ряда видов и мхов и печеночников к длительному высушиванию.
Совершенно понятно, что растения высоко толерантные способны занять обширную площадь и долго удерживаться на ней даже при различных и значительных изменениях условий.
Сочетание трех перечисленных факторов и привело к тому, что ареалы огромного числа видов мохообразных велики.
Глава VI. Живые ископаемые
Мы рассмотрели основные особенности географического распространения видов бриофитов и причины, обусловившие эти особенности. Мы видели, что географическое размещение мохообразных характеризуется своеобразными чертами и резко отличается от размещения остальных наземных высших растений.
Эти черты географии мохообразных, и прежде всего самые главные – обширность ареалов видов и большой процент разорванных видовых ареалов, представляют ли они какой-либо особенный интерес для ботаников, или же ими можно пренебречь и рассматривать ареалы бриофитов, так сказать, «на общих основаниях», в одном ряду с ареалами остальных высших растений? Ведь закономерности географического распространения всех высших растений, как уже неоднократно подчеркивали, одинаковы.
Одинаковость эта касается лишь наиболее общих моментов – зональности распределения, тенденции к разделению видов на преимущественно океанические и континентальные и т. д. В частностях же масса своеобразия. И отсюда различное ботанико-географическое и флорогенетическое значение различных групп растений.
Особенности географического распространения мохообразных делают эту группу растений очень перспективной при изучении вопросов генезиса и истории флоры и растительности того или иного региона. И даже шире – при изучении вопросов истории природы.
Все то, о чем шла речь в предыдущем разделе, – мелкие размеры тела бриофитов, угнетенность полового процесса, толерантность, – все, что в совокупности приводит к созданию обширных ареалов, обеспечивает длительность существования видов, о чем уже упоминалось. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет именно о видах и длительности их существования. Мохообразные – не только самая примитивная, но и – как мы покажем дальше – еще и самая древняя группа из ныне существующих растений. Но нас интересует возраст не отдела в целом, а конкретных видов, тех, с которыми сегодня имеем дело.
Благодаря особенностям биологии, о которых выше шла речь, вид мохообразного, раз возникнув, может существовать без изменения видовой природы, так сказать, в том же самом видовом качестве, гораздо дольше, чем это возможно для имеющих более крупные размеры и другие черты биологии видов остальных групп высших растений. Во многих случаях, вероятно, продолжительность жизни видов мохообразных в десятки раз превышает продолжительность жизни видов остальных групп высших растений. В любой группе растений мы, конечно, найдем виды очень разновозрастные: от совсем «юных», возникших, может быть, несколько тысяч лет назад или еще формирующихся, до патриархов, за плечами которых не один миллион лет. Среди мохообразных этих патриархов-миллионеров больше всего, и они самые древние.
По мнению американского бриолога В. К. Стира, большинство не только кайнозойских, но и мезозойских ископаемых бриофитов Северной Америки принадлежат тем же родам и даже, возможно, видам, что существуют и ныне.
Наверное, это так и есть. И это заключение, несомненно, справедливо и в отношении ископаемых мохообразных других континентов.
Очень и очень многие из дошедших до нас видов бриофитов – современники не только мамонтов и саблезубых тигров (таких видов немало среди покрытосеменных и голосеменных растений), но и гораздо более древних – динозавров. Да и сами мохообразные вполне могли бы быть названы живыми динозаврами растительного мира.
Подобно тому как ареал видов мохообразных примерно соответствует ареалу родов или секций покрытосеменных, так и возраст видов мохообразных может быть, вероятно, сопоставлен с возрастом родов или секций покрытосеменных. Во многих же случаях он, несомненно, гораздо выше.
Но виды растений не существуют каждый сам по себе. Они образуют совокупности – флоры. Как отмеченные особенности видов бриофитов, и в том числе их древний возраст, отражаются на бриофлоре того или иного региона?
Это проще понять, если попытаться представить себе, какие события будут происходить в бриофлоре в момент наиболее быстрых и сильных изменений среды.
Независимо от того, становится ли климат теплее или холоднее, суше или влажнее, отсев несоответствующих новым требованиям видов среди мохообразных будет наименьшим по сравнению с другими высшими растениями. А если это так, значит, и внедрение новых (как вообще новых, только что возникших, так и новых лишь для данной территории, возникших где-то в другом месте и пришедших сюда) видов будет затруднено. Оно будет иметь меньший размах, чем внедрение видов остальных высших растений. Ведь многие, потенциально пригодные для «новых» видов участки прочно удерживают за собой виды «старые».
А это означает, что одни и те же изменения физико-географической среды бриофлору изменят меньше, чем флору остальных высших растений этой же территории. В свою очередь, это означает, что новая, уже изменившаяся бриофлора окажется гораздо ближе к старой, той, которую она сменила в процессе исторического развития, чем новая флора остальных высших растений этой же территории по отношению к своей предшественнице. Ближе – и по видовому составу и по той роли, которую играют в сложении новой флоры «старые» виды, унаследованные от ушедшей в прошлое флоры.
Важность этого переоценить трудно. Это означает, что в бриофлоре мы можем найти те звенья далекого прошлого, те куски истории растительного покрова, которые во флоре остальных высших растений или давно утрачены, или представлены крайне скудно.
Практически указанное положение выражается в том, что очень часто наиболее древние реликты мы находим именно среди мохообразных. А кроме того, и число реликтов (в процентном выражении), и их обилие во флоре мохообразных всегда больше, чем во флоре остальных высших растений той же территории, того же региона. Это откосится к реликтам любого возраста и любого генезиса. Проиллюстрировать это можно сотнями примеров. Ограничимся самыми необходимыми.
Обратимся к одному из довольно хорошо выясненных и настоящему времени вопросов – к неморальным [9]9
Неморальные– организмы, сохранившиеся в эпоху оледенения в убежищах и затем широко распространившиеся.
[Закрыть]реликтам в тайге Южной Сибири. Процент таких реликтов среди мохообразных выше (около 8—10 против 1—1,5 среди остальных высших растений), распространены они гораздо шире, имеют большее число местонахождений, более массовы и обильны. Мохообразные восточно-азиатской приуроченности значительно дальше идут на запад, чем аналогичные виды остальных высших растений, дальше на восток идут виды европейской приуроченности. Следовательно, неморальные мохообразные в тайге Южной Сибири гораздо более доступны для изучения, чем неморальные виды остальных групп высших растений.
Неморальные реликты – остатки широколиственных и хвойно-широколиственных лесов второй половины и конца третичного периода. В первой его половине климат на юге Сибири был более теплым. Органический мир имел субтропический характер. Реликтами этого, совсем уж давнего времени среди покрытосеменных растений являются два редчайших вида – Mannagettaea hummellii и Megadenia bardunovii. Первый известен из трех пунктов, второй – из одного. Синхронным аналогом их во флоре мхов является Cephalocladium enerve, сравнительно нередкий на Алтае и в Саянах. Он собран более чем в 10 пунктах. Какой процент эти древние виды составляют в соответствующих флорах? Первые два во флоре высших споровых и семенных растений только около 0,067 процента, а последний во флоре мохообразных – около 0,15 процента, а если исходить только из флоры мхов, то еще больше – около 0,2 процента. Разница во всех случаях, как видим, существенная. По дело ведь не только в процентах, но и в более широком распространении реликтовых видов мохообразных, что очень облегчает их изучение.
При изменении условий среды, если, конечно, они не имеют катастрофического характера (а последнее скорее исключение, чем правило), какое-то количество видов «старой» флоры мохообразных входит в состав новой флоры без сколько-нибудь значительной редукции ареала, без большого изменения той роли, которую эти виды играли прежде. В общем можно сказать, в качестве полноправных компонентов. Такие виды, конечно, есть во всех группах растений, но среди мохообразных процент их наиболее велик, а срок существования наиболее продолжителен. Виды других групп высших растений, вошедшие в состав новой флоры, как правило, или быстро переходят в реликтовое состояние, или вымирают, или же преобразуются в новые виды.
Любая современная бриофлора любого региона всегда содержит немалый процент выходцев из «старой» флоры, той, которую она сменила, продолжающих и в новой флоре играть такую же роль, как и раньше. В таежной бриофлоре такими выходцами из неморальной флоры являются некоторые неморальные виды. В арктической флоре это часть бореальных, таежных видов, в полосе распространения широколиственных и хвойно-широколиственных лесов – субтропических.
Понятно, что значительный процент таких видов более ясно связывает современные флоры с теми, что существовали на этом месте в прошлом.
Еще один штрих к «портрету» бриофлоры, имеющий тоже очень важное значение. Это высокая степень дизъюнктивности видовых ареалов мохообразных. Дизъюнктивные виды – живая история бриофлоры. Оказавшись на изолированных участках ареалов, виды не изменились или почти не изменились с тех пор, когда ареал их был еще единым и виды эти входили в состав другой флоры. Ведь в других группах высших растений очень часто, как мы знаем, происходит иначе. Там на изолированных участках ареалов нередко обособляются особые, отдельные виды, отличающиеся от тех, что растут на основных участках ареалов. Родство тех и других видов может быть не всегда вполне ясным. А значит, и картина истории растительного мира может быть размазана, затушевана. И чем древнее разрыв ареала, тем крупнее могут быть различия видов в изолированных друг от друга участках ареалов, тем менее прозрачным родство между ними.
Среди мохообразных так тоже бывает, но реже. Благодаря тому, что на изолированных участках ареалов вид очень долго сохраняется в том же видовом качестве, оставаясь идентичным предковой форме, исторические и географические связи бриофлор проступают более отчетливо и однозначно.
Общий итог всего рассмотренного можно подвести в двух аспектах: в применении к видам и к флорам. Древние, имеющие высокий возраст виды формируют флоры, несущие в себе гораздо больше черт прошлых флор, чем это можно видеть среди остальных высших растений.
И все это вместе взятое – один из очень больших «плюсов» мохообразных, ценнейшее качество бриофитов, позволяющее заглянуть в далекое прошлое, в глубь не тысячелетий, а «миллионолетий», если позволено будет так сказать.