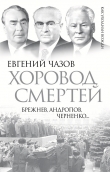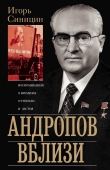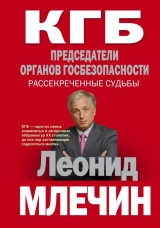
Текст книги "КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы"
Автор книги: Леонид Млечин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности… переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев…»
Приказ вместе со Сталиным подписал Молотов как заместитель председателя Государственного комитета обороны и маршалы Буденный, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников, генерал армии Жуков.
58-я статья Уголовного кодекса РСФСР позволяла предавать суду семьи попавших в плен красноармейцев и высылать их в Сибирь. Иначе говоря, Сталин требовал, чтобы несколько миллионов красноармейцев, которые из-за ошибок и преступлений самого Сталина оказались в окружении, предпочли плену смерть.
Жестокие приказы, которые, по мысли их авторов, должны были помешать сдаче в плен, приводили к противоположным результатам. Попавшие в плен боялись возвращения на родину, где их считали предателями (так оно и получилось в 1945-м, когда из немецких лагерей они переместились в советские).
Немцы делили пленных на несколько категорий. В привилегированное положение попадали представители среднеазиатских народов, жители Кавказа и казаки, которых сразу предполагалось привлечь на свою сторону.
Уже в 1941 году несколько сот тысяч русских людей служили вермахту. Они именовались «хильфсвиллиге» («добровольные помощники») и носили немецкую форму без знаков отличия. Использовались в роли шоферов и механиков. Потом появились русские охранные части и полицейские батальоны.
Почему же огромное число русских людей помогало немецким войскам воевать с Россией? Причины этого поразительного явления историки и писатели пытаются понять все послевоенные десятилетия.
На IX съезде эмигрантского Союза борьбы за освобождение народов России, который состоялся в 1982 году в Канаде, докладчик говорил: «Это было продолжение Освободительного движения, это был ответ нашего народа на узурпацию народной власти, на кровавое подавление всех народных восстаний, на принудительную коллективизацию, на великие и малые чистки, на тысячи тюрем и концлагерей, на миллионы расстрелянных и замученных, на попрание всех человеческих свобод и обречение всех народов России на нищенское, полуголодное существование. Народ не желал защищать все эти „блага“ советской власти… Русский народ пошел воевать против ненавистной советской власти».
Это звучит слишком патетично, чтобы быть правдой. Действительность была сложнее и запутаннее.
По последним подсчетам, два с половиной миллиона советских военнопленных погибли в немецком плену.
Немецкий военный историк Иоахим Хоффман, не склонный особенно винить вермахт в массовой гибели советских военнопленных, пишет: «Солдаты попадали в плен в состоянии крайнего истощения. Иногда они по шесть – восемь дней во время боя ничего не ели». 8 декабря 1941 года квартирмейстер командующего тыловым районом группы армий «Центр» доложил: «Даже когда им дают еду в достаточном количестве, они не в состоянии принимать пищу. Почти из всех лагерей поступают сообщения, что военнопленные после первого приема пищи просто теряли сознание и умирали».
Это звучит сомнительно. Немцы относились к пленным бесчеловечно. Только потом они некоторым категориям сделали послабление.
Только часть военнопленных, отмечает Хоффман, пользовалась «особенно привилегированным положением, питанием и жильем, а именно представители нерусских национальных меньшинств: среднеазиатские народы и жители Кавказа, а также казаки. Все они могли быть приняты в ряды вермахта как „полноправные солдаты“, и для них устанавливались немецкие нормы питания».
Англичанин Николас Бетелл, автор книги «Последняя тайна», о судьбе советских военнопленных, говорит: «Помимо тех, кто добровольно сражался на стороне нацистов, гораздо большее число советских граждан надело немецкую форму под влиянием голода, непосильной работы и угрозы смерти… Трудно было отказаться от работы в немецких трудовых батальонах, в которых питание и содержание были несколько лучше… Они помогали при уборке урожая или на строительстве дорог… Но как только русский соглашался работать на врага, он становился на скользкую дорожку, и заставить его пойти на более тесные контакты с немецкой военной машиной было лишь вопросом времени… Во многих случаях русские становились перед страшным выбором: либо присоединиться к немцам, либо быть расстрелянным на месте».
Военнопленные, констатирует один из бывших лидеров эмигрантской организации НРС Юрий Чикарлеев, в победу Красной армии не верили:
«Во время бесконечных бесед под открытым небом, у проволоки, обсуждали перспективы на будущее, говорили о судьбе России после победы немцев над Сталиным, но главным образом думали о том, как выбраться из лагеря, ибо лагерь означал почти неминуемую смерть…
Потом распространились слухи о наборе добровольцев из числа военнопленных на вспомогательные соединения немецкой армии. Само собой разумеется, что „добровольцами“ готовы были идти почти все по разным мотивам.
Нетрудно себе представить, что в таких условиях появление в лагерях „комиссии восточного министерства рейха“ по набору в оккупационную администрацию, возглавлявшейся Владимиром Поремским, будущим председателем НТС, неизбежно вызывало ажиотаж, теплило надежду на возможность выжить.
Желающих приводили в помещение, где Поремский с ними мило беседовал, задавал различные вопросы и в зависимости от ответов ставил в списке над фамилиями какие-то значки. Кандидаты с замирающим сердцем гадали о значении поставленных над их фамилиями в списке значков, ибо эти значки Поремского означали жизнь или смерть».
Скорее всего, и для самого генерала Власова первоначальным импульсом к сотрудничеству с немцами было желание остаться в живых.
Разумеется, уже освоив политическую роль, он заговорил о другом: «Разве не было бы преступлением проливать еще больше крови? Разве не большевизм, и в частности Сталин, главные враг русского народа? Разве не первый и святой долг каждого русского встать против Сталина и его клики? Там, в лесах и болотах, я окончательно пришел к заключению, что мой долг поднять русский народ на борьбу с большевистской властью за создание Новой России».
Едва ли эти мысли пришли ему в голову в те дни, когда он ей командовал обреченной 2-й ударной армией Волховского фронт Обстоятельства пленения Власова описал переводчик 38-го немекого корпуса зондерфюрер Клаус Пельхау, принимавший в этом участие.
Пельхау вспоминает: «По дороге Власов спросил, должен ли, по мнению немцев, генерал в его положении застрелиться, на что капитан Швердтнер ответил, что для генерала, сражавшегося до последней минуты со своими войсками, плен не является позором».
Если бы Власов сознательно сдался в плен, чтобы вести борьбу со Сталиным, он бы вряд ли задавал такие вопросы… Все свои идеи он вынашивал уже в лагере для военнопленных офицеров и генералов. К генералам лагерная администрация относилась с некоторым пиететом, но все равно это была тяжкая жизнь с неопределенной перспективой. Когда Власов попал в плен, военная удача клонилась в сторону немцев. В лагере, который постоянно пополнялся все новыми пленными, разгром Красной армии, должно быть, казался неминуемым.
Трудно обвинять в чем-либо рядовых пленных, которые, умирая от голода в немецких лагерях, выбирали жизнь и говорили немецким вербовщикам «да».
Власов же решил, что Красной армии конец, и предпочел начать новую жизнь, а не сидеть за колючей проволокой в лагере для старших офицеров и генералов.
В своем открытом письме «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом?» генерал-лейтенант Власов писал:
«Призывая всех русских людей подняться на борьбу против Сталина и его клики, за построение Новой России без большевиков и капиталистов, я считаю своим долгом объяснить свои действия. Двадцать четыре года я прослужил в рядах Красной армии. Я прошел путь от рядового бойца до командующего армией и заместителя командующего фронтом. Я был награжден орденами Ленина, Красного Знамени… С 1930 года я был членом ВКП(б)…
Я увидел, что ничего из того, за что боролся Русский народ в годы Гражданской войны, он в результате победы большевиков получил. Я видел, как тяжело жилось русскому рабочему, как крестьянин был загнан насильно в колхоз, как миллионы русских людей исчезали, арестованные без суда и следствия…
Система комиссаров разлагала Красную армию. Безответственность, слежка, шпионаж делали командира игрушкой в руках партийных чиновников в гражданском костюме или в военной форме… Многие и многие тысячи лучших командиров, включая маршалов, были арестованы и расстреляны либо заключены в концентрационные лагеря и навеки исчезли. Террор распространился не только на армию, но и на весь народ…
Я видел, что война проигрывается по двум причинам: из-за нежелания Русского народа защищать большевистскую власть и созданную систему насилия и из-за безответственного руководства армией…
Я пришел к выводу, что мой долг заключается в том, чтобы призывать Русский народ к борьбе за свержение власти большевиков, к борьбе за мир для Русского народа, за прекращение кровопролитной, ненужной Русскому народу войны за чужие интересы, к борьбе за создание Новой России, в которой мог бы быть счастлив каждый русский человек…
Интересы Русского народа всегда сочетались с интересами Германского народа, с интересами всех народов Европы… Большевизм отгородил Русский народ непроницаемой стеной от Европы… В союзе с Германским народом Русский народ должен уничтожить эту стену ненависти и недоверия.
В союзе и сотрудничестве с Германией он должен построить новую счастливую Родину – в рамках семьи равноправных и свободных народов Европы…»
Надо заметить, что лишь незначительная часть российской эмиграции, ненавидевшей коммунистов и советскую власть, сочла возможным сотрудничать с немецким национал-социализмом, с вермахтом.
Немцы не хотели, чтобы на территории Европы сохранилось русское государство.
Гитлер повторял вновь и вновь: «Я не желаю иметь с русскими ничего общего… Мы заинтересованы в том, чтобы эти русские не слишком сильно размножались; ведь мы намерены добиться того, чтобы в один прекрасный день все эти считавшиеся ранее русскими земли были бы полностью заселены немцами».
Для Гитлера Россия была подобна бубонной чуме, способной заразить и погубить весь западный мир: «Что будет с русскими или чехами, меня совершенно не интересует… Если десять тысяч русских баб издохнут от изнеможения, копая противотанковый ров, то это интересует меня только в смысле того, закончен ли этот ров, нужный Германии, или нет».
Все пропагандистские ведомства Германии трудились над созданием отвратительного образа России и русских.
В апреле 1942 года в Берлине по указанию имперского министра пропаганды Йозефа Геббельса была устроена выставка «Советский рай», которая должна была показать жизнь людей в России как примитивную и убогую. После закрытия выставки министерство выпустило большой альбом, распространявшийся по всей Германии.
Русский солдат изображался в виде животного без чувств и без интеллекта. Газеты получали указание от министерства пропаганды сообщать о реакции немецких солдат, стремительно продвигавшихся на восток, на бедственные условия жизни в России. Геббельса раздражало упорное сопротивление русских, и он именовал их крысами: «Крысы больше приспособлены для борьбы, чем домашние животные, потому что они живут в таких ужасных условиях, что им необходимо уметь драться, чтобы выжить».
Весной 1943 года по поручению Гиммлера главное управление СС издало брошюру «Унтерменш» («Недочеловек») о русских. Ее предполагалось использовать в качестве учебного пособия для немецких солдат на Восточном фронте.
Цель этого издания состояла в том, чтобы показать русских в образе монголоидных чудовищ, которые должны быть уничтожены: «Недочеловек, биологически как будто бы совершенно такое же существо, является тем не менее другим, ужасным созданием, с человекоподобными чертами лица, но в духовном отношении стоящим ниже, чем животное».
Гитлер не верил, что русские, зная о планах нацистов в отношении России, могут искренне служить нацистской Германии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в своем окружении называл Власова «свиньей и изменником», имея в виду его переход на сторону немцев.
После первого публичного выступления генерала Власова в оккупированном Пскове в 1943-м фельдмаршал Кейтель издал жесткий приказ:
«Ввиду неквалифицированных, бесстыдных высказываний военнопленного русского генерала Власова во время поездки, проходившей без разрешения фюрера и без моего ведома, приказываю перевести русского генерала Власова немедленно под особой охраной в лагерь для военнопленных, который он не смеет покидать.
Фюрер не желает больше слышать имени Власова. Впредь оно может, если этого требуют обстоятельства, использоваться для чисто пропагандных целей, для проведения которых требуется имя, а не личность генерала Власова. Если же генерал Власов еще раз выступит где-либо лично, то следует позаботиться о том, чтобы он был передан тайной государственной полиции и обезврежен».
Гитлер действительно не желал слышать имени Власова и любых других русских, которые лезли к нему с предложением услуг. Гитлер высказался совершенно определенно: вести пропаганду с помощью русских военнопленных можно сколько угодно «при условии, что из нее не будет выведено никаких практических заключений, а главное, не будут создаваться те нежелательные настроения, которые, к сожалению, я заметил уже у некоторых… Я могу сказать, что мы никогда не создадим русской армии, это фантазия… Русские нам нужны только как рабочие в Германии».
А вот многие лидеры Народно-трудового союза (НТС), считавшие себя русскими националистами, продолжали сотрудничать с немцами. Характерно, что пакт Сталина с Гитлером в 1939 году возмутил НТС. Но обиделись солидаристы не за Сталина, а за Гитлера.
В редакционной статье «Задачи, работа и цели союза» орган Народно-трудового союза газета «За Россию» писала: «Мы приветствовали образование социал-реформаторского лагеря в мире – фашизма. Но он скомпрометировал себя союзом с марксизмом, обнаружив при этом свою идейную незрелость».
22 июня Гитлер преодолел свою незрелость, и солидаристы поехали в Россию с командировочными удостоверениями оккупационной администрации. Они работали в различных учреждениях: в министерстве пропаганды Геббельса, в отделе пропаганды главного командования вермахта и, прежде всего, в восточном министерстве Альфреда Розенберга, которое управляло оккупированными советскими территориями.
Возможно, они и в самом деле считали себя спасителями России, но они принимали идеологию и практику нацистского государства, им не претил фашизм, они разделяли некоторые идеи национал-социализма.
18 ноября 1944 года в Берлине состоялся торжественный вечер по случаю создания Комитета освобождения народов России. Самым заметным было выступление офицера власовской армии Дмитриева: «Агенты НКВД и вся большевистская пропаганда будут стараться оклеветать нас, изобразить безыдейными наймитами немецкой армии. Но мы спокойны. Мы не наймиты Германии и не собираемся ими быть. Мы союзники Германии, вступившие в борьбу для выполнения наших собственных национальных задач, для осуществления наших народных идей, для создания свободного независимого отечества».
«В зале вспыхнула такая овация, – пишет растроганный протоиерей Александр Киселев, духовник штаба армии Власова, – что Дмитриев долго не мог продолжать свою речь. Многие плакали. Это была минута высокого и редко встречаемого патриотического подъема. Русское движение сразу начинало перехлестывать через те рамки, в которые его хотели втиснуть немцы».
Протоиерей Киселев и не думал о том, что равно позорно быть как наймитом, так и союзником нацистской Германии… А скорее всего, циничный ландскнехт заслуживает большего снисхождения, чем сознательный союзник Гитлера.
Только в последние месяцы существования рейха Берлин уже был готов на все. 16 сентября 1944 года после встречи с рейхсфюрером СС Гиммлером Власов получил разрешение создавать свою армию.
28 января 1945 года Гитлер назначил генерала Власова главнокомандующим русскими вооруженными силами. РОА (Русская освободительная армия) получила статус армии союзной державы, подчиненной в оперативном отношении вермахту.
18 января 1945 года между правительством Великой Германской империи, представленной статс-секретарем министерства иностранных дел, и председателем Комитета освобождения народов России генерал-лейтенантом Власовым было подписано в торжественной обстановке соглашение, в котором третий рейх заявлял о своей готовности предоставить комитету необходимые денежные средства.
Власов надеялся превратить комитет в своего рода правительство в изгнании. Власову даже, наверное, удалось облегчить участь миллионов полуголодных пленных и «восточных рабочих». «Смертность в лагерях резко понизилась, и начиная с 1943 года попавшие в плен имели шансы остаться в живых», – пишет один из соратников генерала.
Тогда даже Геббельс решил, что пропагандистски глупо продолжать изображать русских как «недочеловеков», разумнее всячески поощрять русский национализм. В 1944 году его кинодокументалисты, к удивлению немецких зрителей, стали показывать «героического генерала Власова» в выпусках кинохроники.
Весной 1945-го Йозеф Геббельс записал в своем дневнике: «В полдень у меня была обстоятельная беседа с генералом Власовым. Генерал Власов в высшей степени интеллигентный и энергичный русский военачальник; он произвел на меня очень глубокое впечатление. Он считает, что Россия может быть спасена только в том случае, если она будет освобождена от большевистской идеологии и усвоит идеологию вроде той, которую имеет немецкий народ в виде национал-социализма…»
К середине 1943 года, утверждает Хоффман, в вермахте насчитывалось 90 русских батальонов, 140 боевых единиц, равных по численности полку, 90 полевых батальонов и другие мелкие подразделения. Они использовались для борьбы с партизанами. В частях вермахта находилось также от 400 до 600 тысяч добровольцев, которые занимались обслуживанием немецких частей.
Под германским командованием находилось несколько крупных формирований – 1 – я казачья дивизия, несколько казачьих полков и Калмыцкий кавалерийский корпус.
Некоторые части носили русскую форму и назывались соответственно. Скажем, Русская национальная народная армия (РННА); она насчитывала около 10 тысяч человек.
Русская освободительная народная армия (РОНА) – около 20 тысяч человек, 5 пехотных полков, танковый батальон, зенитный дивизион.
120-й (потом переименованный в 600-й) полк донских казаков – численность 3 тысячи человек.
Бригада «Дружина» – численность восемь тысяч, сформирована эсэсовской службой безопасности.
Эти части занимались охраной тыла немецких войск и боролись с партизанами…
А какова была численность собственно власовской армии?
1-я дивизия РОА начала формироваться еще в конце 1943 года Командиром стал бывший полковник Красной армии, бывший командир 389-й танковой дивизии Сергей Буняченко. Дивизия была окончательно сформирована в марте 1945-го – по модели немецкой народно-гренадерской дивизии: численность 18 тысяч человек, артиллерийский полк, истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион, саперный батальон…
2-я дивизия начала формироваться в январе 1945-го. Ее командиром стал полковник Г. А. Зверев, занимавший в Красной армии такую же должность.
3-я дивизия, командиром которой стал бывший генерал-майор Красной армии Михаил Шаповалов, бывший командир стрелкового корпуса, так и не была до конца сформирована.
Кроме того, в РОА входили запасная бригада, противотанковая бригада, офицерская школа.
РОА обладала и собственной авиацией. На немецкую сторону, утверждает Хоффман, перелетело не менее 80 советских летчиков на своих самолетах. Из них сформировали боевую группу, которой командовал бывший полковник Красной армии Виктор Мальцев. Группа участвовала в боевых действиях вместе с тремя эстонскими и двумя латышскими эскадрильями.
19 декабря 1944 года рейхсмаршал Великого германского рейха и главнокомандующий военно-воздушными силами Герман Геринг подписал приказ о создании ВВС РОА.
В середине апреля 1945-го были сформированы истребительная эскадрилья (16 «мессершмиттов») под командованием бывшего капитана Красной армии Героя Советского Союза Бычкова и эскадрилья ночных бомбардировщиков (12 «юнкерсов») под командованием бывшего старшего лейтенанта Героя Советского Союза Антилевского. Началось формирование еще одной эскадрильи бомбардировщиков, транспортной эскадрильи, зенитного полка…
По подсчетам Хоффмана, личный состав РОА достигал 50 тысяч человек. Это были бывшие солдаты и офицеры Красной армии. Русские из белой эмиграции поначалу шли к Власову неохотно, но в конце войны и они присоединились к РОА. Прежде всего это казалось казачьих частей.
Генерал Краснов, который в нацистской Германии возглавил Главное управление казачьего войска, относился к Власову настороженно и отстаивал независимость казачьих частей. Генерал Краснов ссылался на заявление немецкого правительства от 10 ноября 1943 года, в котором казаки объявлялись союзниками нацистской Германии и им гарантировалось сохранение всех прав и привилегий.
В 1945-м казакам уже было не до выяснения вопроса о самостоятельности. Первой присоединилась к Власову казачья группа генерала Туркула (ее преобразовали в бригаду), который жил в эмиграции в Париже. Ее примеру последовал казачий отряд бывшего майора Красной армии Доманова. Последним под знамена Власова стал казачий корпус генерала Паннвица. Корпус насчивал 40 тысяч человек и входил в состав войск СС.
Присоединился к Власову и русский корпус генерал-лейтенанта Б. А. Штейфона, который начал формироваться на территории Сербии из числа эмигрантов еще в сентябре 1941 года. Шестнадцатитысячный корпус участвовал в боях с партизанами Тито и понес большие потери.
От сотрудничества с Власовым отказался бывший капитан царской армии Хольмстон-Смысловский, который еще в июле 1941-го сформировал русский батальон и участвовал в боях на Восточном фронте. Вермахт не стал переподчинять Власову 599-ю бригаду (13 тысяч человек), 4-й русский добровольческий, 3-й украинский добровольческий полк, а также 14-ю дивизию войск СС, сформированную из украинцев.
Первая группа власовских войск участвовала в реальных боях на Восточном фронте 9 февраля 1945 года, когда немцы уже стремительно откатывались на запад.
В феврале – марте 1-я дивизия Буняченко участвовала в оборонительных сражениях вермахта на Одере. К концу апреля Буняченко потерял всякое желание лить кровь на Восточном фронте. Он отказывается выполнять приказы генерал-фельдмаршала Шернера и движется на юг, чтобы соединиться с другими частями РОА в районе Альп. Ставка Власова находилась в Карлсбаде.
На сотрудничестве с немцами был поставлен крест. Власов и его окружение надеялись теперь заинтересовать своим антибольшевизмом союзников. Весной 1945-го штаб Власова пытался связаться с нейтральными странами – Швецией и Швейцарией, чтобы заручиться их поддержкой, но ничего не выходило.
РОА оказалась в Чехословакии как раз в тот момент, когда там началось вооруженное восстание. Однако партизаны не рассчитали свои силы. Руководители восстания передали по радио призыв о помощи.
В советской историографии принята такая версия: на помощь пражанам пришли войска маршала Конева, которые освободили столицу Чехословакии.
В реальной истории было иначе.
В штаб 1-й дивизии РОА прибыла делегация чешских офицеров. Они попросили власовцев помочь им. Командир дивизии Буняченко ухватился за эту идею. Он убеждал Власова: будущее чехословацкое правительство в знак благодарности предоставит РОА политическое убежище и замолвит за них слово перед союзниками.
5 мая дивизия Буняченко достигла соглашения с партизанами о «совместной борьбе с национал-социализмом и большевизмом». Вечером передовые части РОА вошли в Прагу, где тяжелые бои продолжались. Жители Праги встретили власовцев как освободителей. К вечеру 7 мая РОА овладела основной частью города и рассекла группировку немецких войск надвое. Власовцы дрались хорошо и спасли Прагу. Та готовность, с которой РОА повернула оружие против немцев, говорит о многом.
РОА спасла Прагу, но ее собственное дело было проиграно. Командующий войсками союзников американский генерал Дуайт Эйзенхауэр отклонил предложение танкового генерала Паттона взять Прагу. Сюда шли советские танки. В ночь на 8 мая Буняченко отдал приказ покинуть город. Войска маршала Конева достигли Праги 9 мая.
11 февраля 1945 года в Ялте Рузвельт, Черчилль и Сталин подписали соглашение о выдаче Москве всех попавших в англо-американскую зону советских граждан, особенно взятых в плен в немецкой военной форме.
Власовцев, капитулировавших перед американской армией, отправили в Советский Союз. Верхушку РОА во главе с Власовым повесили. Других отправили в лагеря…
В процессе пересмотра прошлого возник соблазн поменять оценку на противоположную: вместо Власова-предателя появился Власов-патриот, борец против сталинского режима. А и действительно – чем Сталин лучше Гитлера?
Но в 1941-м это не Сталин сражался против Гитлера, а народы Советского Союза, которые защищали свою землю, свои дома и свои семьи. Поэтому и победили они, а не Гитлер с Власовым. Конечно, победа Красной армии привела и к тому, что еще больше укрепился сталинский деспотизм, распространившийся и на страны Восточной Европы. Но гитлеровская оккупация, гитлеровский режим не были лучшей альтернативой. Ни для Советского Союза, ни для Восточной Европы.
АЛЕН ДЕЛОН НАПРАСНО ПОГИБ ЗА СТАЛИНА
Эта хрестоматийная история рассказана в популярном некогда фильме «Тегеран-43». Немецкая разведка решила убить Сталина, Рузвельта и Черчилля, когда в конце 1943 года они встретились в Тегеране. Но легендарный советский разведчик Николай Кузнецов узнал от пьяного эсэсовца в Ровно о замысле врага и сообщил в Москву. Люди Меркулова в Тегеране обезвредили диверсантов и спасли «Большую тройку».
Американский президент Франклин Делано Рузвельт жил в Тегеране не в своем посольстве, внушавшем тревогу с точки зрения безопасности, а в советском, надежно охраняемом офицерами Шестого управления НКГБ…
В реальности это громкое дело нарком госбезопасности Меркулов не мог поставить себе в заслугу. Немецкий заговор против «Большой тройки» не был сорван. Его просто не существовало. И все киножертвы были напрасны. Игорь Костолевский мог бы поберечь себя в Тегеране, а Алену Делону не стоило умирать в Париже в схватке с немецкими диверсантами.
Профессор-иранист Даниил Семенович Комиссаров в годы войны был пресс-секретарем советского посольства в Иране. Встреча Тегеране происходила на его глазах.
Он рассказывал мне, что накануне войны в Иране действительно обосновалось большое количество немцев. Но уже осенью 1941 года немецкую колонию изгнали из Ирана и арестовали практически всех, кто сотрудничал с немецкой разведкой.
Когда в Тегеране встретились Сталин, Рузвельт и Черчилль, никто из немецких агентов даже не подал признаков жизни, пишет Юрий Кузнец, автор интересной книги «„Длинный прыжок“ в никуда. Как был сорван заговор против „Большой тройки“ в Тегеране».
В радиообмене между Германией и ее иранской агентурой не было выявлено ни одной шифротелеграммы, которая бы нацеливала агентов на работу в Тегеране в связи с приездом «Большой тройки».
«Некому было принять и прикрыть группы десантников, – пишет Юрий Кузнец, – даже если бы им удалось благополучно и незаметно приземлиться. Некому было организовать их взаимодействие с прогерманским подпольем, поскольку оно было фактически разгромлено. И тем более некому было осуществить террористический акт против Рузвельта, Черчилля и Сталина».
Почему же после начала войны симпатии немалого числа иранцев оказались на стороне Германии? Дело в том, что в конце августа 1941 года советские и английские войска с двух сторон вошли в Иран, чтобы покончить здесь с немецким влиянием, контролировать нефтепромыслы и обезопасить военные поставки Советскому Союзу. Но эта акция бесконечно унизила иранцев, особенно иранское офицерство.
Англичане выловили и посадили практически всех прогермански настроенных иранцев. Москва, кстати говоря, не торопилась давать согласие на эти аресты. Резидентура советской разведки в Тегеране пришла к выводу: англичане «хотят обеспечить наше участие в ликвидации антианглийски настроенной политической и военной верхушки».
Советская резидентура в Тегеране, которая составляла больше ста оперативных работников, занималась не только германской агентурой, но и по приказу наркома госбезопасности Меркулова следила за англичанами. Резидентом в Иране был знаменитый (среди профессионалов) Иван Агаянц. Многие ветераны считают его лучшим советским разведчиком.
Я спросил профессора Комиссарова:
– Предупреждали накануне приезда Сталина в Тегеран сотрудников посольства, немалую часть которых составляли разведчики, что возможно покушение на жизнь великого вождя, призывали к бдительности?
– Конечно же нет, – рассмеялся профессор. – Никаких немецких парашютистов в Иране тогда не было. А если бы кто-то и появился, ничего сделать бы не смог.
Лидеры трех стран чувствовали себя в Тегеране вполне комфортно. Сталин покинул территорию посольства и преспокойно нанес визит шаху Ирана.
Профессор Комиссаров:
– Сталин проехал через весь центр Тегерана, и ничего. Если бы была хотя бы малейшая опасность, он бы не поехал.
Для охраны встречи в Тегеране отправили 131-й мотострелковый полк пограничных войск НКВД СССР, который сформировали из наиболее отличившихся солдат и офицеров.
Полк охранял советское посольство, консульство, торгпредство, комендатуру, дворец шаха, почту, телеграф, военные склады и аэропорт. Командир полка Герой Советского Союза полковник Н. Кайманов подписывался как «командир гарнизона советских войск в Тегеране».
Известный российский историк-германист Лев Александрович Безыменский изучал немецкие документы того периода. В них нет упоминаний о подготовке операции в Тегеране.
Считается, что руководить операцией в Тегеране Гитлер назначил своего любимца, командира диверсионной группы войск СС Отто Скорцени. Это почти легендарная личность. Скорцени приписывают различные подвиги, хотя у него было больше неудач, чем побед. Но все перекрыла история с Муссолини.