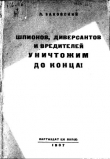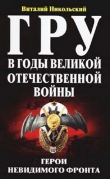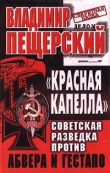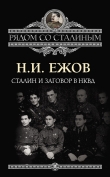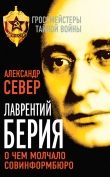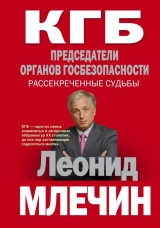
Текст книги "КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы"
Автор книги: Леонид Млечин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Аппараты военной и политической разведки в Германии были значительно меньше, чем в Советском Союзе. Немецкая разведка не могла похвастаться особыми успехами и в предвоенные годы, и в годы войны. У немцев почти совсем не было агентуры на территории Советского Союза. Немцы пытались компенсировать это путем заброски парашютистов, но безуспешно: их почти сразу ловили.
Контрразведка в этой воине оказалась сильнее разведки, и только к концу войны положение сравнялось. Гестапо выследило все нелегальные резидентуры советской разведки, и агентурная сеть в Германии была потеряна. Но советская разведка продолжала давать ценную информацию: люди Меркулова, который в апреле 1943 года вновь возглавил наркомат госбезопасности, выведывали ее не у врага, а у союзников.
Если на то пошло, Штирлиц был не немцем и не русским, а скорее англичанином. Причем английских Штирлицев было много. Самых умелых и удачливых было пятеро. Имя одного из них известно всем – это Ким Филби.
Долгое время считалось, что вместе с Филби на советскую разведку работали еще трое: его друзья Дональд Маклин и Гай Берджесс, которые после разоблачения в 1951-м бежали в Советский Союз, и Энтони Блант, решивший все же остаться в Англии. Вот они все вместе и заменили собой никогда не существовавшего Штирлица.
О коллективном Штирлице мне рассказывал полковник внешней разведки Юрий Иванович Модин. Сам он проработал в разведке сорок пять лет. Его взяли в разведку в войну, узнав, что он немного знает английский. Он провел в Англии в общей сложности около десяти лет: с 1947-го по 1953-й и с 1955-го по 1958-й.
– Я работал с Энтони Блантом и Гаем Берджессом, – говорит Модин. – Меньше с Филби: во время моей командировки его не было в Лондоне. Все они были высококвалифицированными политиками. Они без наших или моих указаний знали, что актуально, а что нет, какая внешнеполитическая проблема требует дополнительного освещения, а какая – нет. Мое вмешательство иногда даже было вредным…
Однажды из центра было получено указание представить информацию по какому-то вопросу англо-французских отношений. Берджесс сказал Модину, что дело запутанное, и лучше, если он сам напишет краткую и понятную справку. Модин отказался и просил принести все документы. Берджесс сделал это.
Ни Модин, ни специалисты в центре не в состоянии были разобраться и в конечном счете вынуждены были попросить Берджесса разъяснить положение дел и внести ясность…
В годы войны поток информации от советских агентов в Англии был настолько велик, что резидентура не успевала ее обрабатывать. Секретные документы приносили буквально чемоданами. И тогда в Москве приняли решение: материалы, получаемые от пяти наиболее ценных агентов, обрабатывать в первую очередь. Так и появилась знаменитая пятерка.
И все равно резидентура из-за нехватки времени была не в состоянии их все освоить, целые кипы бумаг так и остались неразобранными.
– Хороша же была система безопасности, если из здания министерства иностранных дел Великобритании можно было преспокойно вынести массу секретных материалов, – сказал я Юрию Ивановичу Модину.
– В Англии верят своим чиновникам, и в принципе, по-моему, правильно делают, – ответил он. – То, что пятерка работала на нас, историческая случайность. Доверие же является залогом эффективной работы…
Филби, Берджесс, Маклин, Блант согласились работать не на советскую разведку, а принять участие в борьбе против фашизма. В 30-х годах они смотрели на Россию как на форпост мировой революции. Они происходили из аристократических семей, но учились у преподавателей, известных своими марксистскими взглядами. Тогда это считалось модным.
Филби был левым социалистом. Университетский преподаватель свел его с коммунистами.
Берджесс открыто заявлял о своей принадлежности к компартии и изучал Маркса. Он, по словам Модина, блестяще знал историю КПСС.
Блант своих левых взглядов не афишировал, но пришел к марксизму через свой предмет – историю искусств. Он полагал, что искусство в нашу эпоху погибает из-за отсутствия меценатов, какие существовали в эпоху Возрождения. Рыночные отношения – смерть искусству. Его могут спасти только дотации социалистического государства…
Маклин, сын министра в одном из британских правительств, пришел к коммунизму через сложнейшую комбинацию чувственного восприятия тяжелого положения рабочих-шотландцев, национализма и личной склонности к проповеднической и благотворительной деятельности.
До войны они помогали России, потому что верили, что наша страна – единственный бастион против фашизма. Когда началась война, они и вовсе сочли своим долгом помогать нам. При этом они отнюдь не были в восхищении от того, что происходило в Советском Союзе, в частности считали совершенно негодной нашу внешнюю политику.
Филби обладал способностью безошибочно анализировать любую проблему и предлагать единственно верное решение, говорил Юрий Модин. Этим он сделал себе карьеру в разведке: какое дело ему ни поручат, все получается.
– Думаю, – говорит полковник Модин, – Филби за всю жизнь не сделал ни одной ошибки. Он был фактически пойман и все равно вывернулся!
– Почему же пятерка провалилась?
– Американцам удалось расшифровать телеграммы советской разведки. Анализируя их, они установили личность советского агента. Это был Дональд Маклин, заведующий американским отделом министерства иностранных дел Великобритании, а до этого сотрудник английского посольства в Вашингтоне, который занимался в том числе и англо-американским сотрудничеством в создании атомной бомбы…
Каким же образом американцам удалось расшифровать советские радиотелеграммы?
В 1944 году Управление стратегических служб США приобрело у финнов полуобгоревшую советскую шифровальную книгу, которую те подобрали на поле боя. Государственный секретарь Соединенных Штатов Эдвард Стеттиниус, который считал невозможным шпионить против союзников, приказал вернуть шифровальную книгу русским, но американские разведчики ее, естественно, скопировали. Нарком госбезопасности Меркулов и не подозревал, какой удар вскоре будет нанесен его ведомству.
После войны эта книга и помогла расшифровать телеграммы, которыми обменивались наркомат госбезопасности и резидентуры в Вашингтоне и Нью-Йорке. Считается, что и советская резидентура в Нью-Йорке, в свою очередь, допустила непростительную ошибку, дважды использовав одноразовые шифровальные таблицы. Так или иначе, расшифровка телеграмм вскоре привела к громким провалам.
Первым был разоблачен Дональд Маклин, который очень преуспевал по служебной линии. Его назначили начальником департамента в министерстве иностранных дел. В Лондоне хорошо к нему относились, ведь его отец когда-то был министром.
– И что же произошло? – спросил я у Юрия Модина.
– Филби, который в этот момент находился в Соединенных Штатах в роли офицера связи с ЦРУ, в силу своего служебного положения узнал об этом и отправил Берджесса в Лондон, чтобы предупредить о провале и советскую резидентуру, и самого Дональда Маклина.
– И тогда было принято решение вывезти Маклина в Советский Союз?
– Маклин сразу предупредил Берджесса: «Если меня арестуют, я расколюсь». На Маклине сказалось нервное напряжение. Он был вынужден пройти курс лечения от алкоголизма. Значит, Маклина надо было вывозить. Но отправить его одного не решались. Ему предстояло проехать через Париж. С этим городом у него были связаны самые романтические воспоминания. Боялись, что если он попадет в Париж, то напьется. А если напьется, то его поймают. Словом, Берджесс поехал с ним.
Но исчезновение неуправляемого и экстравагантного Берджесса и неуравновешенного и страдающего Маклина погубило Кима Филби и Энтони Бланта. Все знали, что они близкие друзья, и первым делом их тоже заподозрили в шпионаже.
Филби заставили уйти из разведки, но еще несколько лет он оставался в Англии. Блант отказался бежать в Москву. Он признался властям, что работал на советскую разведку, но детали расказал только после смерти Берджесса, которого очень любил.
– А как в пуританской Москве отнеслись к Берджессу с его гомосексуальными наклонностями?
– Ему объяснили, что на этот счет у нас строгие законы и их придется выполнять. Тем не менее он как-то выходил из положения. Но на самом деле он мог жить только в Лондоне. Ему позарез надо было вечером, часов в семь, зайти в пивную. Берджесс – он был заводной, хулиган. Я помню, что в Ирландии во время отпуска он насмерть задавил человека. Но выкрутился: у него везде былс полным-полно дружков, любую дверь открывал ногой. В Англии ему все прощали. Нет, в Москве он жить не мог…
Имена Дональда Маклина и Гая Берджесса, которые в 1951 году бежали в Москву, первым в советской печати назвал журнал «Новое время».
В № 40 за 1953 год анонимная заметка, опубликованная в журнале под рубрикой «Против дезинформации и клеветы», клеймила «рыцарей „холодной войны“ и мошенников капиталистической прессы», имевших наглость утверждать, что какие-то Берджесс и Маклин перебрались в Москву и что за Дональдом Маклином даже последовала его жена Мелинда.
Это сообщение, писало «Новое время», «вызвало веселое оживление в нашей редакции, где о Берджессе и Маклине знают только по визгливым рассказам западной печати».
В Англии решили, что советское руководство устроило очередную пропагандистскую игру, гадали, в чем ее смысл, и ошиблись. Статья о Берджессе и Маклине была инициативой редакции: ведь никто в журнале понятия не имел, о ком идет речь. Привычка давать отпор Западу по всякому поводу на сей раз подвела журналистов. На следующий день после выхода журнала главному редактору позвонил разгневанный Вячеслав Михайлович Молотов, после смерти Сталина возвращенный на пост министра иностранных дел:
– Кто вам поручал делать такие заявления?
Только в 1956 году Москва официально признала, что Гай Берджесс и Дональд Маклин получили убежище в Советском Союзе, но еще долго отрицала их работу на советскую разведку.
Гай Берджесс был самым несчастливым из лучших агентов советской разведки на Британских островах. В Москве он получил паспорт на имя Джима Андреевича Элиота. Советской жизни он не выдержал и попросил у КГБ разрешения вернуться в Англию, но этого никто не хотел. Он недолго прожил в Москве и умер, можно сказать, от тоски.
Дональд Дональдович Маклин, более спокойный по характеру, не обращался к руководству КГБ с такими наивными просьбами. Он работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук до самой смерти, писал книги и тихо возмущался социалистической действительностью.
Гарольд (Ким) Филби был прирожденным разведчиком. С 1939 года он служил в английской разведке, успешно делая карьеру. В отличие от своих товарищей, он не был гомосексуалистом и скрывал коммунистические убеждения, если они у него были. Он, несомненно, наслаждался ролью человека, который водит за нос крупнейшие разведки мира (английскую и американскую), и дорожил похвалами, отпускаемыми ему в КГБ.
Он достиг вершины своей карьеры в 1945-м, возглавив в английской секретной службе отдел, работающий против Советского Союза. Филби передал в Москву имена всех агентов, которых в те годы с ведома английской разведки пытались заслать в социалистические страны. Вероятно, речь идет о сотнях людей, которых поймали и расстреляли. Когда Филби говорили об этом, он небрежно отмахивался: на войне как на войне.
Впрочем, он знал, что ему самому смертная казнь не угрожает даже в случае разоблачения: в Англии в мирное время шпионов не казнят.
Впервые реальная угроза для него возникла в тот момент, когда сотрудник советской резидентуры в Турции Константин Волков встретился с английским консулом и попросил политического убежища, обещая взамен назвать имена трех высокопоставленных советских агентов, двое из которых работают в министерстве иностранных дел Англии, а третий – в разведке.
Нерасторопный и несамостоятельный консул отправил запрос в Лондон: как ему быть?
Телеграмма из Стамбула легла на стол Киму Филби, и он сообщил о ней своему советскому связному. Сотрудники КГБ немедленно вывезли Волкова в Москву. Можно представить себе его судьбу.
Британское правительство, лояльное к своим соотечественникам, даже после побега Берджесса и Маклина отстаивало невиновность Филби. В специальных службах, разумеется, понимали, что Филби шпион, но доказательств его работы на советскую разведю контрразведчики не нашли. А без доказательств в Англии не судят.
Мужество, хладнокровие, ум и профессиональные таланты Филби внушают уважение. Но любопытно, что он отказался служит стране, где так уважают права личности, и всю жизнь служил стране, где расстреливали, не утруждая себя поисками доказательст вины.
После длительного расследования осенью 1955 года министр иностранных дел Гарольд Макмиллан, истинный джентльмен, заявил палате общин, что Филби исполнял свои обязанности добросовестно и умело и нет никаких доказательств того, что он предал интересы Англии.
Филби позволили уехать корреспондентом в Ливан. А в 1962 году, когда им вновь заинтересовалась контрразведка, он все-таки бежит в Москву. Здесь его прекрасно встретили, вручили ордена, но к реальным делам не подпустили. Его мечта сидеть в штаб-квартире советской разведки и быть главным консультантом развеялась как дым. Как и все перебежчики, он уже никому не был нужен. Кроме того, на Лубянке не все ему доверяли: особо бдительные чекисты считали, что он обманывает КГБ и хранит верность Англии.
В любом случае за каждым его шагом следили, в его квартире была установлена аппаратура прослушивания. Безделье, невозможность играть в любимые им шпионские игры были для Филби самым тяжким испытанием. В порыве отчаяния он пытался покончить с собой.
Только в последние годы ему нашли дело: он стал заниматься со слушателями разведывательной школы, которые готовились к работе в Англии. В 1977 году ему разрешили приехать в штаб-квартиру советской разведки в Ясеневе, чтобы он мог выступить на торжественном собрании аппарата Первого главного управления КГБ.
Его третья жена Элеонора, последовавшая за ним в Москву, писала в воспоминаниях, что Филби сильно пил и «отбил жену у Дональда Маклина, страдавшего импотенцией». С Элеонорой Филби тоже расстался и женился вновь. Этот, четвертый по счету, брак оказался удачным и скрасил ему последние годы жизни.
Четвертый советский агент – Энтони Блант, один из самых известных британских искусствоведов, хранитель Королевской галереи, устроил свою жизнь несколько лучше. Он пошел на сотрудничество с английской контрразведкой, многое рассказал, благодаря чему остался на родине и сохранил свободу.
«Мне доставляло огромное удовольствие сообщать русским имя каждого сотрудника английской контрразведки», – признался Энтони Блант. С 1940 года он служил в контрразведке и одно время состоял офицером связи при штабе объединенных сил союзников. В 1945-м в поверженной Германии он выполнял особое задание королевской семьи, после чего стал хранителем Королевской галереи.
Энтони Блант был элегантным, очаровательным и в высшей степени образованным человеком. Он знал пять языков. Занимался не только искусством – первую научную степень в Кембридже он получил по математике.
В 1956 году Бланта удостоили дворянского титула, хотя его уже подозревали в шпионаже. В 1964-м он признался, что работал на советскую разведку, – в обмен на освобождение от наказания. Правительство сочло, что не располагает достаточными уликами для уголовного преследования, и обещало держать его признания в секрете и не мешать его искусствоведческой деятельности.
Занятия искусством вознесли Бланта на невиданную высоту, и он не желал ни бежать в Москву, ни сидеть в тюрьме.
В 1979 году премьер-министр Маргарет Тэтчер вынуждена была признать, что правительству известна шпионская деятельность Бланта. Он был лишен дворянства… Это было самое жестокое наказание, которое на него обрушилось.
Так сложилась судьба четырех лучших агентов советской разведки военного времени. Потом стали говорить, что четверка на самом деле была пятеркой. Пятый агент передавал в Москву информацию, перехваченную англичанами, которые научились расшифровывать немецкие коды.
В годы войны немцы пользовались купленными в Швейцарии шифровальными машинами «Энигма». Первую информацию об устройстве этих машин англичанам сообщил немец Ганс Тило Шмидт, работавший на французскую разведку.
Польский инженер, который участвовал в установке «Энигмы», в 1938 году восстановил конструкцию шифровальной машины. Поляки первыми начали расшифровку немецких кодов. После поражения в войне в сентябре 1939-го все разработки они передали англичанам.
Польские агенты переправили в Англию «Энигму». Пять с половиной лет английские дешифровальщики читали самые секретные документы рейха.
Англичане понимали, что напали на золотую жилу, поэтому изо всех сил старались не дать немцам понять, что их шифроте-леграммы читаются врагом. Прежде чем использовать перехваченную информацию, англичане всякий раз тщательно продумывали, как обосновать свою осведомленность. И немцы ничего не заподозрили.
Некоторые историки утверждают, что премьер-министра Уинстона Черчилля даже заранее предупредили о том, что немцы собираются бомбить Ковентри, но он запретил принимать дополнительные меры для защиты города, чтобы немцы ни о чем не догадались. Ковентри был практически полностью разрушен.
По тем же причинам англичане передавали Сталину только малую часть перехватываемой ими информации. Но в Москве не печалились по этому поводу: нарком Меркулов приносил Сталину почти все, что добывали англичане.
– Накануне битвы на Курской дуге пятый агент передал нам сведения о количестве немецких дивизий, о толщине брони нового танка «тигр», – рассказывал мне в 1992 году полковник Модин. – Эта информация поступила в наркомат госбезопасности за три месяца до начала битвы.
– Это был один из пятерки?
– Да, пятый, чье имя я не могу пока назвать.
– Тогда это, наверное, Джон Кэрнкросс, работавший в годь войны в английском центре радиоперехватов и дешифровки? – предположил я, имея в виду Государственную школу кодированш и шифровального дела в Блетчли, как назывался официально упомянутый мною центр. – В конце 1991 года Кэрнкросс признался, что был пятым.
– Откуда он может знать: пятый он или нет? Пятого знаю только я, – широко улыбаясь, ответил мне Юрий Модин.
«Если меня считают пятым, то так оно, наверное, и есть», – сказал тогда Кэрнкросс. Шотландец из рабочей семьи, он сумел поступить в Кембридж, где не скрывал своих коммунистических взглядов.
Кэрнкросса стали подозревать еще в 1951 году, когда в брошенной лондонской квартире Гая Берджесса полиция обнаружила материалы из министерства финансов. Кэрнкросс признал, что делился с Берджессом некоторыми сведениями, но не секретными.
Многие годы английская разведка пыталась узнать, кто же был пятым. Эту загадку раскрыл бывший полковник советской внешней разведки Олег Гордиевский, который перебежал к англичанам.
Когда об этом написали английские газеты, Джон Кэрнкросс был потрясен. Он думал, что о нем забыли. После того как в 1964 году он признался британской контрразведке МИ-5 в своих грехах, он заключил с властью пакт о молчании и не хотел его нарушать. Но ему пришлось заговорить. Он рассказал, что накануне сражения на Курской дуге передал в Москву огромное количество информации о немецких войсках, стянутых для наступления. Кэрнкросс даже считал, что он изменил ход Второй мировой войны, потому что помог русским выиграть танковую битву под Прохоровкой.
Юрий Модин с некоторой горечью сказал, что наградили Кэрнкросса за это всего лишь орденом Красной Звезды:
– Не умеют у нас ценить людей…
Меркулов никому не говорил о том, откуда пришла столь точная информация о готовящемся сражении на Курской дуге. По приказу наркома с ней ознакомили военных и сказали, что сведения получены от партизан.
Информация о немецких вооружениях – не единственное, что Кэрнкросс сообщил Москве. По словам Модина, первые сведения о работе англичан и американцев над атомной бомбой тоже пришли от Кэрнкросса. Вот об этом ему не очень хотелось вспоминать: это уже не общая борьба против фашизма, а чистой воды шпионаж.
Кэрнкросс работал на советскую разведку с 1937-го по 1951-й. За это время он успел поработать в министерстве иностранных дел, министерстве финансов, в секретариате члена кабинета министров, в службе дешифровки и в английской разведке. Его называют пятым человеком, хотя, по словам Олега Гордиевского, в КГБ его звали первым по значению.
Кэрнкросса это раздражало. Он не хотел быть в одном ряду с людьми, которых не любил и которых именовал снобами и патрициями: с Филби, Маклином, Берджессом и Блантом.
Филби и другие работали не из-за денег и от денег отказывались. Кэрнкросс не отказывался. И уж совсем ему не хотелось, чтобы его называли одним из первых атомных шпионов.
Кэрнкросс перед смертью написал книгу, чтобы снять с себя обвинения в тривиальном шпионаже ради денег. Он считал себя человеком, который передал союзнику, Советскому Союзу, некоторые секреты только ради победы над общим врагом, нацистской Германией.
Он пишет о том, что не был коммунистом и дистанцировался от Москвы, потому что знал о преступлениях коммунизма. Почему же он тогда не отказался от сотрудничества с советской разведкой? Возможно, потому, что разведка давала ему хорошие деньги.
Джон Кэрнкросс работал на советскую разведку четырнадцать лет, пока пятерка не провалилась. Когда это случилось, рассказывает полковник Модин, из Москвы пришел приказ дать ему деньги и попрощаться.
Джону Кэрнкроссу пришлось уехать из Англии. Он жил в разных странах, работал в международных гуманитарных организациях и, похоже, бедствовал. Но в Советский Союз не просился… Впрочем, это произошло уже после того, как Всеволод Николаевич Меркулов перестал быть министром госбезопасности.
А сюжет для романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семенов отыскал в двухтомном сборнике писем, которыми в годы войны Сталин обменивался с союзниками – премьер-министром Англии Черчиллем, американским президентом Рузвельтом и сменившим его Трумэном.
До самого конца войны Сталин боялся, что немцы все-таки договорятся с американцами и англичанами, капитулируют на Западном фронте и перебросят все войска на Восточный фронт, против Красной армии.
Такие сепаратные переговоры действительно проходили.
В марте 1945 года англичане и американцы начали переговоры с немецким командованием о капитуляции частей вермахта в Италии и отказались допустить советских представителей на эти переговоры. Резидент американской разведки Аллен Даллес вел в Швейцарии переговоры с высокопоставленными чиновниками третьего рейха.
Будущий директор ЦРУ Аллен Даллес, адвокат по профессии, еще во время Первой мировой войны работал агентом американской разведки в Швейцарии. Он любил рассказывать, что однажды получил записку от русского эмигранта с предложением встретиться и поговорить. Он считал этого человека малоперспективным политиком и от встречи отказался. Звали эмигранта Ленин…
Узнав о переговорах, которые вел Даллес, Сталин заподозрил, что американцы сговариваются с немцами за его спиной, и возмутился. Но это не был заговор против России. Американцы хотели избежать потерь во время операции в Италии.
Получив послание Сталина, новый президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн приказал прекратить все переговоры, чтобы не злить русских. Но потом было найдено разумное решение. 28 апреля в присутствии советских представителей была подписана капитуляция немецких войск в Северной Италии.
Когда Юлиан Семенов писал роман «Семнадцать мгновений весны», а затем сценарий будущего фильма, он мало что знал о работе советской разведки в нацистской Германии. К секретным документам его не подпускали, да они и не были ему нужны.
Он придумал лучше, чем было в жизни.
Юлиан Семенов был просто талантливым писателем. А Татьяна Лиознова, которая поставила фильм, – не менее талантливым режиссером. Любовь к Штирлицу, восхищение Штирлицем, в которого люди поверили, достались разведке. Дело историков решить – заслуженно или незаслуженно.
ОХОТА НА ГЕНЕРАЛА ВЛАСОВА
Когда Всеволод Николаевич Меркулов во второй раз возглавил наркомат госбезопасности, у него появилось задание особой важности – уничтожить перешедшего на сторону немцев бывшего генерал-лейтенанта Красной армии Андрея Андреевича Власова.
Командующего 2-й ударной армией Власова взяли в плен 13 июля 1942 года. Это сообщение немецкого радио не произвело особого впечатления в Москве. Он был далеко не единственным генералом, попавшим в плен. В Москве забеспокоились, когда немцы стали сбрасывать над расположением Красной армии листовки с обращением Власова и выяснилось, что генерал встал на сторону Гитлера. О том, что генерал Власов повернул оружие против советской власти и формирует из военнопленных собственную армию, быстро узнали на всех фронтах, пошли всякие разговоры, и перебежчик стал восприниматься как опасный враг.
Тем более, что Власова в войсках знали – его награждали, продвигали и хвалили.
На Хрущева Власов произвел впечатление своим спокойствием, бесстрашием и знанием обстановки. В трагические дни 1941 года, когда казалось, что все рушится, он вселял в окружающих уверенность. Хрущев, как член военного совета фронта, и генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос, командующий Юго-Западным фронтом, назначили его командовать 37-й армией, оборонявшей Киев.
Киев не удержали, но Власов был виноват в этом меньше других. Зато он отличился в боях под Москвой.
Зимой 1941 года, после завершения контрнаступления под Москвой, писатель Илья Эренбург побывал в расположении 20-й армии, которая сыграла важную роль в битве за Москву. «Любовно и доверчиво смотрят бойцы на своего командира: имя Власова связано с наступлением, – писал в „Красной звезде“ Эренбург. – У генерала рост метр девяносто и хороший суворовский язык».
Генерал Петр Григоренко писал в своей книге воспоминаний: «Запомнился 1940 год. Буквально дня не было, чтобы „Красная звезда“ не писала о 99-й дивизии, которой командовал Власов. У него была образцово поставлена стрелковая подготовка. К нему или за опытом мастера стрелкового дела. Я разговаривал с этими людьми, и они рассказывали чудеса. Вторично я услышал о Власове в ноябре 1941-го… Снова о нем заговорили как о выдающемся военачальнике».
Хрущев вспоминал, как Сталин искал командующего Сталинградским фронтом:
– Очень хорошим был бы там командующим Власов, но Власова я сейчас не могу дать, он с войсками в окружении. Если бы можно было его оттуда отозвать, я бы утвердил Власова. Но Власова нет. Называйте вы, кого хотите.
Переход Власова на сторону немцев был для Сталина личным ударом. Ему нравился этот генерал.
Оперативники наркомата государственной безопасности стали искать подходы к соратникам Власова, надеясь, что кто-то из них согласится помочь уничтожить бывшего командарма. Одним из ближайших к нему людей был Георгий Николаевич Жиленков, который называл себя генералом. В Красной армии он как политработник имел звание бригадного комиссара и был членом военного совета 32-й армии. Жиленков в октябре 1941 года пропал без вести, в действительности же попал в плен.
Быстро выяснилось, что до войны Жиленков был секретарем Ростокинского райкома Московской области. В НКГБ решили завербовать Жиленкова и с его помощью убить Власова. План операции утвердил сам нарком Меркулов.
Газета «Совершенно секретно» в 1996 году опубликовала архивные документы госбезопасности, посвященные попыткам добраться до Власова.
Чекисты нашли жену Жиленкова и заставили ее написать письмо мужу. С этим письмом в район Пскова забросили оперативную группу НКГБ СССР. Послание из дома должно было доказать Жиленкову, что его семья пока не репрессирована и ее благополучие зависит от его поведения. Бывшему секретарю райкома обещали прощение, если он поможет ликвидировать генерала Власова.
Меркулов приказал использовать для уничтожения Власова, которого в оперативных документах именовали Вороном, все возможности НКГБ на оккупированных территориях.
Среди тех, кто перешел к Власову, искали людей, готовых, чтобы замолить свои грехи, оказать помощь в ликвидации главного предателя.
Но организовать покушение на Власова Меркулову так и не удалось. Да и ликвидация генерала мало что изменила. Русские люди надевали немецкую военную форму с нашивками Русской освободительной эрмии не ради Власова. Но подлинные причины перехода советских людей на сторону Гитлера Меркулов и наркомат государственной безопасности анализировать не смели.
В течение войны в немецкий плен попали 5,24 миллиона советских солдат. Из них 3,8 миллиона – в первые месяцы войны. Чудовищная цифра. Они попадали в «котлы», которые летом 1941-го блестяще задумывали и осуществляли немецкие генералы, умело используя танковые и моторизованные части.
Сталин не признавал сдачи в плен. В Советском Союзе не существовало понятия «военнопленный», только – «дезертиры, предатели Родины и враги народа».
Приказ № 27 °Ставки Верховного Главного Командования Красной армии (от 16 августа 1941 года), подписанный Сталиным, требовал от красноармейцев в любой ситуации стоять до последнего и не сдаваться в плен. Командиры получали право расстреливать тех, кто смел предпочесть плен смерти.
Вот что говорилось в приказе № 270, который долго оставался секретным:
«…Можно ли терпеть в рядах Красной армии трусов, дезертирующих к врагу и сдающихся ему в плен, или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать…
Приказываю:
1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров…
2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.
Обязать каждого военнослужащего независимо от его служебного положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть находится в окружении, драться до последней возможности, чтоб пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен – уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.