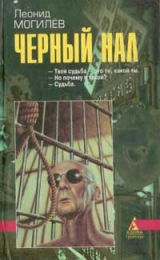
Текст книги "Хранители порта"
Автор книги: Леонид Могилев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
– Мы за тобой, капитан.
– Вообще-то я уже давно готов. Только я думал, вы придете попозже. Хотя бы второго января. Елочка вот. Гуся сейчас буду печь.
– Нет времени, капитан. Ты же знаешь, что такое боевая тревога. Нужно немного повоевать.
– А, вот оно что. Только у меня отпуск, ребята. Пожалуйста, согласие профсоюза, Я отдыхаю. Имею право.
– Кончай балагурить, капитан. Попил, поел, поспал, а теперь надо повоевать.
– Но война-то кончилась. Только вот британцев дожмем, а это дело плевое.
Посмеялись контрразведчики.
– Война-то к концу, да вот шпионы одолели. Никак на всех смерть не оформим. Валовые показатели по смертям падают. Так что помоги, капитан.
– Так чем же я помогу? Я же не палач. Я солдат.
– Для тебя есть солдатское дело. Пойдешь в банду. Там наш человек без связи. И такие, капитан, обстоятельства, что только ты можешь его узнать. Из всех уцелевших остался только ты. Потому мы тебя берегли в последнее время. Помоги нам, капитан. Нам нужна связь, иначе случится большая беда. Очень большая. С твоей маленькой Родиной беда. Но еще кое-что можно спасти. Пройдет время, и все как-нибудь устроится.
– Ну и что? Мне нужно пойти в банду и сказать, что я выбираю свободу и оружие? Или как там?
– Вот это уже по-нашему. По-военному. Ты наденешь свою форменку, спустишься вниз, и тебя повезут в фургоне. Потом ты пересядешь в самолет, лететь недалеко. На острова. Там ты сядешь в другую машину. Поедешь по лесной дороге. Тебя остановят, завяжут глаза, повозят, поводят, и ты окажешься в комнате. Там повязку снимут. И будут тебя допрашивать. Потом, по идее, тебя отведут в подвал и кончат. На этом и весь расчет. Это будет новогодняя ночь. В банде не будет Энделя. Он будет эту ночь со своей семьей. А без него они не тронут тебя. Так вот. Тот человек, которого ты узнаешь, знает тебя. Но не знает, естественно, ничего, кроме того, что ты ушел на войну, а теперь вернулся. Это все ясно, как белый день. Он виду не подаст. Так предполагается. И ты должен при нем сказать одну фразу. А потом другую. Тогда он будет знать, где получить связь. Он сразу же покинет банду. Это сто процентов. Видимо, он попробует тебе помочь, но ставки настолько высоки, что он не должен этого сделать. Но, возможно, попробует. Потом вернется Эндель. Тогда мы уже будем знать, где эта комната, и будем брать их. И постараемся успеть. Ты же понимаешь, что мы все сделаем, чтобы успеть. А пока не будет связи, никто из наших не сделает ни шага, чтобы пошевелиться, ни чихнет, ни покурит. Но потом тебя спасать будет целый полк с вертолетами и танками.
– А гуся, может, успеем спечь?
– Не успеем. И вот что. Ордена и медали сними. А то нервы у кого-нибудь не выдержат и тебя кончат прямо на дороге. Но я думаю, все будет хорошо. Ты только помоги нам, капитан.
Пропустив вперед своих душеприказчиков и телохранителей, капитан постучал в квартиру напротив.
– Элли! С наступающим. Вот тебе небольшой подарок. Да нет. Это просто чулки и шоколад. Хороший шоколад, настоящий. С Новым годом тебя. Да ты же еще не старая женщина. Это хорошие чешские чулки. Ты там подливай без меня воды в ведерко. Я елку нарядил. А мне надо еще немного повоевать. Ну, всего тебе. А Рейн вернется. Мы найдем его, Элли, и он вернется.
– Капитан! Мы опаздываем.
– Вот видишь, Элли. Надо спешить на войну.
«Я вернусь. И Рейн вернется к Элли, и все вернется на круги своя, и когда-нибудь мы выстроим заново старый город. Все будет как было. И Герман, и Маргарита. Ведь все мы один народ». И знамением Божьим вдруг пошел снег, а как же без снега под Новый год в Эстонии…
Но даже начальник контрразведки не знал, что наш человек в банде был убит третьего дня случайной пулей.
Поминки по знакомой женщине
(Часть Пятая)
Я мог достаточно уверенно ходить с палочкой, хотя гипс с правой ноги сняли всего неделю назад, и это все потому, что обе пули ничего такого важного не задели, а, уверенно пробив мышцы, покинули эту, случайно подвернувшуюся плоть и пролетели еще немного, прежде чем остановиться. Вот только, падая, я сломал лодыжку на том же месте, что и давно, печально, неожиданно… Случай распорядился таким образом, что я был доставлен с поля моего последнего боя прямиком в одну из палат госпиталя Санкт-Петербургской военно-медицинской академии на вертолете, что заслужил честным ратным трудом, как на вражеской земле, так и на своей. Всю войну я чудесным образом был сбережен от побития свинцом, сталью, боевыми отравляющими веществами и, лишь слегка опаленный пламенем, оказался на своей маленькой территории, которая вернулась наконец в братскую семью народов, и немедленно был вовлечен в опасную и чреватую парадоксами борьбу с апологетами ушедших времен измены и позора. Впрочем, меня прикрывали и берегли, но все же, все же…
Палаты, как и, естественно, коридоры, были переполнены, и путем интриг и манипуляций мою койку перенесли в библиотеку, где меня оставили в одиночестве. Только волшебницы в белом и строгие хранители простреленных тел посещали меня, отрывая от чтения. Библиотекой это помещение можно было считать по той причине, что здесь были свалены в торопливом беспорядке разнообразные книги. В библиотеке лежали герои последнего европейского побоища. Мне было совсем неплохо в этом углу, подле книг, рядом с окном, за которым внутренний двор и осень. Все позади, у моей кровати – рябиновая трость, принесенная художником Птицей, выжившим и найденным после долгих телефонных переговоров, и сделанная из наследственного посоха, но что уж тут жмотиться, когда окончилась война.
Целью моей самовольной прогулки была Петропавловка, та лавочка под стеной, на узкой насыпи, где можно сидеть и предаваться ностальгическим химерам, глядя на дворец, купол, мост, реку, небо, птиц и грядущую, прекрасную до печали жизнь, проступающую сквозь привычный и давно уже подзабытый антураж, так как прошлое и бывшее уже мало интересовали меня. Нужно сказать, что я несколько переоценил свои силы. Метрополитен в тот день не работал. Кое-какие станции должны были принять пассажиров только завтра, но какое это необычайное слово, совершенно не военное! Я хотел уже вернуться и продолжить знакомство с подшивкой «Иностранной литературы» за девяносто седьмой год, но замечательная жанровая картина, на которой некто с трехлитровой банкой пива сосредоточенно спешит, как видно, в свою коммуналочку или, того веселей, – на работу, потянула меня к ларьку, располагавшемуся на другой стороне улицы и совсем недалеко. Не имея своей тары, я ждал, пока освободится пол-литровая стекляшка, и рассматривал афиши на стенде. «Зенит» играл с тбилисским «Динамо» через три дня, во всех уцелевших кинотеатрах шли трофейные фильмы, а выжившая и, судя по фотографии на афише, несколько помолодевшая советская певица Лайма Вайкуле пела сегодня в «Октябрьском». Ей повезло. Многих других певиц повыбило. Почему-то здесь же был приклеен плакатик о приеме на работу. Приклеен как-то криво, а из-под него различалась другая афишка. Гастроли боевого театра «ГО». Это, должно быть, театр из японских военнопленных, стал я рассуждать сам с собой, а чтобы проверить свою догадку, надорвал плакатик с обещаниями высокой зарплаты и дополнительных отпусков. И не напрасно. Под ним обнаружились недостающие буковки, а все вместе сложилось в «ГОЛОС».
Еще не веря в случившееся, я полностью сорвал камуфляжный листок с гастрольной афишки Боевого Краснознаменного, ордена…
В огромный клуб, что на Васильевском острове, следовало направлять мне свои стопы. И, хлебнув пивка, я направил… Напиток этот был горьким, холодным и хмельным. Трижды садясь не на тот автобус, я все же добрался до цели…
Сегодня спектакля не было. На завтра была назначена «Оптимистическая трагедия», хотя репертуар с тех пор, как мы расстались с театром, сменился полностью. Никем не остановленный, я прошел в зал.
Выставляли декорации завтрашнего оптимизма. Война явно не способствовала благополучию храма искусств, но нашлись и свои положительные стороны. Декорации состояли из фрагментов и элементов всего, что пылилось и извлекалось при мне, при нас, тогда, до заварушки, после… На сцене трудились двое рабочих, они натягивали черный ковер, что служил и «Отелло», и морским офицерам, кап-раз, кап-два, кап-три, и еще, должно быть, разнообразным персонажам, и черные вельветовые кулисы… А они-то как уцелели? Целый год черный вельвет на штанкеты, белое полотно со штанкетов, станок на авансцену, выносной прожектор, красный фильтр, синий фильтр… Одета рабочая сила была в трофейные джинсовые комбинезоны. Несколько десятков или сотен тысяч, а может, и весь миллион вывезли из Европы и Азии и теперь раздали по спискам профсоюза на предприятия, и театру достались, стало быть. А во времена перед заварушкой такие вот, или похожие, продавались во всех ларьках по сказочным ценам. Но нет теперь ни ларьков, ни палаток, их ленивые и привлекательные хозяйки развеяны по городам и весям, а их владельцы по большинству в Америке ожидают советского десанта через океан, а частью расстреляны.
– Вам чего, товарищ? – спросил меня мужчина, по виду завпост.
– Сижу вот, рассматриваю.
– Вы по какому делу?
– Я по делу тысяча девятьсот семьдесят восьмого года.
– Не понял.
– Я работал тут осветителем, еще другим разным, в семьдесят восьмом году.
– О! Это интересно.
– Вы завпост?
– А как вы догадались?
– Ну, я же немного военный разведчик. Положение обязывает.
– Нет. Я актер.
– А выглядите как завпост.
– Вы мне льстите… А как ваша фамилия?
– А зачем вам?
– Видите ли, тот период, вот как раз семьдесят восьмой, там годом раньше, годом позже, занесен в наши святцы. Время легенд. Вы тут с товарищами такое творили, что даже после Третьей мировой войны новое поколение актеров все помнит.
– Скажите, а что, никто не уцелел из тех?
– Совсем никто. Когда балтийские народы отвергли нас, когда флот и армия имитировали уход, то нас-то вывели. Я имею в виду театр. Меня там, естественно, еще не было. А только вывели не в Питер. В дыру одну. Ну, народ разбежался, многие остались в республике врагов. Квартиры, другое там всякое. Опять же в агит-поездке на фронт многие накрылись.
– Как, то есть, накрылись?
– А так. В плен попали. Где их теперь искать? Так что по комсомольскому набору пришли молодые, вихрастые, звонкие. Второй раз в истории. Тогда, как помните хладные воды Балтики, германец наступал…
– Германец больше не будет наступать никогда. Не может одна советская республика наступать на другую.
– А вы где воевали?
– Начал в Латвии. Потом Польша. А там на два года чешские равнины. Окопы, аэропланы. Ну, все как всегда.
– А сейчас что?
– А сейчас на излечении. В военно-медицинской.
– Кормят-то ничего?
– А чего ж плохого? А вот вчера даже ананас давали. Мир на коленях, экономика возрождается.
– А что, если нам по рюмочке? Здесь есть одна комнатенка. Офис один. Вы правильно заметили. Я тут сейчас и за завпоста, и за осветителя.
– О! А регулятор здесь порядочный?
– Так себе. На двадцать ручек. А куда больше? Вот с лампами напряженка. Киловаттных почти не осталось. Но это дело наживное.
– А что, если мы в регуляторной по рюмочке? Это как?
– А почему нет? Вот ключ. Идите пока. Найдете, надеюсь?
– Если не очень высокие ступеньки. По ногам стреляли, собаки.
– Нет, нет. Там нет ступенек. Идите.
Из амбразуры регуляторной будки я видел сцену, где только дежурное освещение, где собирают «Оптимистическую», а рядом уже хлопотал с закусками завпост…
– Ну а что, к примеру, вам известно про Петруху?
– Ха! Про Петруху известно нам всякое. Но хотелось бы от вас, из первых рук, от главных лиц. Жаль, некому стенографировать.
– Ну, что ж… Как бы это в двух словах, с сарказмом и иронией?
– Вы вот рюмочку, и сразу сообразите…
– Ну, начнем, пожалуй. Излучайте свет. Подойдет? В смысле света? «Излучающий свет».
– Чудесно, чудесно.
– Значит, так. Глава первая…
«Излучающий свет»
Осветитель городского театра «Голос» Петруха долгов не отдавал. Служащий завода «Акведук» Клочков никогда денег в долг не давал. И вот-однажды они встретились.
Клочков был хорошим специалистом, а за воротами завода, дома, лелеял свою ячейку общества и свою часть экологической ниши. Родители его были живы, жили себе в тысяче километров на восток, в своем домике. Жена Клочкова была сиротой. Даже квадратные метры жилой площади были припасены им впрок. Ровная же линия жизни неумолимо вела его в соответствии с книгой судеб, в которую он не верил, однако ко встрече с бытовым мерзавцем Петрухой.
– Брошу все, отращу себе бороду и бродягой пойду по Руси, – говаривал Петруха-старший, то есть Петрухин родитель, – жди, пацан, с машиной.
Возвращался он всегда истаскавшимся до последней нитки и с совестью, не отягощенной автомобилем. Однажды, впрочем, Петруха-старший не вернулся. Только его и видели. Изредка приходили почтовые открытки: Бухта Золотой Рог. То из Казани, судя по почтовому штемпелю, то из Подольска. Открытки были одинаковыми, но каждый раз все неопрятней, очевидно, родитель однажды раздобыл их десяток-другой, да так и пользовался.
Однажды Петруха-младший женился.
– Она была очень грамотна в любви, – оправдывался он после.
Мечтая купить аппаратуру для воспроизведения магических мелодий, текстов к этим мелодиям и прочих чудес чужой эстрады, чтобы слушать все это после работы, он решил скопить тыщи две. Деньги складывал в столешницу, под тонкую пачку открыток от папани. И вот однажды, вернувшись из храма искусств, злой, чему виной был повышенный электромагнитный фон и блуждающие токи, Петруха обнаружил супругу в приятной новой шубе и еще более приятном новом белье. С тех пор никакие деньги у Петрухи не задерживались, и деление денег на свои и чужие, а тем более общественные, он так же искренне считал иллюзорным.
Раскусив, что грамотность понятие относительное, Петруха решил расторгнуть законный брак. После развода пара все же осталась в одной комнате, высокие потолки которой можно было бы призвать в свидетели, но… Диванов теперь тоже стало два. Почему так вышло? Насчет этого Петруха хранил сумрачную тайну. Но жить стало гораздо веселее. То он сам приводил на свою половину подружку, то его бывшая половина рыцаря. Мать Петрухи жила в другой и последней комнате этого странного дома, а ее личная жизнь никого не касается.
Впрочем, вся компания в разном количестве, составе и в самое непредсказуемое время суток встречалась на кухне, где наиболее статистически вероятной пищей являлись фабричные пельмени. Про деньги здесь говорить считалось совершенно неприличным.
Как мы видим, стечение обстоятельств было таково, что если Петруха мог когда-нибудь стать бытовым мерзавцем, то он им стал. И при первой же возможности.
У всякого, даже самого передового гражданина бывают неприятности, и как-то вышло, что неприятности, произошедшие с Клочковым, совпали с его знакомством с Петрухой и размышлениями о смысле жизни. И как-то само собой вспомнилось, что в далекой юности он пытался пополнить мировую сокровищницу искусства собственными поделками, которые выпиливал из отличной фанеры лобзиком.
Довольно долго Клочков денег Петрухе не давал. Но как-то раз, когда летний вечер медленно и печально исчезал и рестораны приморского города открыли двери, выпуская расплатившихся по счетам граждан, возле подъезда, в котором находилась заветная дверь в квартиру Клочкова, остановилось такси, и Петруха радостно позвонил.
– Брат! Как давно я не видел тебя. Друг мой. Одевайся. У меня столик в «Рыбаке». Небольшой «колпак» на ночь. По рюмке ликера.
Клочков в общем-то не возражал, но облачаться в костюм медлил.;
– У меня такси, брат. Поспешай. Столик… Поспешай, стоик, у нас столик. Скоро закроют. Рюмка ликера… Отличный тминный ликер. – И Клочков решился.
Потом они долго ехали, и, выходя из такси, Петруха сказал: «Вот черт. Бумажник в пиджаке. Там, наверху. Я отдам после».
Петруха быстро ушел во чрево зала и облачился в пиджак. Клочков редко бывал в ресторанах и не задумывался о том, как можно оставлять пиджак с бумажником в одиннадцать вечера в зале. Пиджак же, естественно, лежал в залоге. Вернее, висел в подсобке. Потом они беседовали примерно час, за бутылочкой «тминного». Когда бутылочка вышла, правдивый Петру-ха вышел покурить, а так как Клочков был некурящим, он остался за столиком. Потом кто-то сказал: «Дорогие гости! На сегодня наша программа окончена. Рады были видеть вас. Приходите завтра». Музыканты стали чехлить гитары, подошла официантка, и Клочков расплатился по счету, так как всегда носил с собой десяточку-другую В счет, естественно, вошло все, что откушал Петруха за вечер. Потом Клочков вышел в холл, но там Петрухи не было. Не было его и на улице.
Утром Петруха объявил, что встретил вчера в курилке совершенно необыкновенную женщину, что нельзя было медлить, спросил, сколько он должен, похлопал себя по лбу, посмотрел совершенно чистыми глазами, сказал, что отдаст сегодня же вечером, что непременно внесет, и исчез примерно на неделю. Как ни любил теперь Клочков искусство, как ни сочувствовал своему новому товарищу – больше двух, а может быть, трех раз он на этот трюк не попался.
Потом был день, на исходе лета, вся художественная элита города разбрелась по своим жилищам и норам, а Клочков, не будучи членом элиты, тем не менее тоже находился дома, горевал, слушая программу «Маяк», для тех, кто не спит. «До свиданья лето, до свидания», – пелось как бы специально для Клочкова. Именно в этот Лиг под его окнами остановилось такси.
– Здравствуй, брат. Ты не спишь, брат? – И Петруха, переступив порог, обнял Клочкова и поцеловал в щеку, что Клочкову не понравилось. Надо сказать, что Петруха обладал склонностью к радушным объятиям, отчего все задумывались, ни бисексуал ли он. Но он просто был отчасти Ноздревым.
– Входи, – разрешил Клочков, так как ему было грустно. И Петруха вошел. Медленно переставляя ноги. Ссутулившись. Затем сел. Нет, не в кресло! На самый краешек стула. В глазах его мгновенно появилась влага, и казалось, что он с трудом сдерживает рыдания.
– Ты, конечно, не веришь мне больше, – начал он.
– Конечно, не верю, – подтвердил Клочков.
– Не веришь…
Петруха сидел, подперев голову руками. Такси с невыключенным счетчиком стояло у подъезда. Клочков слушал радио.
– Семейное серебро. Я не вправе говорить… Личная жизнь моей матушки… Я объехал уже всех знакомых… Семейное серебро… – И тут он наконец-то зарыдал. А потом заговорил, перемежая горячие слова всхлипами:
– Всего тридцать рублей. Мы вернем… Семейная честь. И Петруха встал на колени…
– У меня только пятьдесят, Петруха. Две по двадцать пять. Ты потом, пожалуйста.
– Дело решают секунды. Завтра… Завтра же вечером…
И Петруха, размазывая слезы по лицу, бросился к таксомотору.
Инженер Клочков не удосужился выглянуть в окно. Тогда бы он увидел, что, едва Петруха вскочил на сиденье рядом с водителем, сзади поднялась прикрытая пледом девица и такси с огромной скоростью рванулось по направлению загородного ресторана «Причал». Но Клочков не выглянул, и грусть его не проходила.
На этот раз Петруха не показывался Клочкову на глаза достаточно долго. Затем появился и принес в счет погашения долга три рубля. Так и шло затем. Три, рубль, пятерочка, чашка кофе, а однажды даже горячий белый батон по нарицательной стоимости, очевидно, украденный где-то по случаю.
Потом был день, когда первый снег падал медленно и роскошно на пляжи, дома, деревья и булыжные мостовые города, и такси опять остановилось около жилища незадачливого кредитора. Точнее, не у жилища, а за углом соседнего дома, вне пределов прямой видимости.
Едва Клочков раскрыл дверь на нервный звонок, Петруха оттолкнул его, ворвался внутрь, закрыл дверь, повернул в замке ключ, потушил в квартире свет и заперся в ванной. Клочков опять зажег свет, подергал запертую дверь санузла, потом ушел в комнату, немало не стесняясь других ее обитателей, лег на диван, отыскал в эфире вражеский голос и стал его внимательно слушать. Немного погодя Петруха вышел из ванной. Он трясся.
– Брат, – сказал он, – в меня стреляли. Только что. В дюнах.
– Что-то я никаких выстрелов не слышал.
– Что-то мы не слышали, – поддакнули члены семьи Клочкова.
– Возможно. У них были пистолеты с глушителями. Я могу описать внешность этих людей. Это страшные люди… Впрочем, тебе это неинтересно. Я ушел парком и проходными дворами. Я догадываюсь, кто их послал. Мне нужно уехать немедленно. Только двадцать пять рублей…
– А поди ты к черту, – сказал Клочков и вытолкал Петруху взашей.
– А так-то вот лучше, – подтвердила семья Клочкова хором.
Но когда Клочков в один прекрасный день (никакого другого названия здесь не подобрать) покинул завод «Акведук», Петруха не попомнил зла и устроил его монтировщиком декораций в театр «Голос». С тех самых пор деньги в бумажнике Клочкова не задерживались, а со временем не стало и самого бумажника. И печали оставили его.
– Да, таким именно я и представлял Петруху.
– Про него-то ничего не слышали?
– Да так, говорят кое-что. Повесили его.
– Как повесили?
– В городе Шарыпово. На телеграфном столбе. Но вы не переживайте. Он так бился в судорогах, что шнур лопнул. Его так и оставили, со шнуром на шее, со связанными руками, в ста метрах от его кооператива. Потом он очнулся и сбежал из города. Да и из Красноярского края. Больше не знаю ничего.
– Должно быть, теперь ему никогда ничего не сделается. Петруха вечен.
– А как насчет капитана Хапова?
– О! Это поэма. С ним-то что?
– Изменил Родине. Вначале перешел на сторону эстонцев, потом сбежал в Швецию, но был тайно вывезен и по приговору военного трибунала расстрелян.
– Мать честная! Да кому он нужен, чтобы красть из Швеции?
– А никто и не крал его. Это шведы, опасаясь за свой капиталистический рай, заигрывали с агрессором, с нами то есть. И депортировали кучу всякого сброда. Конечно, грешно называть так беглый наш народ, да вырвалось. Не принимайте близко к сердцу. Но депортировали не явно и прилюдно, а посадили всех на паром, как будто бы в Данию. А там всплыли наши подводные лодки, высадились морские пехотинцы и адью! Паром отбуксировали в Ревель. Так что расстреляли капиташу Хапова. Может, слишком строго, но справедливо.
– А как он первоначально в Ревель попал?
– А это когда его, от театра нашего освободили, он себе местечко в Таллине городе выпросил. В клубе Балтийского флота. Там у них много клубов было. А потом в коммерцию пустился, потом, когда наши по Северо-Востоку двинулись, перешел во вражеский стан. Искал, где лучше. А ведь когда-то был комсоргом чуть не всего флота. А может, в Ревеле наворовал много. Всякое говорят. А каким он был в действительности? Хотелось бы послушать.
– Он открыл мне ворота в храм. Глава вторая.








