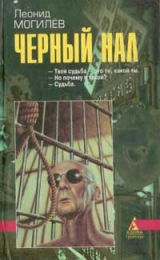
Текст книги "Хранители порта"
Автор книги: Леонид Могилев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Путешествие
К-о-о-нчилось бабье лето. Спасатель Зега топил печь. Рядом на чурочке сидел Сема и скорбел о кончине сезона купаний и любовей, который именовался здесь работой. Темная ночь положила лапы на порог станции и в чреве ее, невидимое и холодное, плескалось море.
Семе жилось в родительском доме ни шатко ни валко, но при любых обстоятельствах он проводил – свои ночи чаще всего здесь, на чурочке, около печи, если не было Других занятий в многочисленных отсеках станции. Но даже если были какие другие затеи, на чурочке хоть час, но посиживал. А теперь, вот уже несколько ночей кряду, он эту чурочку не покидал вовсе. Его рукописи были здесь же, за стеной, между рацией и журналом дежурств.
Но уже легкая и никчемная пыль стала покрывать чудесные листки, в коих содержались миражи и реалии нашего и прочих миров, причудливо описанные Семой. А к рукописям он не прикасался потому, что которую ночь кряду думал о деньгах, научив думать о них и Зегу.
«Если бы у нас были деньги, – думали Зега с Семой, – мы сбросили бы тяжкие оковы этого маленького населенного пункта и поехали бы в какой-нибудь большой город, где сняли бы „дупло“. Там, в большом городе, мы были бы свободны, как птицы, у которых есть немного денег и цель в жизни, а не только Африка и северные реки, в путешествиях между которыми большинство птиц проводит всю сознательную жизнь, толком не рассмотрев ландшафт тех стран, над которыми они пролетают, так как всегда „нужно спешить“.»
В большом городе Сема продолжил бы работу над шестой главой своего многолетнего романа, а Зега сидел бы в фундаментальной библиотеке и читал книги, которые ему давно хотелось прочесть, а в перерывах между сидением рассматривал бы журналы «Фотография в СССР». По вечерам, думали Зега с Семой, они ходили бы на съем, и когда одному подворачивалась бы дамочка и он вел ее в дупло, то другой просто пил бы пиво в подходящем подвальчике, так как это недорого и отчасти полезно. Еще можно было смотреть хорошие фильмы, которых так много показывают в больших городах.
Перебрав все варианты и оставив в покое наказуемые и откровенно безнравственные, они поняли, что опять ничего не остается, как «работать» Зинку.
Они вышли к морю. Туман стал таким, что «паломники» не решились уйти далеко от станции. Ночной спасатель Зега знал толк в чудесном служебном бдении. Жуткие и волшебные созвездия, впрочем невидимые сейчас, текли, образуя круги и сферы. Но все невидимое было ложным. И только сквозь редкие проплешины в тумане временами показывалось желтое око станции, и свет ее стекал на дюны и застывал, словно клей, чтобы исчезнуть утром, вместе с прочими фантомами.
– Солярис, – молвил Сема.
– Не выпить ли нам чаю, – согласился с ним Зега. И они почти на ощупь двинулись к печи, лампе, шепелявому приемнику, а море все плескалось где-то рядом, за спиной, и было невидимым.
– Экий, брат, туманище, – сказал Сема.
– Солярис, – согласился Зега.
…И вскоре план был осуществлен. Он основывался на том, что Сема, вернувшись из путешествия, в котором якобы должен был урегулировать какие-то чрезвычайно важные дела, женится тут же на Зинке (якобы). И тогда она станет (будто бы) навсегда его наставницей, защитницей, секретарем и разделит, естественно, его будущую славу. В том, что слава эта придет, никто не сомневался. На все требовалась от Зинки ничтожная сумма в тысячу рублей. То, что Зинка годилась Семе в молодые матери, в расчет не принималось. Как и то, что он становился отцом и кормчим семейства, значения не имело, как и некоторые другие мелочи.
Тысяча рублей давалась без рассрочки и расписки. Так решили Сема и Зега. Но так как Зинаида справедливо опасалась за нравственность Семы, деньги в конечном итоге должны были вылиться в почтово-телеграфные переводы, высылаемые через равные промежутки времени. Сказано – сделано. Аванс был получен на следующий день, а уже в начале влажной осенней ночи Сема и Зега ехали в вагоне «СВ» на юго-восток. Теперь у них были деньги и весь мир, вокруг и около. И для начала они отправились в Киев. Как и во всяком большом путешествии, их должны были подстерегать самые разнообразные опасности. И подстерегли. Первым делом они въехали в белгородский треугольник. Этот могущественный треугольник был очень давно образован старыми русскими городами – Курском, Орлом, Белгородом, а теперь там проживали многочисленные Зегины знакомые и прочие товарищи. И Зега незамедлительно стал их посещать. А Сема с ним. Когда становилось совсем неприлично оставаться в каком-либо доме, переходили в новый, затем переезжали в другой город. Но в Белгороде они оказывались значительно чаще. Раза три, четыре.
Все как-то смешалось на белгородских кухнях. И вот однажды, когда коренное население очередной квартиры спало на диване, маленькой лежанке и просто на полу, а Сема и Зега коротали раннее утро, заваривая чай № 36, потому что кончилось и белое вино и красное, Зега стал рассказывать товарищу о церкви Спаса на Берестове. И то, что там была усыпальница Мономаховичей, и то, что там где-то лежит Долгорукий, и то, как разрушали церковь монголы. И показывал помятую страницу учебника, со смутной фотографией церкви, а потом складывал листок вчетверо и прятал в потайной карман. А когда он сказал, что это большой шестистопный, крестовокупольный храм и еще произнес нараспев: «Спас на Берестове», – Сема немедля стал собираться. И они не обременили хозяев прощанием, они уже давно входили в чужие дома и покидали их просто так, как сквозняк во время уборки помещения.
Поклонники и почитатели прекрасного и трагического пошли на вокзал, но даже на два общих билета им не хватило. И тогда они отправили Зинке телеграмму и стали жить на вокзале, купив на оставшееся пивка и скумбрии.
– Когда мы приедем в Киев, – говорили товарищи, – то не пойдем ни в Лавру, ни в Андреевскую церковь, никуда не пойдем. А сразу направимся к Спасу на Берестове.
Нужно отдать должное Зинке, этот первый перевод пришел мгновенно. И они тут же уехали. В купе было двое летчиков. У них был спирт, потому что каждый военный летчик берет с собой в купе баклажку.
– …Что за станция?
– Ворожба.
– Ворожба… Постойте, постойте. Я ворожу. Станция Ворожба товарная. Станция Ворожба пассажирская. Я ворожу на изгороди, я ворожу на изморози. Я хочу выйти. Не сойти ли нам?
– Спору нет. Ворожба – это прекрасно. Но слушай, Спас на Берестове еще лучше. Нет ничего лучше Спаса на Берестове.
– Так остаемся? Не сходим?
– Несомненно.
– А жаль. Ну а что там крылья Родины?
– Крылья сложены и в некотором беспорядке. Сломались авиаторы.
– А спирт остался?
– А как ему не быть?
– Ну, тогда выпьем.
– Уважаю я тебя, товарищ…
Когда Сема проснулся, летчиков уже не было. Вышли. Зега спал. А немного погодя был Киев.
В Киеве, едва сойдя с поезда, ценители древней архитектуры «взяли мотор» и отправились покататься. Волга с шашечками перемещалась по древней столице туда и обратно, а Зега и Сема смотрели-по сторонам и ухмылялись. Им было мучительно стыдно…
И, наверное, от стыда и удивления велел Сема остановиться возле какого-то универсама, где на столах, прямо посреди тротуара, торговали кухонной посудой и утварью. Там Сема прикупил отличное эмалированное ведро и бочонок, литров на пять. Далее они проехали на Крещатик, затормозили у Вареничной, именно так, с большой буквы, и Сема прошел прямо на кухню, вынул четвертной билет, крикнул: «Москонцерт» – и ему немедля насыпали вареников в ведро на всю сумму. «Волга» понеслась дальше и вскоре остановилась у магазина «Украинские вина», где Сема проделал ту же операцию и вернулся с пятью литрами коктейля из дешевых популярных вин, основу которого составляло «Южно-Бугское». Далее они отправились в гостиницу «Спартак», так как там было спокойно, по словам авиаторов. Водителю такси все эти манипуляции, видимо, были безразличны, будто это вовсе не Киев, а столица Зимбабве или по меньшей мере город Кутаиси.
Номер оказался двухместным и, конечно, люксом. «Спартаковцы» тут же отхлебнули из бочонка и постелили на пол газету «Юманите», которую Зега приобрел по случаю и изредка листал на людях, и стали есть вареники руками. К полуночи они выпили все до капли и наелись липкого, отвратительного теста, начиненного мясом, картошкой и вареньем. От небывалой сытости они не могли больше говорить и только обменивались жестами. Впрочем, Зега изобрел икательный язык. Но так как Сема не достиг уровня икоты Зеги, то язык к общению принят не был и вскоре позабылся вовсе, как, впрочем, все остальное и окружающее. Связь с миром прерзалась, и магические сновидения друзей перенесли их в мир иносозерцания, где они пробыли почти сутки, вставая время от времени по нужде и тут же погружаясь в сон, обильный, как их трапеза. А когда спать стало еще противней, чем есть и пить, они пробудились и стали считать наличные деньги. Их осталось ровно на ноль семьдесят пять вина, с которым спутники и убрались на вокзал. Можно было еще долго жить в оплаченном номере, но Сема заявил, что ему не нравится мещанская обстановка их текущего быта. Сема сказал, что хочет слушать звуки яростного мира. Да ради Бога! Бочонок и ведро они оставили в номере.
Они жили теперь на вокзале в ожидании перевода, запаршивели, но, несмотря на голод (а последние два дня не ели вовсе), и речи не могло быть о варениках. Хотелось колбасы. Колбасу ели все вокруг. Отрезали большие толстые ломти, густо мазали горчицей и ели. Как только человек садился на скамью в зале ожидания, он раскрывал какой-нибудь баульчик и начинал бессовестно кромсать вынутую оттуда колбасу. Любительскую, чайную, краковскую, московскую. Те, кому не хватило места на скамьях, ели стоя. В огромных многочисленных буфетах Киевского вокзала торговали и другой снедью. Но колбаса являла собой верх вожделения созидателей духа.
– Ще це таки гарны хлопчики? – говорили обитатели зала, упрятывая колбасы подальше от досужих глаз.
Три раза в сутки всю публику просеивали дружинники и милиционеры. Дружинники были злее. И кого-нибудь люди с повязками всегда уводили из зала. Третий раз – в два часа ночи, когда только удавалось уснуть. Тогда громко говорили: «Всем встать!» И два десятка уборщиц проходились мощно и злобно по залу. А какая может быть доброта, когда ночь, мокрая тряпка, мусор и объедки между кресел, а завтра то же. Злоба концентрическими кругами расходилась от дружинников и уборщиц. Злоба аккумулировалась у буфетных стоек и ухмылялась колбасными рожами. После уборки все выведенные бросались назад и не могли опять занять свои места, мест всегда не хватало. Часто приходилось спать стоя, прислонившись к чему-нибудь. «Спать нельзя», – говорили тогда дружинники. А перевода все не было.
Однажды, заняв у говорливого деда, с которым они простояли ночь у лестничных перил центрального зала, рубль, Сема и Зега отправились к Спасу на Берестове, но так и не добрались до цели и смысла своего, потому что уже не хотели этого, как не хотели помыться, переменить одежду и выспаться. Тогда-то и пришел перевод. Тогда они выкупили Зегины часы и Семин паспорт из киоска «Союзпечати», где эти нужные и дорогие вещи были заложены за несколько рублей, и сходили все же в баньку, купили по новой рубашке и в вагоне «СВ» уехали в Нальчик. В дорогу было взято очень много колбасы. «Ты был толстоват, тебе это полезно», – развеселился Сема. «Но девять дней, – ответил Зега, – девять дней, это слишком».
В город Нальчик путь лежал через Минеральные Воды. И теперь друзья мытарились в треугольнике Минводы – Ставрополь – Пятигорск. Они пропахли луком.
В аэропорту Минеральных Вод их застал снегопад. Квелые транзитники, как противоестественные рыбы, дефилировали в своем аквариуме. Временные жители мутного сосуда подплывали к прозрачным граням бытия, а за гранями был снегопад. Тогда они стукались лбами о стекло и возвращались к вещам и семьям. Выручка буфетов и ресторанов в те лихие времена была безобразно высока. Не в силах более наблюдать это, «сизифы» первым поездом отправились в Баку. Они стремились к солнцу и неге, но и в Баку был снег. А такого грязного вокзала им еще видеть не доводилось.
– Малчык, малчык, что хочешь? Гостынц хочешь? Все могу, – прилепился к товарищам дядя с больным лицом, тут же, на платформе. – Дэвушка хочешь? Все есть. Дурцу хочешь, – совал косячок, – хочешь, хочешь. – Минут сорок шел он за путешественниками, до самого центра города.
На всем пути от вокзала к городу стояли продавцы мандаринов. Мандарины были сложены пирамидками, и на этих пирамидках, как и на кепках продавцов, как и на крышах домов, лежал снег. Снег ворвался в жизнь южного города не в срок и не вовремя. И тогда Зега и Сема двинули к Каспийскому морю. Море было белым, в дымке, и древний дворец стоял неживой и необъяснимый, а во дворце располагалось правительство. Зеге и Семе стало нехорошо. Что-то где-то оборвалось. Некое локально нравственное изменение. Тогда-то, явственная и притягательная, встретилась им чайная. Сахар и белый хлеб были бесплатными, а чай совершенно великолепный. Его пили из маленьких стаканчиков тонкого стекла.
– Почти как дома, – сказал Сема.
– Ты, верно, с ума сошел, – сказал Зега.
В эту зиму что-то было нарушено в природе. Ход светил замедлился, потом вновь пришел в норму, а бывали дни, когда светила летели вперед, едва не сходя с орбит, и тогда падал снег на черные деревья. Впрочем, почему зима? Ведь это осень вокруг. А может, и вовсе новое время года, название которого спрятано в Книге судеб. Салям!
Ночным поездом они уехали в Тбилиси. Там в гостинице, купив себе за вложенные в паспорта десятки номер, поставленный на ремонт, но с душем, и сойдя вниз пообедать перед прогулкой, они напились так, как это у них больше никогда не выйдет в жизни.
Какой долгий город Тбилиси! Деньги опять вышли. Вокзал разрушен. Рядом строился новый, а старый уже разрушен. Остались только перекрытия. Ночами греясь у костров, на которые шли обломки вокзальных скамеек, слушая разговоры бомжей на всех языках державы, попивая чифирь с обитателями трущоб и теплоцентралей, Сема и Зега временами напрочь выпадали из времени и не знали еще, что пройдет немного времени, и по улицам этих городов основательно, по хозяйски, возрождая традиции и давно забытые имена и судьбы, пройдет гражданская война. И только сержанты с красными погонами, требовавшие у них, и только у них, паспорта, возвращали друзей в эпоху созидания. Пришлось вновь заложить часы Зеги. За это им дали хинкали. Хачапури не дали. Они поели немного.
На этот раз Зинка, видимо, убоявшись прыти, с какой компания путешественников пуляет деньги, выслала после долгих колебаний всего сто рублей. И тогда Зега и Сема поехали домой. В город, где чудесные маленькие трамвайчики бегут по звонкой колее, говоря с миром потешными звонками. Где спасательная станция на побережье и печурка.
В Ростове у Семы украли все оставшиеся от сотни деньги, и дальше они ехали просто так, но все-таки добрались до своей тихой пристани, и едва успели умыться морской водой, как к станции подъехал автомобиль «Москвич» и из него вышли родители Семы, следом выпорхнула Зинка. Это было возмездием. По совести и логике вещей.
Зинка-Зина-Зинаида… Она выполнила условия договора, хотя и не совсем так, как хотелось бы другой договаривающейся стороне. И ждала теперь реальных шагов от Семы. Дурашка…
Пересказывая эти незамысловатые истории, распевая сладкоголосые песни юности почти незнакомым людям, я совершенно позабыл о том, что сейчас – другие песни и другие времена, где гармоническое начало – музыка чугунных полусфер, бодрые песни танковых траков – мелодия, а передвижение полков и народов, кои едва побольше полка, – ритм, и все это весело и здраво начиналось, но закончилось, как и всегда; и слегка при-бомбленный город многих революций распрямляется и чистится, и уже разрозненные нитки метро сплетаются во всем знакомое кружево, и театр и актрисы, и одна из них прибирается в палате, и мы балагурим, а вся компания стоит внизу во дворике и машет ручонками.
– Анджела.
– Я слушаю, герр официр.
– Хочешь, я напишу про тебя стих?
– Обожаю.
– Тогда ждите, мадам.
– Я буду ждать на бегу, потому что уже неприлично долго остаюсь тут с вами наедине. Дадите почитать что-нибудь?
– Возьмите сами.
– Ах, в следующий раз. Ну, пока. И легкий дружеский поцелуй.
Я спал долго и без сновидений. Утром явился консилиум.
– Вот, посмотрите его снимки.
– Ну что же. Вполне прилично. Вполне.
– Ну а как опухоль, есть?
– Так, так. Пошевелите пальцами. А тут болит? Пройдитесь, друг, до двери и обратно. Так, а попробуйте не хромать. Ага. Ну, чудесно. Еще недельку, и будем выписывать. Так ведь, капитан?
Но я вовсе не хотел выписываться. Мне было здесь хорошо. После обеда я вышел на прогулку, покинул академическую территорию и опять отправился в театр.
– А вот и наш сказочник. Будете рассказывать?
– Если будете слушать.
– Пойдемте в кабинет.
– А нельзя ли в регуляторную?
– Да сегодня народу много. Впрочем, поместимся. На сцене не было выставлено ничего. Только лежали свернутые кулисы и стояла какая-то мебель, которой в мои времена не было в помине. Я включил рубильник и наугад попробовал ручки регулятора. Накбнец убрал весь свет и врубил два выносных на сцене. В неживых туннелях света заиграла пыль.
– Вы, наверное, Анджелку хотите веселить? И нет ее вовсе. Но можно съездить.
– Не надо ездить. Все должно происходить как бы само собой. Так правда Коля стал Героем Советского Союза?
– Да. Есть такое дело. Он же тогда сбежал от всего этого голосистого в Ленинград и обретался там где-то. А тут война. Уехать не смог. А когда в Сосновом Бору неприятеля отбивали, то-то страшно было. Только он и тогда не уехал, а многие свинтили.
– А чего ж он сейчас не возвращается?
– А зачем ему? Он теперь главный режиссер города. Хочет туда, хочет сюда.
– А был он таким. Какая там глава?
– Шестая.
– Пятая.
– Ну да. Тебе лучше знать. Ха-ха, хи-хи.
– Глава пятая. О бренности.
– Ну-ну.
О бренности
Зега никогда не видел главных режиссеров театра, кроме как на экране телевизора. И когда однажды его блистательные товарищи – Петруха и Курбаши нанесли ему визит, то Зега никак не мог предполагать, чем все вскоре закончится. К началу визита он трафаретил кухонные доски, тампонил суриком контур горы Фудзи и думать не мог, что через какие-нибудь полчаса он будет говорить с главным режиссером, да еще в повелительной форме и не где-нибудь, а в режиссерской квартире, и не просто в квартире, а в санитарно-техническом узле.
А дела обстояли следующим образом. Гегемона выпроводили с завода «Акведук», и он тут же попал в лапы Петрухи. А тот, не долго думая, препроводил его в театр «Голос», и не успел Гегемон высморкаться, как его трудовая книжка уже лежали в сейфе директора театра, сам Гегемон был уже не кем иным, как монтировщиком декораций, а работа его в театре началась с того, что его, имеющего прямое отношение к производственной сфере, в сопровождении Петрухи командировали в квартиру главного режиссера осуществлять пуск унитаза, который уже почти был установлен. Сам главный режиссер не смог бы даже поменять перегоревшую лампочку, о чем нисколько не сожалел. Во всем остальном он был талантлив.
Так как ни Петруха, ни Гегемон никогда санитарно-технических навыков не имели, то они решили взять с собой Зегу, мастера на все руки, с дальней мыслью впоследствии вовлечь его в орбиту лицедейства, используя свое короткое знакомство с художественным руководителем театра.
– А прокладки есть? – спросил Зега мгновенно.
– Там увидим, – парировал Петруха.
У Зеги был отличный разводной ключ и кое-какой слесарный инструмент.
До квартиры главного было совсем недалеко, и потому они не заглянули ни в одну из забегаловок. Отчасти из чувства долга, отчасти из лени. Но после пуска все было решено поправить. Также предполагалось, что хозяин не обидит, что, впрочем, подвергалось сомнению со стороны Петрухи, знавшего уже отчасти нынешнее состояние хозяина и его адекватность к вопросам быта.
Хозяин уже ждал. Он предвкушал то живительное мгновение, после которого уже не нужно будет пользоваться общественным туалетом и прочими маленькими хитростями, не нужно будет выходить по ночам в скверик на короткие облегчительные прогулки, а выходил он уже третью ночь подряд, так как много работал. Правда, главный был несколько встревожен многочисленностью бригады, а потому решил не зевать. Петруха быстренько осмотрел кухню и комнату и не обнаружил даже намека на традиционное вознаграждение. Гегемон присел на табуреточку, а Зега стал заглядывать в шкафчики.
Это был отличный датский унитаз. Вся проблема заключалась в резьбах. И не дюймовая, и не метрическая, а черт его знает какая.
– Переходник нужен, хозяин, – велел Зега.
Хозяин был худ, невысок, хорошо одет, а из-под очков в тонкой оправе всверливались в мир буркалы. Он совсем недавно жил в этом городе и вскоре должен был уехать, но тем не менее отечественная сантехника его не устраивала.
– Так, – сказал режиссер, – я здесь знаю только тебя, Петруха, а потому ты несешь полную ответственность за то, что сейчас произойдет.
А происходило все так.
– Разрешите от вас позвонить? – спросил вежливо Зега.
Хозяин очень внимательно осмотрел Зегу и разрешил.
– Эй, кто есть кто? – начал Зега телефонный круиз.
В трубке гремело и ухало, отчего главный справедливо заключил, что это кузнечно-прессовый цех.
– Как там насчет трубы на три четверти?
– Это ты, паршивец?
– Зин. Позарез. Солнечная, 23, квартира 5.
– А что будет, скотина?
– Любовь. Большая настоящая любовь. Хоть завтра.
– Сегодня, после полуночи.
– Заметано.
– Жди заказ.
Через двадцать минут позвонили в дверь и два мужика внесли в квартиру двухметровую трубу, аккуратно положили ее, извинились и вышли.
– Конечно. Государственного добра не жалко. Да я и длину-то не уточнил. Да ладно.
Петруха и Гегемон тем временем играли в шахматы на кухне, а главный смотрел за игрой и давал советы. Тут Зега обнаружил, что хозяин совсем не страшный и даже вовсе приятный человек, хотя и с буркалами.
– Ножовки у вас, конечно, нет?
– Нет, нет, – радостно закивал умной головой главный.
– Гегемон, найди ножовку по металлу. Мне совестно опять просить на «Акведуке», – продолжал Зега руководство работами.
– Ты прямо промышленный воротила.
– Труд на благо Родины – моя неспетая песня. Только я умирать буду, а просить у них ножовку не стану.
– Это я умирать буду, а к ним не поползу, – отвечал Гегемон.
– А больше взять негде.
– Взять-то можно, и во многих местах. Только кто же нам даст?
– А ты позвони Семе. У него есть отличная ножовка по металлу.
– У Семы ничего нет, кроме того, что на нем, и его рукописи о строении мира. Ножовка есть, у его папаши.
– И то верно, – сказал Гегемон и набрал пять цифр.
Через сорок минут прибыл Сема с родительской ножовкой и новой своей избранницей. Им негде было встретиться сегодня.
– Здравствуйте, – зажеманилась избранница и уселась в кресло, подобрав под себя ноги и выставив на просмотр блистательные колени. Режиссер тут же бросил шахматы, взял табурет и отправился беседовать с дамой. Сема решил сварить себе чайку, а Зега, Гегемон и Петру ха занялись трубой. Нужен был кусок в сто двадцать миллиметров и интересной конфигурации. Первым пилил Гегемон и сломал полотно. Зега поставил другое, запасливо принесенное Семой, и отрезал сколько нужно. Но Петруха, делавший замер, не там поставил риску, и вышло коротковато. Пришлось пилить снова. Когда оставалось совсем немного, Сема закричал: «Дай-ка я», – отобрал у Зеги ножовку и сломал полотно вторично. Нужно теперь было идти за новым полотном. Но Сема наотрез отказался идти без своей избранницы, а ей не захотелось уходить, так как хозяин оказался забавным малым. В результате Сема дал Петрухе ключи от квартиры и рассказал, где и что брать.
– А что, хозяин… – начал было Зега, осмелев.
– По окончании, – отрезал хозяин, и девица захихикала.
– Такие вот дела, – подвел итог Зега обреченно, и стал играть с Гегемоном в шашки шахматными фигурами.
Время приближалось к контрольному, и наконец явился Петруха с полотном.
– Николай Юрьевич? – (так звали Главного).
– Только по окончании, – отбрил он и Петруху. Тогда Петруха с Зегой мрачно дорезали трубу. Потом Зега привернул к кухонному столу тисочки, достал из сумки, в которой принес инструмент, плашки, выбрал нужную и стал аккуратно нарезать резьбу. Тут на кухне появился режиссер и порадовался за Зегу и за то, что дело так споро движется. Тем временем Сема повалил в укромном уголке свою подружку на пол и стал частично раздевать, но главный ничего этого не видел и потому не смог помешать торопливому и наглому соитию. Далее счастливый обладатель импортной сантехники наблюдал, как Зега умело совмещает заведомо несовместимое.
– А второй стык мы приварим, – решил вдруг Зега. Сема в это время уже пил чай, а Петруха помогал женщине одеться. И тогда Зега позвонил Врачевателю. У того был чудесный портативный газовый пост, привезенный его дедушкой в качестве трофея с полей Первой мировой войны. Врачеватель не заставил себя долго ждать. Он очень страдал, когда что-либо происходило в этом городе без его, хотя бы косвенного, участия.
Аппарат помещался в простом чемоданчике. В этот день все ладилось… Иначе Врачеватель никогда бы не встретил городского барда Сереню и не привел бы его сюда. Тот бодро вошел в комнату, настроил гитару и попросил выпить.
– По окончании, – заверил его режиссер. И тогда Сереня стал петь трезвым. Подружка Семы, слушая его, заплакала, Гегемон и Петруха рассматривали германский аппарат, Зега объяснял Врачевателю, что нужно сделать с трубой, а тот заряжал портативное детище империализма отечественным карбидом и заливал в империалистический генератор воду, приговаривая, что делали же когда-то вещи. Очень плохо пахло. Потом он долго смотрел на манометр и что-то считал на бумажке, шевеля бороденкой. Потом водрузил баллончики в унитаз, попросил всех выйти из помещения, закрыл дверь, потом открыл, попросил спички, вновь закрыл дверь, чиркнул, щелкнул, и раздался оглушающий взрыв возмездия. Дверь санитарно-технического узла слетела с петель, в дверной проем вылетел живой Врачеватель, следом баллончики и манометр, шланги, и уже рикошетом от стены коридора приземлялись куски того, что было совсем недавно произведением датского дизайна.
– Ну что, Петруха, плохо твое дело? – ласково спросил Главный.
– А может, дадите все же выпить?
– А вот теперь уже фига с два, – сказал Николай Юрьевич и пошел открывать соседям, которые интересовались, что происходит в квартире.
На следующий же день Зега был принят в театр монтировщиком декораций.
– А про любовь? Неужели там у вас, в коммунистическом вчера, любви не было?
– Ха! Была, да еще какая. С чего бы начать? Чтоб самое характерное?
– Ну вот, Сема ваш, Зега… Какая у них любовь была с актрисами?
– Боже упаси.
– То есть как?
– Актрисы тогда жили с актерами. А бутафорши с бутафорами. Только парикмахер не жил с одевальщицей, потому что был стареньким. Но одна одевальщица жила с товарищем Хаповым, после того как товарищ Хапов пожил с другой одевальщицей, а потом назначил ее секретарем. А первая… уже не помню. Ну вот. Сема пожил немного с Тилли, а Зега с Молли.
– А Курбаши?
– А откуда вы знаете про Курбаши? Он ведь вообще из другого сценария.
– Мы специально эту эпоху изучаем. Она была веселой и героической.
– Ну, тогда часть шестая. «Я дал ему немного похрипеть».
– Отлично. Светка, стенографируй.
– Да мы давно все записываем на кассетник.
– Правда, что ли? Я теперь заикаться буду.
– А вот рюмочку, чтоб гладко шел рассказ.
Я немного поколдовал со светом. Полное затемнение, потом один прострел, другой. И они появились. Невидимые для всех, но различимые и явственные для меня. Плод моего воображения. Мираж. Воспоминание. Зега в новой желтой рубашке, отглаженных из озорства брюках, Сема в пиджаке и брюках помятых, но в очках и с блокнотом в кармане, а в блокнот вставлена искусанная авторучка. Там в блокноте трагические стихи. Они, эти два призрака, хлопочут на сцене, мелкими гвоздиками прибивают белое полотно, белый ковер к пьесе Островского. Они таскают белые стулья и ломберные столики из стальных трубок, выкрашенных и тяжелых, они переговариваются, они болеют с похмелья. А в карманах сцены другие люди, другая жизнь.








