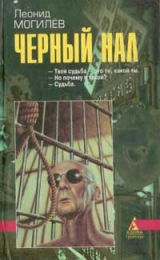
Текст книги "Хранители порта"
Автор книги: Леонид Могилев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
– Не злоупотребляйте. Таблетки вредные. Канцерогенные. А пить – здоровью вредить. Тушенку будете брать? Там все дорого…
Таксист – молодая бестия, худой, постреливающий глазками, прохиндей, исчадие. Только теперь мифотворец, бывший житель Советской Латвии, а ныне едущий с заданием полумифической антиправительственной организации – в это он поверил твердо – в преступное государственное образование, называемое Латвийской Республикой, только теперь литератор понял, во что ввязался. «Съезжу, вернусь, скажу, не получилось, сдам остаток денег. А несколько дней поживу, как человек». Он несколько успокоился.
– В животе печет.
– И должно печь. Таблетки спрячьте. Паспорт, деньги, билеты, личные вещи, часы.
– Часы не взял, спасибо. – Он нашел на столике наручные электронные часы, застегнул ремешок на запястье. – Присесть можно на дорожку?
– Можно, если не очень долго.
Присели. Вышли из квартиры, и Ханов захлопнул дверь.
Глава вторая
Там, где нет времени, где воды объяли души погибших кораблей, где немыслимое продолжение Млечного пути перетекает и сочится, и небо падает и не может утонуть в земных морях, оживала подводная лодка С-3. Она существовала как бы сразу во всех состояниях, от молодой, свежевыкрашенной, рвущейся в балтийские глубины До той, предсмертной, разорванной… Она видела себя от долгого начала до краткого конца, и душа ее, выпущенная из своего уровня небытия, проникала в металл. Напрягались шланги, топливопроводы, очнулись поворотные механизмы, на несбыточно короткое мгновение ожил дизель, но еще не окрепли силовые линии беды, которые только и могли вызвать к жизни погибшую 24 июня возле маяка Ужава подводную лодку. Но она уже не хотела быть молекулами, ржой и накипью, она уже помнила себя живой и грозной. Как будто ветерок прошелестел в хранилище душ ушедших посудин, облако светлого газа качнулось, и время показало свой лик на неизмеримое мгновение…
На столе начальника ликвидационного отряда зазвонил телефон. Это был городской телефон, и начальник догадывался, кто сейчас хотел бы поговорить с ним.
– Господин капитан первого ранга, вы обещали мне ответить на тот самый вопрос.
– Я с удовольствием отвечаю, что никаких дополнительных постов я не выставлял. Все люди на месте. Пополнения не было, вывод людей согласно графика.
– Мне хочется вам верить… А вы не исключаете провокации? Кто бы мог быть заинтересован?
– Господин городской голова. У вас масса возможностей произвести контроль. У вас полиция, безопасность, наблюдатели. У вас столько добровольных помощников. Почему двадцать моряков из хозслужбы так волнуют вас?
– Вчера мы насчитали двадцать четыре.
– Этого не может быть.
– Хочется верить.
– Честь имею.
Капитан первого ранга располагался в бывшем кабинете начальника базы. Через две недели он оставит этот кабинет и простым поездом покинет Либаву. Потом Рига, и все… Санкт-Петербург. Базы Балтийского флота здесь больше нет. И не будет никогда. А когда уйдет капитан первого ранга, сюда первым делом придут люди из военной разведки соседних стран, будут досконально просеивать, казалось бы, случайную информацию, обходить помещения, казематы, бывшие хранилища и мастерские, спускаться в тот город, что под землей, туда, где стеллажи и комнаты, проспекты и тупики, обрывки троса и ветошь, гайки и пустые бочки. Первая информация самая жаркая. Взорвать бы все к….. матери, – в очередной раз подумал капитан первого ранга, – вместе с раздвижным мостом, шестой группой, пустыми домами с заколоченными окнами, с бедолагами, еще живущими в бывших офицерских норах. Последний корабль и последняя лодка уже покинули Либаву. Латыши обижались, но капитан в деловой переписке и разговорах упорно называл город так.
Ночью он обошел посты. Два человека у Тосмарского моста, два человека у главного. Один у штаба. Все. Еще тринадцать человек спят, один стоит у оружейной комнаты, еще один снаружи. Итого – двадцать. Обход занял у него ровно час. Он вышел к берегу. Там, где когда-то располагалась 23-я батарея 130-миллиметровых орудий и где памятником вставала башня форта, присел на топляк, покурил, подумал, отправился спать. Уходил не оглядываясь. А за его спиной две зыбкие фигуры краснофлотцев промелькнули мимо броневых плит, поднялись по лесенке и исчезли в башне. Итого, стало быть, двадцать два, что и было зафиксировано в протоколе наружного наблюдения. Наблюдали с нескольких точек, используя приборы ночного видения, что было совершенной дурью.
Ханов, выйдя из поезда в Риге, повел себя странно. Он засел в буфете на втором этаже вокзала и стал обжираться шницелями. В свое время, долгое и бессмысленное для непосвященных, перемещения по городу заканчивались именно здесь, на вокзале, бутылкой полуночного портвейна и огромной горячей котлетой, которая подводила итог дня, со стихами и песнями, с вином и бытовыми неурядицами. Ханов то работал, то нет, то выполнял гражданский долг, то уклонялся, то имел накопления, то занимал десятку-другую, то любил, то был любим. Вокзал был его ночным клубом, а буфеты, многочисленные и обильные, дарили его сомнительным уютом и пищей. Если покинуть вокзал около часа ночи, обратно уже не попадешь. Заперты стеклянные двери в рай. Поэтому Ханов часто сидел здесь до утра, до половины пятого или пяти.
Улицы города изменились. Они стали носить прежние имена, а те улицы, которых не было во времена прошлой республики и которые построили отчасти при нем, назывались также по-новому и непонятно. Не было больше привычных кафе и столовок, пельменных и чебуречных, магазинчиков и витрин. Он знал об этом по рассказам друзей, по телефонным звонкам, по газетам, что привозили ему часто. И он не хотел видеть чужого и наглого города, где богатые несли в себе кураж, мутную жадность к жизни, а бедные – память недавних лет. Он купил русскую газету, совершенно легально и прилюдно раскупорил в буфете портвейн, но рефлекторно все же поставил бутылку под стол. Портвейн был дорогим, как и тот, что продавался в ларьке на Марата, отличный крымский портвейн. Ассортимент ларьков был примерно одинаков на всей территории бывшего Союза. Вначале Ханов взял тертый сыр с майонезом, скумбрию в масле и шницель. Вкус и величина шницеля не изменились. Значит, повар и электропечи остались те же. Только вот людей в буфете стало намного меньше, как и поездов, означенных в расписании. Впрочем, и буфетов поубавилось. А хуже всего было то, что он знал того, кто написал текст про Ивана. Он понял это уже тогда, когда лег на вагонную полку. Еще можно было выйти, и тут же появился бы кто-нибудь от Щапова, спросил бы, чем помочь, а он бы сразу назвал человека, раз тот сам этого хотел, и все. Деньги бы ему оставили несомненно, но что бы было потом? Почему они так в нем уверены? Придавить Хана, как щенка позорного, никчемного писаку, пыль на ветру сдуть. Списки какие-то. Товарищ Андропов ничего не знал… Он съел четыре шницеля и выпил полторы бутылки портвейна. Больше в Ханова ничего не влезло. А потом он перешел на автостанцию и взял билет до Либавы. Автобус выходил тотчас, и Ханов мирно уснул на своем месте. Автор «Ивана» жил здесь, в Латвии, в Либаве. Ханов просыпался в Салдусе, потом заснул опять и наконец оказался на месте. И решил немного перекусить.
Этот вокзал он знал так же хорошо, как и рижский. Он прожил в Либаве восемь лет счастливой юности. Он уехал, потому что обмен подвернулся, хотя и не хотел уезжать вовсе, но не пропадать же такому варианту, а потом он опять менялся, и вот она – улица Марата, где ларек, и баня, и подвальчик, одним словом – Питер. А вот теперь он вернулся, и латы, которые получил утром за конспиративные доллары, не проедены еще и не пропиты. В этом буфете следовало брать рыбу по-польски с картофельным пюре, холодный борщ и салаты. Продолжая начатое, он выпил водки с пивом и огорчился, не обнаружив «Сенчу». Все жуть какая-то, то датская, то немецкая. Совместное производство.
Он шел по улице Ригас, по булыжникам перекрестка у маленького базарчика, шел по бывшей Сарканармияс и не хотел знать, как она называется теперь. Он мог пройти через переезд, так короче и быстрее, но выбрал длинный путь, мимо маслозавода, мимо машиностроительного, и на Шкедес свернул к морю. Посидел на волнорезе. Никого на волнорезе не было, а хотелось бы встретить кое-кого. Метров триста бетона и арматуры и – никого. Можно было искупаться и при этом смело оставить одежду и сумку, где доллары, латы и рубли рассованы во всех тайных и явных местечках. И вот он разделся до трусов и, наконец-то смывая с себя всю многолетнюю усталость и всю грязь последних суток, нырнул. Не прошло и полминуты, как легкая сердечная недостаточность и кратковременная потеря сознания отправили Ханова ко дну. Он увидел туннель, сияние, добрый свет и родственников, с той стороны…
Ханов лежал на чистой простыне, прикрытый легким одеялом. Больше в комнате никого не было. Комната метра два на три, со свежевыкрашенными рамами, занавески на окнах, дверь… Еще в комнате был стол и на нем – ничего. Ханов утонул в трусах в цветочек. Они и сейчас были на нем. А часы остались там, на волнорезе. Но он знал, что это за комната, что дверь изнутри не открывается, хотя и нет видимых следов замка. Не безобразная же задвижка снаружи? Впрочем, о чем он… В окно можно было созерцать великолепные зеленые холмы. Где-то за стеной – другая комната, большой зал, где сидят другие и ждут Суда. Ждут, когда зеленый луч позовет их, когда на холме он тронет сладостную ложбину и поведет по ней к назначенному месту. Ханову на Суд нельзя. С ним сложнее. Он лежал долго. Время суток определить было невозможно, свет в окне не менялся. Он потрогал себя, пощупал. Хотел встать, но, зная, что вставать не следует, не сделал этого. «Доллары жалко, хотя чушь какая».
Дверь наконец открылась, и вошли трое, в сапогах, в полевой военной форме старого советского образца и фуражках. Самый старший с одной шпалой. Двое с нашивками младших командиров. Ханов собирался писать историческую повесть о прошлой войне и поднаторел в нашивках и званиях. Он наконец-то встал с койки и засуетился. Двое младших кивнули головами. Тот, что со шпалой, вышел.
– Лежите покудова. Лежите. – И вышли тоже.
– Разрешите чаю.
– Лежите… – донеслось из коридора. Ханов лег.
Потом пришел сержант, Ханов встал и вышел в коридор. Сержант долго вел Ханова по коридорам. Изредка проходили вновь прибывшие и уходящие после Суда. Наконец неприметная, словно складская, дверка открылась, и Ханов оказался в кабинете, где были девушка машинистка и человек в штатском.
– Садитесь.
– Сяду, если позволите.
– Что же так неосторожно? После шницелей с водкой и в холодную воду? Вы же не мальчик уже…
– Воды у меня в Питере нет давно. Искупаться захотелось. Потом, в автобусе полдня.
– А потом к нам.
– Я шницеля утром ел.
– И днем. И рыбу по-польски. Ну, ладно. Пить надо меньше. Литератор, – и залистал страничками в папке.
Потом положил. На обложке Ханов прочел свою фамилию, имя, отчество, год рождения. Там, где дата смерти, ничего нет.
– А как так, гражданин начальник, я тут, а на папочке нет ничего.
– А вы покуда не тут и не там. Вы знаете, кто в палату входил?
– Лицо что-то знакомое.
– Правильно. Вы же в архивах рылись. Вспоминайте.
– Как я вспомню, полуутопленный…
– Это военный комендант станции Лиепая И. Т. Рожков.
– Так он ведь погиб давно и в первые дни.
– Правильно. Погиб. Многие погибли. Он сегодня старший по команде. А то бы кто другой мог зайти.
– Одеться бы дали во что. Сами-то в костюмчике.
– Не спешите, Ханов. Одевание – дело серьезное.
Штатский позвонил в звоночек. Вошел сержант. Ханова опять долго вели, потом втолкнули в лифт. Тот дернулся, пошел вниз, выплюнул Ханова наружу. «Это тебе предупреждение. А куда собирался, не ходи. Не надо тебе в секретные агенты», – прозвучало вослед, и воды сомкнулись над ним.
– Жив, жив, – услыхал он сквозь пелену и дремоту и увидел небо, женщину какую-то, мужика в спортивном костюме.
– Вы дышите, дышите, – бормотали они по-русски, – мы сейчас «скорую».
– А вот этого не надо, – свирепо возразил Ханов, вскочил и стал яростно одеваться, на ходу ощупывая спрятанные в укромных местах доллары, – за спасение спасибо. Кстати, вы кто?
– Да вас выбросило прямо на отмель.
– Здесь никогда отмели не было, – закашлялся возвращенец.
– Не было, а теперь есть. А завтра опять не будет. Вам помочь?
– Пойдемте, я вам налью за спасение?
– Нет, что вы! Может, врача? Из вас воды литра три…
– Я в форме, – резанул Ханов и быстро-быстро пошел по волнорезу, озираясь и мотая головой. Часы на руке, доллары в кармане, поезда ходят. Так-то вот.
Глава третья
Сорокамиллиметровая пушка на лодке С-3 ожила, попробовала вертикаль, горизонталь, медленно сдвинулся с места и тут же вернулся рычажок замка. В отсеках лодки стало светло. Свет этот, тусклый, но верный и живой, обнаружил полное отсутствие экипажа. Лодка материализовалась и покинула свой уровень пребывания. Она могла сейчас передвигаться только в надводном положении и потому вплыла в свой небесный док для ремонта. Там ее ждал капитан-лейтенант Костромичев с командой. Они и начали ремонт. Еще шесть подводных лодок с полуразобранными механизмами входили в доки. С-1, М-71, М-30, «Спидола» и «Ронис». Ну и что с того, что они были построены во Франции, в 26-м году? Что система палубных надстроек и торпедных аппаратов несовершенна? Они встали в доки. Последней подошла лодка М-83, взорванная своим экипажем.
…Ханову было нужно успокоиться и осмотреться. Слишком круто взяли его в оборот обстоятельства. Полуутопленный и побывавший между делом в канцелярии чистилища, с неукраденными долларами в кармане, в сумке, в потайке и в прочих местах, как и учил его товарищ Щапов, он шел куда глаза глядят, и ноги сами, несли его через парк, туда, где море. Казалось, нужно было сейчас бежать от этого вечного и язвительного, этого круговращающегося вместилища веков и душ. Но Ханов вернулся, как возвращались до него и как будут возвращаться после. Живший у моря, даже покинувший его, остается навечно в его призрачной и необъяснимой власти. Оно накатывает на пустой пляж, и кому-то снится это. Кажется, что снится. Оно податливо и легко трогает водоросли со случайной крошкой янтаря, а кто-то на чужом и душном пространстве закрывает глаза и чувствует запах юности и свободы. Живущие у моря свободны. Любая власть здесь тщетна.
…Он жил здесь, на пляже, неделями. Спал на спасательной станции и приходил домой лишь переменить одежду. Он не служил тогда и потому мог видеть светило восходящим и падающим за море в любое подходящее для этого время.
Он до умопомрачения играл на бильярде и в футбол. После отлива необыкновенно плотным был песок, но если начинался настоящий футбол, то уже не важно было, прилив там, отлив, утро или час угасания светила. После он лежал в тени старого этого здания и если хотел, то перекатывался на солнце, а если хотел, то вставал, направлял стопы к ближайшему киоску и покупал там бутерброды с сыром или с салакой пряного посола, очищенной от костей и уложенной на белый черствый хлеб, по которому слегка прошлись маслом. И теплый лимонад из картонного стаканчика.
По ночам жгли костры и пекли на углях кур. Куры в те времена в патологическом изобилии заполняли прилавки всех торговых точек города, и даже были открыты срочно два павильона, где этих самых кур можно было вкушать с восьми утра до двенадцати часов ночи. По ночам они ворочали огромными шампурами, на которых эти райские птицы сочились тайными соками и изнемогали от жара углей. Потом они рвали их на части…
Спасательная команда являла собой довольно странное сборище людей, называвших себя художниками, поэтами, механиками и кришнаитами. Доподлинно было известно в узком кругу, что двое из компании были ранее судимы в нашей державе, а один судом Французской Республики, что вызывало бурное ликование присутствовавших и впоследствии, как ни странно, подтвердилось.
Эти люди жили ненатужно и без хлопот. Впрочем, изредка тонули посетители пляжа, но если их не удавалось реанимировать, то удавалось доказать, что утопление произошло за пределами охраняемой зоны. Управляемые бывшим заслуженным прапорщиком, а теперь рачительным; и – справедливым хозяином нехлопотной команды, здания станции и многочисленной материальной части, в которую следовало включить и бильярдный стол, а также два катера, эллинг, грузовичок, работники станции жили естественной и беззаботной жизнью, и волны этой беззаботности расходились вокруг, обволакивая все и вся.
Ханов продолжал прогулку. Он отправился на юг, желая узнать, где теперь кончается пляж, и ушел километра на три. Город прекратился, и он повернул назад. Очевидно, пляж с этой стороны был бесконечен, как и ранее.
Он шел назад по кромке соприкосновения земли и воды, обозревая многочисленных жителей, плещущихся и обсыхающих, а также мелких и крупных отпрысков, сновавших под ногами и боязливо входивших в воду.
Как будто на сегодняшнюю ночь была «прикинута» очередная языческая гулянка под звездным небом, и он шел под сень станции, чтобы выспаться в холодке. Было воскресенье, и оттого на пляже было так много народу. Термометр показывал около двадцати одного градуса по Цельсию. Высчитывая про себя, сколько это будет по Фаренгейту и Реомюру, он хотел вновь идти в воду. Настало время прилива. Если войти метров на пятьдесят и стоять, ничего не предпринимая, то волна поднимет вас и попробует переставить-на другое место. Можно перекувырнуться и повторить попытку… Потом, не выходя из воды, отыскать у самого берега вырытый детьми котлованчик и лечь в него. Закрыть глаза и уснуть, а проснувшись, прямехонько поспешить во двор станции, к Врачевателю.
…Светило показалось вновь из-за линии горизонта. Вплывая потом в память о множественности часов, проведенных на пляже и в парковой зоне, когда станция была сама по себе, а он уже сам по себе, он пришел к выводу: те несколько часов, давным-давно, что случились перед сакраментальной встречей, среди ловцов космической энергии, один из которых был осужден когда-то судом Французской Республики и выпущен под залог, внесенный капитаном судна, а затем вывезен в советские воды (а осужден он был за заурядный гусарский поступок к нескольким суткам), так вот, перед той самой гулянкой, вот эти самые часы были лучшими в его жизни.
…Далеко за полночь он взял служебный полевой бинокль и поднялся с ним на смотровую площадку спасательского дома. Она была застеклена, и воздух в этой будочке, нагревавшийся весь день, еще не успел остыть. Он распахнул раму, и голос волн ворвался внутрь, и тотчас затхлость сменилась свежестью. Он настроил бинокль и попробовал заглянуть за линию горизонта, но ничего не увидел, кроме барашковых наскоков, извивов воды, обычного ее возвратного движения. Лунный свет – дорожка на водной поверхности. Тогда, подняв объектив к небу, он отыскал лучезарный Сириус. Сквозь стекла бинокуляра были явственно видны обе звезды. И все его спутники.
…По винтовой лестнице застучали каблуки. Врачеватель, Сема, Ижица.
– Какая прелесть. У вас всегда так? – Ну что еще она могла спросить?
– Да, всегда.
– Астроном, – объявил Врачеватель торжественно, указуя на того, кто был Ханову другом. Сема мелко рассмеялся. Потом все по очереди смотрели в бинокуляр, а Сема читал стихи. Потом снизу втиснулся кто-то с куриной ногой в одной руке, со стаканом – в другой. А пляж убегает на юг и на север. И не кончается. А воды пребывают в возвращательном движении, и лучезарный Сириус излучает Время.
…Он проснулся, вернее, очнулся в кладовой, на скамье, рядом – водолазные принадлежности и атрибуты и живописные полотна Врачевателя. Захотелось смыть с себя остаток ночи. Освободившись от одежд, он отправился на утреннее омовение.
Вода была намного холодней, чем накануне. Он шел от берега до тех пор, пока не смог поплыть, а это, значит, метров пятьдесят. Вынырнув, пошел опять к берегу, где существовал утренний и столь много обещавший свет. Светился белый песок. А у плиты, на станции, сидел Сема, кипятил воду в чайнике и покуривал.
– Сбежала девочка. В самый интересный момент, – начал было он оправдательные речи, но тут явился похмельный Врачеватель. Спросив насчет воды, он отправился купаться. Потом из внутренних помещений выползли разнообразные люди, в соответствии со штатным расписанием и сверх оного.
…Вот она, станция. Показалась сквозь деревья. Он вышел на пляж по одной из дорожек, которых много в приморском парке. Сквозной ветер прошлой осени много лет тому назад проник на эту, в сущности, эфемерную полосу прибоя. Он шел и не оборачивался. Любители бега трусили рядом, справа накатывало море, и осклизлые пучки травы, срывавшие янтарную пыль, липли к чистым и продуваемым звездным ветром берегам этого времени.
Резолюция на служебной записке городского головы в службу безопасности:
«Должно быть, парень от лишнего усердия повредился головой. Да какая разница, двадцать их там или тридцать? Пусть хоть пятьдесят. Там нет кораблей. Нет танков. Пусть займется более полезным делом, чем подглядывание в русские бараки. От этого подглядывания один вред, тем более что ситуация контролируется заинтересованной стороной».








