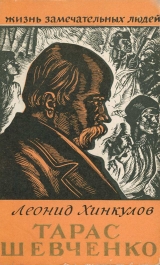
Текст книги "Тарас Шевченко"
Автор книги: Леонид Хинкулов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
X. НА БЕРЕГАХ УРАЛА
Передовая общественность России восприняла расправу с украинскими «славянистами» как вопиющее преступление самодержавия против прогрессивной человеческой мысли: после декабристов и польских революционеров тридцатых годов кирилломефодиевцы были очередными жертвами николаевской деспотии и террора.
Из ряда косвенных архивных данных можно заключить, что несколько человек, пострадавших в известном нам деле кирилломефодиевцев, не составляли всего существовавшего на Украине в середине сороковых годов революционного подполья. А такие его деятели, как Шевченко, Гулак, Навроцкий, были, очевидно, связаны и с другими революционными организациями, действовавшими одновременно и продолжавшими действовать позже на Украине и в России.
Каким-то пока еще неизвестным нам образом с тайными обществами на Украине была связана организация Буташевича-Петрашевского. Специально подосланный к петрашевцам полицейский агент Антонелли доносил Третьему отделению в 1849 году:
«В рассказе о происшествиях, бывших в Киевском университете, в которых был замешан Шевченко, Петрашевский говорил, что заговор этот (Кирилло-Мефодиевское общество. – Л. X.) был открыт студентом Петровым, принятым ныне на службу в Третье отделение. Несмотря на неуспех помянутого предприятия, оно все-таки пустило корни в Малороссии, чему много способствовали сочинения Шевченко, которые разошлись в том краю во множестве и были причиною сильного волнения умов, вследствие которого и теперь Малороссия находится в брожении…»
В другом донесении тот же агент писал:
«Сколько я мог заметить из моего кратковременного знакомства с Петрашевский, связи его огромны и не ограничиваются одним Петербургом, но, напротив, находятся во всех концах России. Доказательством того служат: знание им всех подробностей происшествий в Киевском университете; уверенность, с которою он говорил, что вся Малороссия находится в брожении; собственное его признание, что он принадлежал к Харьковскому обществу, которое, по его словам, существует и до сих пор; подтверждение его, что и в Москве есть люди с человечными понятиями…»
Лично знавший Шевченко петрашевец Момбелли вспоминал впоследствии, что «о Шевченко тогда очень много говорили». В своем дневнике весной 1847 года Момбелли записал (по условиям конспирации – очень отрывочно и со всевозможными нарочито туманными оговорками):
«В настоящее время в Петербурге все шепчутся и говорят по секрету с видом таинственности об открытом и схваченном правительством обществе… Несколько человек умных, истинно благородных брошено в тайные темницы, ни для кого не доступные… Шевченко, Кулиш и Костомаров находятся в числе несчастных… Малороссия считала Шевченко в числе своих любимых поэтов, которых так немного. Он написал поэму «Гайдамаки» и много других стихотворений… Говорят, что Шевченко – истинный поэт, поэт с чувством, поэт с воодушевлением… Говорят, будто бы они хотели возбудить Малороссию к восстанию… С восстанием же Малороссии зашевелился бы и Дан, давно уже недовольный мерами правительства. Поляки тоже воспользовались бы случаем. Следовательно, весь юг и запад России взялся бы за оружие… Шевченко, говорят, написал на малороссийском языке, в стихах, воззвание к малороссиянам…»
Итак, в пятницу 30 мая 1847 года поэту был объявлен совместный приговор Третьего отделения и царя.
«Трибунал под председательством самого Сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора!» – писал Шевченко.
И все же ом сохранял необыкновенную волю, ни на минуту не переставал владеть собой.
– Мы, заключенные, – рассказывал Костомаров, – видели из окон, как вывели на двор Шевченко в солдатской шинели. Он улыбался, прощаясь с друзьями. Я заплакал, глядя на него, а он не переставал улыбаться, снял шляпу, садясь в телегу, а лицо было такое же спокойное, твердое…
В тот же день Шевченко, одетый в солдатскую форму, был доставлен от каземата Третьего отделения в инспекторский департамент Военного министерства, а на следующий день, в субботу 31 мая, генерал-адъютант Игнатьев отправил рядового Шевченко под присмотром фельдъегеря прямо в Оренбург, в распоряжение командира отдельного Оренбургского корпуса и оренбургского военного губернатора генерала-от-инфантерии Владимира Афанасьевича Обручева.
«Фельдъегерь неудобозабываемого Тормоза (то есть Николая I, которого так прозвал Герцен. – Л. X.) не дремал, – вспоминает Шевченко в своем «Дневнике». – Он меня из Питера на осьмые сутки поставил в Оренбург, убивши только одну почтовую лошадь на всем пространстве».
Действительно, путники делали на перекладных более трехсот верст в сутки и все расстояние от Петербурга до Оренбурга, через Симбирск, Самару, Бузулук, то есть две с половиной тысячи верст, покрыли за восемь дней.
«Все пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же и в памяти моей мелькает, ни одной черты не могу схватить хорошенько, – говорит Шевченко устами героя одной из своих повестей, вспоминая, конечно, собственное «мимолетное путешествие» из северной столицы на берега Урала. – Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи… После волжских прекрасных берегов передо мною раскрылася степь, настоящая калмыцкая степь…
Первые три переезда показывались еще кое-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи, по берегам речки Самары. Наконец и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только – и то местах в трех – я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы…
Проехавши город Бузулук, начинают на горизонте в тумане показываться плоские возвышенности Общего Сырта. И, любуясь этим величественным горизонтом, незаметно въехал я в Татищеву крепость… Пока переменяли лошадей, я припоминал «Капитанскую дочку», и мне как живой представился грозный Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне…
Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание называется здесь Караван-сарай: оно недавно воздвигнуто по рисунку А. Брюллова. Проехавши Караван-сарай, мне открылся город, то есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие Сакмарские ворота, – в них я и въехал в Оренбург».
Шевченко был привезен в Оренбург в понедельник 9 июня, в одиннадцать часов ночи, доставлен прямо в «ордонансгауз», то есть в канцелярию корпуса; в передней, прямо на голом полу, Шевченко и провел первую ночь.
Наутро, совершенно измученного дорогой и всеми событиями последнего времени, Шевченко вызвал к себе комендант Лифлянд и направил поэта в казарму впредь до решения, в какой из десяти батальонов отдельного Оренбургского корпуса будет назначен ссыльный поэт.
Между тем уже к полудню 10 июня разнеслась весть о прибытии в Оренбург Тараса Шевченко. К дивизионному квартирмейстеру штабс-капитану Карлу Ивановичу Герну зашел начальник штаба 23-й пехотной дивизии «полусумасшедший», как его называли, Прибытков:
– Вообразите себе, Карл Иванович, какого господина нам сегодня прислали: ему запрещено и петь, и говорить, и еще что-то такое! Ну как ему при этих условиях можно жить?
В тот же день молодой чиновник Оренбургской пограничной комиссии Федор Матвеевич Лазаревский, украинец по происхождению, давно зачитывавшийся стихами Шевченко, услыхал от писаря, ссыльного поляка Голевинского:
– Вы знаете, ночью жандармы Шевченко привезли! Я слышал от офицера, которому его сдали, и он теперь в казарме.
Вскоре в казарму 3-го батальона, где находился Шевченко, стали являться люди, желавшие с ним познакомиться. Поэт лежал ничком на голых нарах, углубившись в чтение какой-то книги. При входе Федора Лазаревского Шевченко неохотно поднялся с нар и с явной недоверчивостью стал отрывисто отвечать на вопросы любопытного юноши.
– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? – опросил Лазаревский.
– Я не нуждаюсь в чужой помощи, – довольно сдержанно ответил Шевченко, – буду сам себе помотать. Я получил уже приглашение от заведующего пересылочной тюрьмой учить его детей.
В те времена Оренбург был населен почти исключительно военными и ссыльными, среди которых было особенно много поляков. В Оренбурге помещались штаб отдельного Оренбургского корпуса, управление начальника края и другие ведомства. В городе был также расположен Неплюевский кадетский корпус – одно из старейших в России военных учебных заведений, наименованное в честь основателя Оренбурга, сподвижника Петра I, Ивана Ивановича Неплюева.
Оренбург был основан при впадении реки Орь в Урал и отсюда получил свое название. Но затем выяснилось, что в открытой степи неудобно сооружать город, и укрепление было перенесено к западу, вниз по течению Урала, в более благоприятные географические и климатические условия; при этом за новым городом было сохранено прежнее наименование, хотя река Орь и осталась далеко на востоке.
На месте прежнего Оренбурга была сооружена небольшая крепость, названная Орской, а среди местного казахского населения известная под именем Яман-Кала, что означает «Дрянь-Город».
На новом месте Оренбург за сто лет значительно разросся и, по сравнению с Орской крепостью, уже представлял собой в какой-то мере «настоящий» город.
Один из польских ссыльных, Юлиан Ясенчик, живший в 50-х годах в Оренбурге, описывает его так:
«Оренбург для степи является довольно порядочным городом; все казенные здания, а их немало, выстроены из камня и, конечно, выкрашены в желтый цвет; на улицах дома деревянные, лишь кое-где белеют каменные; весь город окружен высоким валом, сооруженным из кирпича руками ссыльных… Самое величественное здание – дворец начальника края, возвышающийся в самом конце города. Здесь Перовский вел королевскую жизнь, здесь сменивший его Обручев копил деньги в своей шкатулке…
В окрестностях города, за валом, раскинулись предместья с невзрачными лачугами, частью деревянными, частью сооруженными из глины и крытыми соломой. Там обитают уволенные женатые солдаты и татары. В городе расположены два батальона, 2-й и 3-й, составляющие нечто вроде гвардии генерал-губернатора».
Естественно, что Шевченко предпочел бы остаться на службе в Оренбурге. На это же рассчитывали и новые его знакомые, которые тотчас принялись хлопотать, чтобы поэта зачислили во 2-й или 3-й батальон Право выбора батальона было предоставлено начальнику края, командиру отдельного Оренбургского корпуса Обручеву. Управляющий военным министерством генерал-адъютант граф Адлерберг-младший в сопровождавшей Шевченко бумаге на имя Обручева писал:
«Имею честь покорнейше просить почтить уведомлением: в который из оренбургских линейных батальонов он будет зачислен».
Трудно сказать, чем руководствовался «корпусный ефрейтор Обручев» (выражение Шевченко), сразу же отдавший распоряжение о зачислении ссыльного поэта в один из дальних батальонов, расположенных в неприветливой Орской крепости. Но только 10 июня, уезжая на некоторое время из Оренбурга, он направил «секретное предписание» начальнику 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту Толмачеву: «Препровождая рядового Шевченко, покорнейше прошу зачислить его їв Оренбургский линейный № 5 батальон, учредив за ним строжайший надзор, с запрещением ему писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».
А 11 июня уже сам Толмачев, «за отсутствием командира отдельного Оренбургского корпуса», докладывал в рапорте на имя графа Адлерберга, что Шевченко «зачислен в Оренбургский линейный № 5 батальон, с учреждением за ним строжайшего надзора».
Таким образом, когда Карл Иванович Герн обратился за помощью к бригадному генералу Федяеву, слывшему добряком, Федор Лазаревский бросился к начальнику пограничной комиссии добродушному генералу Ладыженскому, а товарищ Лазаревского по Черниговской гимназии, Сергей Левицкий, решил действовать через влиятельного чиновника особых поручений при военном губернаторе подполковника Матвеева, сына простого уральского казака и отзывчивого человека, – участь Шевченко уже была решена; предпринять что-нибудь практически для того, чтобы оставить поэта в Оренбурге, не представлялось никакой возможности впредь до возвращения Обручева.
Шевченко стали советовать отправиться педели на две в лазарет, чтобы этим выиграть время. Однако же поэт наотрез отказался от такой хитрости. Он вообще потребовал, чтобы никто за него не ходатайствовал, считая это унизительным для себя,
Между тем Шевченко в самом деле испытывал недомогание: от бессонницы, быстрой езды и внезапной перемены климата у него появилась лихорадка. Поэтому отправку в Орскую крепость все равно пришлось на неделю отложить.
Шевченко в эти дни, чуть оправившись, получил возможность ходить свободно по городу. Он так давно (более трех месяцев!) не испытывал этого сладостного чувства свободы, что с радостью обозревал новую для него обстановку, природу, быт.
На улице ему встречались почти одни только каски да эполеты, солдаты да казаки; его изумило, что даже бабы ходили по городу в солдатских шинелях!
Поэт, которому Оренбург в первый день показался ужасно неприятным городом, теперь уже начал заключать, что и у города «наружность иногда обманчива бывает». Шевченко с наслаждением всходил на гору, откуда открывался вид на Урал, на рощу за Уралом, а в двух верстах от города, на левом берегу реки, раскинулся Меновой Двор, выстроенный в виде небольшого укрепления и служивший в летнее время местом оживленной торговли.
Участие, встреченное ссыльным поэтом в Оренбурге, расположило его к новым друзьям: Герну, Лазаревскому, Левицкому. Радостной была для него встреча со своим младшим товарищем по Академии художеств, одним из любимых учеников Венецианова, Алексеем Филипповичем Чернышевым.
Двоюродный брат Чернышева, Александр, тоже художник-любитель, служил урядником казачьего войска; он-то и сообщил своим родным о прибытии Шевченко. Алексей Чернышев, приехавший на лето к семье в Оренбург, горячо встретил однокашника, пригласил Шевченко в свой дом, познакомил с отцом, братьями (все они – Константин, Владимир и Матвей – рисовали) и сестрой Ольгой.
Шевченко добился разрешения ночевать иногда не в казарме, а у Чернышевых или у Лазаревского и Левицкого, живших вместе.
Об одной из таких ночей Лазаревский рассказывал:
«Сняв с кроватей тюфяки, мы разложили их на полу, и все втроем улеглись на полу вповалку. Шевченко прочел нам наизусть свою поэму «Кавказ», «Сон» и др., пропел несколько любимых своих песен: неизменную «Зіроньку», «Тяжко-важко в світі жити»; но с особенным чувством была исполнена им песня:
Забіліли сніги,
Заболіло тіло.
Ще й голівонька.
Ніхто не заплаче
По білому тілу,
По бурлацькому…
Мы все пели. Левицкий обладал замечательно приятным тенором и пел с большим чувством… Летняя ночь, таким образом, пролетела незаметно. Мы не опали вовсе. Рано утром Тарас Григорьевич простился с нами…»
Бывал Шевченко у Герна, необыкновенно чуткого, уже немолодого человека. Подполковник Матвеев, который, по словам Федора Лазаревского, «при Обручеве был великая сила в Оренбургском крае», тоже приглашал Шевченко к себе домой.
Тяжело было поэту отправляться снова дальше, за двести пятьдесят верст от Оренбурга, в Орскую крепость. Но срок отъезда неумолимо приближался.
Шевченко был отправлен в Орск 14 июня. Путь лежал вдоль реки Урал, через крепости и редуты, составлявшие в те времена единую «Оренбургскую укрепленную линию»: Неженка, Красная Горка, Островная, Озерная, Ильинская, Губерля…
В повести Шевченко «Близнецы» изображается этот путь от Оренбурга до Орской крепости с того момента, когда поутру, у Орских ворот, дежурный ефрейтор, проверив документы у отъезжающих, скомандовал:
– Подвысь! – окрик, означавший разрешение поднять шлагбаум при выезде или въезде в крепостные ворота, и раздалось обычное: – Пошел!
«И тройка понеслася через форштат, мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встащил две пушки, осаждая Оренбург».
В казачьей станице Неженке путникам захотелось есть. О своем герое, совершавшем этот переезд, Шевченко рассказывает так:
«Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный»
И между проезжим и молодой женщиной произошел следующий диалог:
– Можно у вас остановиться отдохнуть на полчаса? – спросил он молодку.
– Мозно, для ца не мозно! – щелкая арбузные семечки, протяжно отвечала она.
– А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить? Хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом, чай рыбы пропасть?
– Нетути. Мы ефтим не занимаемся.
– Чем же вы занимаетесь?
– Бакци сеем!
– Ну, так сорви мне огурчиков.
– Нетути. Мы только арбузы сеем.
– Ну, а лук, например?
– Нетути. Мы лук из городу покупаем.
«Вот те на! – подумал проезжий. – Деревня из города зеленью довольствуется».
– Что же вы еще делаете? – продолжал он любопытствовать.
– Калаци стряпаем и квас творим.
– А едите что?
– Калаци с квасом, покамест бакца поспееть.
– А потом бахчу?
– Бакцу.
– Умеренно, нечего сказать. – И он замолчал размышляя:
«Какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из города лук получают и…» – он не додумал этой тирады; ямщик прервал ее, сказавши, что лошади отдохнули.
Пока возница затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилась и, расстилаясь по улице, застлала и ворота и стоящую у ворот молодку…
До станицы Островной проезжий только любовался окрестностями Урала. Но, подъезжая к Островной, он вместо серой, обнаженной станицы увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил у ямщика:
– Здесь тоже казаки живут?
– Тоже казаки, – отвечал возница, – только что хохлы.
Проезжий легонько вздрогнул Его глазам действительно представилась настоящая украинская слобода. Те же зеленые вербы, те же беленькие, в зелени хаты и та же девочка в плахте и с полевыми цветами гонит корову.
«Он заплакал при взгляде на картину, так живо напомнившую ему его прекрасную родину», – говорит Шевченко.
С перевала Губерлинских гор открылся путникам вид на широкую, окаймленную вдали горами пустыню, миновав станцию Подгорную, они снова поднимались часа два на плоскую возвышенность.
«Спустя минуту после тягостного впечатления я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное красно-бурою лентою.
– А вот и Орская белеет, – сказал ямщик как бы про себя.
– Так вот она, знаменитая Орская крепость! – почти проговорил я, и мне сделалося грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастие ожидало в этой крепости. А страшная пустыня, ее окружающая, казалася мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо…»
XI. ОРСКАЯ КРЕПОСТЬ
Жителю не только Москвы, Киева или Ленинграда, но и нынешнего Орска трудно представить себе, чем была Орская крепость сто лет тому назад, во времена Шевченко. Вот как описывает Юлиан Ясенчик Орск того времени:
«У подножия горы, где река Орь впадает в Урал, рассыпались деревянные домики, по большей части выстроенные татарским способом, с окнами во двор… Главная улица крепости по левой стороне застроена казармами 5-то батальона; с правой – тюрьма арестантской рабочей команды, казармы инженерных и артиллерийских частей».
Довольно обширная территория, окруженная невысоким валом и ограниченная с трех сторон канавой в сажень шириной, а с четвертой примыкающая к реке Урал, и составляла собственно крепость, это «диво фортификации», как иронически отозвался о ней Шевченко.
Батальонные казармы – длинное, низенькое бревенчатое строение с небольшими квадратными окошками – одним своим концом примыкали к деревянному сараю, называвшемуся «экзерцисгауз», а другим выходили на площадь с новой каменной церковью, окруженною маленькими деревянными домишками.
Комендантом Орской крепости был старик Исаев, генерал-майор, с которым Шевченко вскоре же близко познакомился при помощи ссыльного польского революционера Фишера, обучавшего детей Исаева Благодаря Исаеву Шевченко получил разрешение жить не в общей казарме, а в наемной квартире, представлявшей, правда, жалкую лачугу.
Из Орска поэт мог более или менее подробно писать друзьям об условиях своей жизни. Вот, например, одно из его первых писем к Варваре Репниной, начинающееся строчками из поэмы Рылеева «Войнаровский», читанной, очевидно, вместе с «ею в зимние яготинские вечера»
«30 мая мне прочитали конфирмацию, и я был уже не учитель Киевского университета, а рядовой солдат Оренбургского линейного гарнизона!
И теперь прозябаю в Киргизской степи, в бедной Орской крепости. Вы непременно рассмеялись бы, если б увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата, растрепанного, небритого, с чудовищными усами, – и это буду я. Смешно, а слезы катятся… И при всем этом горе мне строжайше запрещено рисовать что бы то ни было и писать (окроме писем). А здесь так много нового, киргизы88
В то время «киргизами», или «киргиз-кайсаками», именовались казахи
[Закрыть] так живописны, так оригинальны и наивны: сами просятся под карандаш; и я одуреваю, когда смотрю на них… Иногда степь оживляется бухарским на верблюдах караваном, как волны моря, зыблющим вдали…
Я иногда выхожу за крепость, к Караван-сараю, или Меновому Двору, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой стройный народ! Какие прекрасные головы! (Чистое кавказское племя.) И постоянная важность, без малейшей гордости. Если бы мне можно рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков… А смотреть и не рисовать, это такая мука, которую поймет один только истинный художник…»
И Андрею Ивановичу Лизогубу Шевченко писал в это же время «Брожу над Уралом да… нет, не плачу, а что-то еще хуже творится со мною!»
Но, несмотря на «высочайшее» и «строжайшее» запрещение, Шевченко продолжает и рисовать и писать стихи..
В первую же зиму он получает от Лизогуба полный набор акварельных красок, запас хорошей бумаги, чистые «аглицкие альбомы», рисовальные карандаши и даже «кисти Шариона» (лучшей парижской фирмы).
Посылка была переслана Шевченко при посредстве Федора Лазаревского и его сослуживца Александрийского – попечителя прилинейных киргизов. Михаил Семенович Александрийский, которому о Шевченко написал из Оренбурга Лазаревский, близко сошелся с ссыльным поэтом; на его имя Шевченко во время своего пребывания в Орске получал корреспонденцию, посылки с книгами и рисовальными принадлежностями. Врач по образованию, Александрийский служил по ведомству министерства иностранных дел, в так называемой Пограничной комиссии.
– Несмотря на свои сорок лет, это был лучший представитель молодого поколения сороковых годов, – рассказывает о нем Федор Лазаревский.
Именно Александрийский сообщал Тарасу Шевченко, уже находившемуся тогда на Аральском море, о событиях революции 1848 года в Европе. 16 августа он писал поэту
«Новостей много, очень много. Но так как они отнюдь не орские, а политические, и вдобавок европейские, а не российские только, то излагать их со всеми подробностями я не берусь Скажу, однако ж, главную тему их: хочется лучшего!.. Это старая песня, современная и человеку, и человечеству, – только поется на новый лад с аккомпанементом двадцатичетырехфунтового калибра!..»
Очевидно, это был отзвук обычных тем, на которые велись у Шевченко беседы с Александрийским и которые волновали их обоих.
В Орской крепости начал Шевченко «мережати» (буквально – плести мелкие, тонкие кружева) свои знаменитые «захалявные» (то есть спрятанные «за халявой» – за голенищем) книжечки стихов
Это были крошечные тетрадочки (они сохранились)- их формат – десять на шесть сантиметров, вчетверо сложенный маленький листок почтовой бумаги; каждая страничка аккуратно обведена рамочкой и исписана пером чрезвычайно густо мельчайшими, как бисер, буквами. Поэт носил их за голенищем своих солдатских сапог
Думы мои, думы мои,
Вы мои родные!
Хоть вы меня не оставьте
В эти годы злые, —
писал Шевченко, открывая первую из своих «захалявных» книжек.
Это стихотворение, начинающееся не случайно точно так же, как то, которым некогда открывался его «Кобзарь», показывает, как зрело понимал Шевченко свои задачи народного поэта; он зовет свою «музу»:
Погулять в пустыне
С киргизами убогими.
Хоть они убоги,
Хоть и голы…
Он ясно сознает свое призвание, еще в пору «Трех лет» выраженное в стихотворении «Гоголю»: будить поэтическим словом любовь и сострадание к порабощенному, угнетенному люду; он утверждает себя сторонником «гоголевской школы» в литературе, как ее позднее назвал Чернышевский, то есть школы критического реализма, острого социального разоблачения.
От ранней национальной романтики в произведениях Шевченко теперь не остается и следа.
Свою любовь к Украине он объединяет с глубокой симпатией ко всем угнетенным народам («на что уж худо за Уралом киргизам бедным…»); с сочувствием говорит про «батька Богдана», воссоединившего Украину с Россией на Переяславской раде.
И в далекой ссылке Шевченко совсем не в розовом свете рисует себе Украину. С искренней болью говорит он о проведенных на родине годах:
Не греет солнце на чужбине,
А дома слишком уж пекло.
Мне было очень тяжело
И там – на славной Украине:
Любви и ласки я не знал,
И ни к кому я не клонился,
Бродил, тихонечко молился,
Панов-злодеев проклинал…
И на Украйне нашей люди
Как на чужбине! Как везде!
Шевченко не устает повторять, что его «земляки», украинские паны-помещики, – лютые враги украинского народа.
В поэме «Княжна» он создает образ лицемерного «пана-либерала»:
Село! Пришел конец кручине..
Село на нашей Украине —
Пестрее писанки село,
Зеленой рощей поросло,
Цветут сады, белеют хаты,
А на горе стоят палаты,
Как диво дивное; кругом
Кудрявых тополей вершины;
А там и лес, – леса, долины.
Холмы синеют за Днепром.
Сам бог витает над селом
Село! Село! Веселье в хатах!
Веселье, издали, в палатах —
Чтоб вы бурьяном поросли!
Чтоб люди следу не нашли,
Чтоб не искали вас, проклятых…
Гуляет князь, гуляют паны…
По селам мужики кряхтят..
Приказный шлет молитву богу..
Гуляки, знай себе, кричат!
– И патриот и брат убогих!
Наш славный князь! Виват! Виват! —
А патриот, убогих брат…
И дочь и телку отнимает
У мужика, – и бог не знает…
А может, знает, да молчит.
Удрученный тоской, почти лишенный книг и общения с людьми (особенно в первое время пребывания на берегах Урала), поэт не впадает в отчаяние.
Ни тени религиозной мистики не найдем мы в его стихах: первые корреспонденты Шевченко в его ссылке – и Лизогуб и княжна Репнина – густо насыщали свои письма к поэту религиозными мотивами смирения и покорности судьбе: «молюсь господу, чтобы он поддержал Вас, чтобы дал и силу, и волю нести крест, ниспосланный Вам, без жалоб на бога и на людей, а с любовью к наказанию, которому Вы подвергаетесь. Если виноват – терпи, что бог послал, и благодари господа; если кажется, что и не виноват, а бог карает, – все-таки благодари господа, писано бо, кого люблю, того и караю…» – писал в каждом своем письме Лизогуб; «предайтесь Вашей настоящей обязанности как можно усерднее, облагораживайте ее примерной исправностию, видя в ней испытание, посланное Вам самим богом для очищения души Вашей, воспитывайте ее, очищайте молитвою… Есть ли у Вас евангелие?» – наставляла поэта княжна; а сам Шевченко как раз в это время неоднократно и настойчиво выражает свои атеистические взгляды, свое презрение к поповщине.
В первые месяцы ссылки, не имея книг, Шевченко внимательно изучает оставленную ему при аресте библию. Но не мистическое настроение и не дух «долготерпения» черпает поэт в священном писании; на основе библейских преданий и легенд он создает свою блестящую сатиру «Цари», в которой «кроткий Давид» глаголет языком всероссийских самодержцев – царя Николая I и жандарма генерал-лейтенанта Дубельта:
«Я. Мы повелим!
Я царь над всем народом божьим!
И сам я бог моей земли I Я – всё!.»
И царь сказал, чтобы в покои
Рабы рабыню привели..
Давид, святой пророк и царь,
Не слишком был благочестивый
И – как закономерный вывод:
Чтоб палачи их покарали, —
Царей – проклятых палачей!
Нет, не смирение, а ненависть, страстный протест растет в душе поэта, который в первые же дни своей тяжкой солдатчины гордо восклицал: «Караюсь, мучаюсь я… но не каюсь!»
В конце 1847 года умер хорошо относившийся к поэту генерал-майор Исаев; в это же время у Шевченко были обнаружены рисунки политического содержания. Его снова перевели на казарменное положение, запретив жить на частной квартире. В декабре Шевченко сообщил об этой очередной неприятности Михаилу Лазаревскому в Петербург:
«Я прозябал себе хотя и в жалкой, но все же вольной лачуге, гак видите ли, чтобы я не изобразил (ведь мне рисовать запрещено) своих бедствий (углем на печи), – так и сочли за благо перевести меня в казармы. К табаку, смраду и крику стал я понемногу привыкать, да здесь настигла меня цинга лютая… Если бы все го рассказать, что я терплю нынче по любви и милости милосердного бога, так и за неделю не рассказал бы».
Варваре Репниной Шевченко поведал о своей жизни в николаевской казарме: «Товарищи-солдаты кончили ученье, начались рассказы – кого били, кого обещались бить; шум, крик, балалайка выгнали меня из казарм, я пошел на квартиру к офицеру (меня, спасибо им, все принимают как товарища)… И вообразите мою муку: хуже казарм, а эти люди (да простит им бог) с большой претензией на образованность и знание приличий… Боже мой! Неужели и мне суждено быть таким? Страшно! Пишите ко мне и присылайте книги».
И дальше: «Теперь самое тихое и удобное время– одиннадцатый час ночи: все спит, казармы освещены одной свечкой, около которой только я один сижу и кончаю нескладное письмо мое; не правда ли, картина во вкусе Рембрандта?»
Очень тяжелым человеком оказался майор Мешков, командовавший 5-м батальоном в Орске. Он сразу невзлюбил Шевченко – и за его непокорный характер, и за то, что Шевченко не умел и не любил никому кланяться и угождать, и даже за то, что почти все порядочные люди его любили и всячески старались ему помочь.
Несколько раз сидел Шевченко из-за Мешкова на гауптвахте. Один раз за то, что появился на улице в белых замшевых перчатках (это, конечно, разрешалось только офицерам, а никак не рядовым солдатам!). В другой раз при встрече на улице с Мешковым Шевченко снял перед ним фуражку правой рукой. Батальонный командир подозвал к себе провинившегося солдата и стал ему вычитывать:
– А вы еще благородным человеком называетесь! Не знаете, какой рукой нужно снимать фуражку перед начальством!







