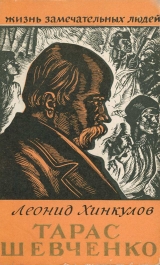
Текст книги "Тарас Шевченко"
Автор книги: Леонид Хинкулов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Или другой, еще более выразительный рисунок – «Государственный кулак». Те, же дети-байгуши под раскрытым окном дома, из которого вместо ожидаемой милостыни высунулся огромный, грозящий малышам кулак; «а этот красноречивый кулак даже лежащая рядом собачонка взирает с любопытством и опаской…
Сохранились рисунки серии «Притча о блудном сыне»; акварели «Казахский мальчик играет с кошкой», «Казахская девушка Катя», сепия «Казарма». Дошли до нас некоторые портреты, в том числе Ираклия и Агаты Усковых. Не дошли опыты Шевченко в скульптуре: слишком хрупкими были материалы (глина, алебастр), из которых изготовлял он свои фигурки.
Одна из этих групп, рассказывает Косарев, изображала следующую сцену. «Стоит в летнее время раскрытая киргизская кибитка, в которой у задней стены лежит киргиз с открытым ртом и довольной физиономией, играя на домре (род русской балалайки), сам полунагой, и на голове надет кошмяной колпак. Снаружи против «его у дверей стоит жена с улыбающейся к нему физиономией, толчет в деревянной ступе просо; она, как видно, одета в рубашку, и на голове чаблук. Около нее сидят на земле двое играющих нагих маленьких детей – мальчиков; с правой стороны кибитки привязан теленок, а с левой три козы».
…Последнее десятилетие до своих ста лет доживает Тобакаяк Мамбетов, старый чабан с Мангышлака. Но глаза у него зоркие, и память у него светлая: он помнит все песни, сказки, легенды, что слышал за свою долгую жизнь.
И помнит он, как отец рассказывал: много-много лет тому назад, когда совсем маленьким был Тобакаяк, загнали царские собаки на Мангышлак чудесного акына, ученого человека, искусного живописца.
– Болеет он за долю бедных людей, ходит к ним в жилища, дает им деньги, – рассказывали казахи. – Для «его все люди – это люди, и бедные, и богатые, казахи и русские – все для него равны. А зовут его Таразиакын, потому что он справедлив, как весы («терезы»),
И еще говорили об акыне так:
– Начальники стерегут его, чтобы не доходили к людям его правдивые песни; песен Тарази боится сам русский царь. Запрещают ему также рисовать, потому что, когда рисует Тарази людей, они становятся живыми, и царь боится и его рисунков тоже…
Тобакаяк Мамбетов вспоминает, что однажды пришли в гости к акыну Тарази девятнадцать казахов из самых глухих аулов. Они гостили у мудрого и отважного акына несколько дней, и тот делился с ними всем, что у него было, и приглашал их еще приезжать к нему в гости вместе с женами, с детьми, А на прощание Тарази сказал казахам:
– Верьте, что когда-нибудь и для бедных настанет счастливая пора, все люди, кто только трудится, казах ли он или русский, – все будут жить свободно и весело.
Долго, очень долго помнили бедняки-казахи эти слова. Потом они узнали, что жил с ними на Мангышлаке великий украинский акын Тарас Шевченко, мудрый, смелый и справедливый друг всех трудящихся, всех народов.
И на пустынном Мангышлаке из посаженной акыном Тарасом свежей зеленой ветви разросся густой и благодатный сад, который называют садом Шевченко…
Часть третья
ШТУРМАНЫ БУРИ

XVIII. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Это было накануне больших событий. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Народ русский собственной грудью защищал родную землю. При одной только обороне города русской славы Севастополя было потеряно убитыми и ранеными более ста тысяч человек. И все же в Крымской войне, как писал Энгельс, «царизм потерпел жалкое крушение… он скомпрометировал Россию перед всем миром и вместе с тем самого себя – перед Россией. Наступило небывалое отрезвление».
Крепостное крестьянство, неорганизованное и неграмотное, стихийно поднималось на борьбу против феодалов-помещиков, против царской чиновничье-по-лицейской системы угнетения. Число крестьянских восстаний к середине пятидесятых годов резко возросло по всей России.
Под влиянием растущего недовольства широких народных масс в России выдвинулась когорта славных глашатаев революционно-демократической идеологии.
Со страниц «Современника» зазвучала могучая революционная проповедь Чернышевского и Добролюбова. Из основанной еще в 1852 году в Лондоне Герценом первой в истории России «Вольной русской типографии» летом 1855 года начали выходить ежегодные сборники «Полярной звезды», а 1 июля (19 июня) 1857 года вышел № 1 «Колокола» – первой бесцензурной русской газеты. Рабье молчание, говорит Ленин, было нарушено.
«Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению разночинцев…». По всей России распространялись нелегальные издания Герцена и Огарева; усиливались студенческие волнения; начали появляться первые революционные прокламации; все это, в обстановке непрерывно растущего крестьянского движения, говорило о том, что в России к концу 50-х годов сложилась революционная ситуация, то есть, как указывал Ленин, «при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание – опасностью весьма серьезной».
В феврале 1855 года, в разгар Крымской войны, неожиданно умер «коронованный жандарм» Николай I. Упорно толковали о самоубийстве совершенно растерявшегося царя. Передавали также, что предсмертным его напутствием наследнику были слова:
– Сдаю тебе команду не в добром порядке…
Новый царь, Александр II, такой же крепостник и реакционер, как и его отец, тем не менее вынужден был дать политическую амнистию и из страха перед революцией пойти на отдельные робкие уступки.
Главным вопросом был вопрос крестьянский, вопрос о крепостном праве и о материальном положении крестьянства. В марте 1856 года Александр II (выступил перед московским дворянством и заявил, что он не имеет намерения отменить крепостное право немедленно, но что «лучше освободить крестьян сверху, нежели дожидаться, когда они сами себя освободят снизу».
На каторге, в тюрьмах, в далекой ссылке в это время томились сотни людей, сосланных еще в кровавое царствование Николая I. Но амнистия ссыльным давалась новым царем туго, с длительными проволочками и многочисленными ограничениями.
Даже остававшиеся еще в живых декабристы, проведшие в ссылке уже тридцать лет, получили по амнистии в августе 1856 года (в связи с коронацией Александра II) «высочайшее дозволение» возвратиться «с семействами из мест ссылки и жить, где пожелают», но только «за исключением обеих столиц»!
А положение Шевченко было особенно тяжело: над ним тяготело изуверское «запрещение писать и рисовать». Хотя формально ему дано было пресловутое «право выслуги» (то есть право получения унтер-офицерского чина), однако же на деле производство всякий раз упиралось в какую-то невидимую преграду, и это доводило его до исступления.
Еще летом 1854 года Новопетровское укрепление инспектировал начальник артиллерийских гарнизонов Оренбургского округа генерал-майор Фрейман. Любитель живописи, он сочувственно относился к Шевченко; поэт через генерала даже передавал свои и рисунки и скульптурные работы друзьям в Оренбург. Фрейман представил командиру корпуса Перовскому доклад о своевременности производства Шевченко в унтер-офицеры.
О докладе Фреймана Шевченко знал и, как он сам писал в апреле 1855 года Плещееву, «существовал этой бедной надеждою до конца марта текущего года». О том же сообщал поэт Брониславу Залескому: «Уведоми меня, принял ли В. А. Перовский представление Фреймана обо мне и пошло ли оно дальше? Если ты знаком с Фрейманом, то попроси его, пускай он тебе покажет мою «Ночь» акварелью…»
Однако батальонный командир Шевченко, майор Львов, на запрос корпусного начальства по поводу представления генерала Фреймана отвечал, что хотя Шевченко «в поведении и оказывает себя хорошим, но по фронтовому образованию слаб», а потому и не заслуживает производства в унтер-офицеры.
И вот вместо производства в конце марта 1855 года «почта, – рассказывает сам Шевченко, – привезла приказ майора Львова, чтобы взять меня в руки и к его приезду непременно сделать меня образцовым фронтовиком, а не то – я никогда не должен надеяться на облегчение моей участи…» (письмо к Плещееву).
«Настоящее горе так страшно потрясло меня, что я едва владел собою. Я до сих пор еще не могу прийти в себя…», – признавался поэт в письме к Залескому.
Долгое время оставались безуспешными и хлопоты друзей в Петербурге. Тотчас после смерти Николая I они снова усиленно стали добиваться освобождения поэта.
12 апреля 1855 года Шевченко написал письмо вице-президенту Академии художеств Ф. П. Толстому, хорошо его помнившему по прежним годам. Федор Толстой, увековеченный Пушкиным в «Евгении Онегине» («…Толстого кистью чудотворной…»), скульптор, рисовальщик и гравер, почетный член Флорентийской академии, был когда-то близок с декабристами. В следственных материалах о восстании 1825 года ему посвящены следующие строки: «По показанию Пестеля и других, Толстой был членом и председателем Коренной Думы и находился на совещании оной в 1820 году, где держал сторону республиканского правления».
Жена Толстого, Анастасия Ивановна, дочь бедного армейского офицера, дружески поддерживавшая поэта Никитина, и к судьбе Шевченко отнеслась с большим участием, стала ему писать в Новопетровск ободряющие письма.
Переговоры с Толстыми о помощи Шевченко вели многие: художники Алексей Чернышев и Николай Осипов, княжна Варвара Репнина и домашний учитель Толстых Старов, Писемский и Карл Бэр.
Михаил Лазаревский 7 августа 1856 года писал поэту из Петербурга: «Письмо твое к графу Федору Петровичу получено; но и кроме его добрые люди просили о тебе и получили обещание, которое, может быть, скоро и сбудется…»
А Бронислав Залеский 3 июля того же года сообщал Шевченко из Оренбурга: «На днях же, когда я был в Кочевке у Василия Алексеевича [Перовского], фрейлина Марии Николаевны 1616
Мария Николаевна (сестра Александра II) – после смерти мужа, президента Академии художеств, герцога Лейхтенбергского (в 1852 году) стала президентом и оставалась им до самой смерти в 1876 году
[Закрыть] графиня Толстая 1717
Александра Андреевна, тетка Льва Толстого и его хороший друг (сохранилась их обширная переписка), она была в близких отношениях с Перовским и посещала его на даче в Кочевке, недалеко от Оренбурга.
[Закрыть] расспрашивала меня с участием про тебя и сказала, что имеет из Петербурга поручение просить за тебя Василия Алексеевича, и прибавила, что он ей обещал… Она вчера уехала обратно в Петербург и, верно, там не забудет горестного твоего положения».
Известно, что Зигмунт Сераковский, часто бывавший в доме у Толстых и хлопотавший об освобождении из ссылки Шевченко, был уже в это время тесно связан с кружком «Современника» и лично с Чернышевским; через Сераковского Чернышевский и его друзья также принимали участие в этих хлопотах.
Александр II между тем собственноручно вычеркнул имя поэта из представленного ему списка амнистированных и лицемерно воскликнул:
– Этого я не могу простить, потому что он оскорбил мою мать! – Имелась в виду поэма «Сон», сатирически изображавшая царя и царицу. Таким образом, новый царь уже хорошо знал и о судьбе Шевченко и о его стихах – знал, ненавидел и боялся!..
Шли дни за днями, месяцы за месяцами; друзья обнадеживали изгнанника, сообщали ему, что освобождение приближается…
А Шевченко 18 июня 1857 года записывал с горечью в своем «Дневнике»:
«Как быстро и горячо исполняется приказание арестовать, так, напротив, вяло и холодно исполняется приказание освободить. А воля одного и того же лица. Исполнители одни и те же. Отчего же такая разница? В 1847 году в этом месяце меня на седьмые сутки доставили из Петербурга в Оренбург. А теперь дай бог на седьмой месяц получить от какого-нибудь батальонного командира приказание отобрать от меня казенные вещи и прекратить содержание. Форма, но я не возьму себе в толк этой бесчеловечной формы!»
Потребовалось действительно немало времени, пока тупая царская ненависть была, наконец, сломлена. Но и само долгожданное «помилование» оставляло для Шевченко очень мало свободы.
1 мая 1857 года было «высочайше повелено»: «Во внимание к ходатайству президента Академии художеств» рядового Шевченко «уволить от службы, с учреждением за ним там, где он будет жить, надзора, впредь до совершенного удостоверения в его благонадежности, с воспрещением ему въезда в обе столицы и жительства в них».
Напряженно ждал Шевченко приказа об увольнении.
«Я уложил свои пожитки, книги и прочее, купил полог от волжских комаров, сшил из шести листов бумаги тетрадь для путевого журнала и сел над морем ждать погоды, – писал он Михаилу Лазаревскому 1 июля, – да и поныне жду, мой друг единственный! И бог святой знает, когда я дождусь этой хорошей погоды! Полог уже у меня украли; тетрадь, заготовленную для дороги, всю до листика исписал «местными впечатлениями», а из Оренбурга ни слуха, ни духа…»
Когда же, наконец, в воскресенье, 21 июля, в 9 часов утра, почтовая лодка привезла долгожданное предписание – не только самому Шевченко, но я его ближайшему новопетровскому начальству остался неизвестен подлинный зловещий текст генерал-губернаторского приказа от 28 мая за № 543 (оставшийся в батальонном штабе в Уральске) о том, что «рядовой, бывший художник Тарас Шевченко уволен от службы, с воспрещением въезда в обе столицы и жительства в них, с тем, чтобы он имел жительство впредь до окончательного увольнения его на родину в г. Оренбурге».
Итак, Шевченко еще предстояло дожидаться окончательного увольнения, и, может быть, долгие годы. Так было позднее, мы знаем, с Чернышевским, которого сослали в Сибирь «на семь лет», а пробыл он в ссылке и почти в одиночном заключении двадцать пять лет…
Прав был поэтому Шевченко, когда, узнав о лицемерном царском «повелении», с гневом записал в своем «Дневнике»:
«Хороша свобода! Собака на привязи! Это, значит, не стоит благодарности, Ваше Величество…»
Но 21 июля поэт еще ничего этого не знал.
Трудно сказать, из каких соображений подполковник Михальский, батальонный командир Шевченко, местопребывание которого было в Уральске, в своем распоряжении командиру роты от 26 июня за № 1651 не сообщил ничего об условиях, сопровождавших отставку «бывшего художника», а ограничился предписанием явиться ему в Уральск, «с выключкою из списочного состояния».
Эта недомолвка дала повод майору Ускаву, коменданту Новопетровского укрепления, нарушить прямой смысл приказа батальонного начальства; он решился на собственный страх и риск выдать уволенному рядовому «билет» для проезда «без излишних издержек и потери – времени, – как объяснял впоследствии Усков, – ближайшею дорогою, через Астрахань, принимая во внимание, что отправление Шевченко к батальонному штабу в г. Уральск сделает ему разницу более тысячи верст лишних».
Итак, 1 августа 1857 года Шевченко был выдан отпускной «билет № 1403» следующего содержания:
«Предъявитель сего, служивший в Новопетрсвском укреплении линейного Оренбургского батальона № 1, рядовой из бывших художников Санкт-Петербургской академии художеств, Тарас Григорьев Шевченко, согласно предписания командира означенного батальона от 26 июня, за № 1651, последовавшего к заведывающему здесь двумя ротами того же батальона, а мне сообщенного в его рапорте от 29 июля, за № 535, по высочайшему повелению уволен от службы и ныне, по желанию его, отправлен на местожительство свое в г. Санкт-Петербург…»
Заручившись этим драгоценным документом, Шевченко не стал дожидаться прихода почтовой лодки; отказавшись и от «кормовых» и от «прогонных» денег, уговорился со своими друзьями-рыбака-ми Николаевской станицы, нанял у них простую рыбацкую шлюпку и в девять часов вечера 2 августа, задушевно распростившись с новопетровцами, подарив одному из «конфирмованных», Феликсу Фиалковскому, том сочинений Гоголя, отправился по Каспийскому морю в Астрахань…
Широкий морской простор, раскрывшийся перед поэтом и сверкавший под ослепительными лучами южного летнего солнца, не говорил ли ему, что впереди снова огромное поле деятельности, творчества, борьбы?..
Казалось, что впереди еще целая жизнь…
Солнце уже садилось, когда Шевченко в пять часов вечера 5 августа, к исходу третьего дня плавания на утлой рыбачьей ладье, приплыл в Астрахань.
«Все это так нечаянно и так быстро совершилось, что я едва верю совершившемуся», – записал он в этот день в «Дневнике».
Еще подходя к Бирючьей косе (главная застава на одном из многочисленных устьев Волжской дельты), он увидел сотни кораблей, и ему показалось, что проток Волги, на котором расположена Астрахань, по ширине и глубине не уступает Босфору… Воображению поэта уже рисовался прекрасный древний город, нечто вроде Венеции эпохи дожей.
Однако вскоре его взору представился довольно грязный, хотя и бойкий, торговый город, застроенный громадным количеством самых жалких лачуг с их до невероятия бедным населением; а над всем этим неприглядным ансамблем высился своими белыми зубчатыми стенами знаменитый Астраханский кремль, стройный, великолепный пятиглавый собор XVII столетия.
Внимание Шевченко привлек старинный Успенский собор, построенный крепостным зодчим Дорофеем Мякишевым. Осматривая сооружение с помощью соборного ключаря Гавриила Пальмова, Шевченко спросил:
– Кто был архитектором этого колоссального и прекрасного собора?
– Простой русский мужичок! – отвечал ключарь.
«Не мешало бы Константину Тону поучиться строить соборы у этого русского мужичка!» – подумал про себя поэт.
Зная о существовании книги казанского профессора Рыбушкина «Записки об Астрахани», изданной еще в 1841 году, Шевченко решил справиться о ней в городской публичной библиотеке.
Увы, в библиотеке, состоявшей из одной-единственной комнаты, кроме старого усатого библиотекаря, напоминавшего своим видом скорее всего полицейского чиновника, не было ничего интересного: ни читателей, ни книг. На полках валялись никем не читанные старые-престарые журналы, сочинения графа Хвостова и Карамзина да переводные романы Александра Дюма и Эжена Сю…
«Записки об Астрахани» оказались на руках у какого-то бухгалтера, к которому Тараса Григорьевича прямо и отослал библиотекарь. Впрочем, на следующий день библиотека оказалась вообще запертой – «вероятно, по случаю дождя и грязи», как догадался Шевченко.
А книжных магазинов (так же как и колбасных лавок) в Астрахани вообще не было.
«На человека, прозябавшего, как я, семь лет в нагой пустыне, всякий городишка должен бы был произвести приятное впечатление, – размышлял Шевченко. – Со мной случилось не так. Стало быть, я не совсем еще одичал. Это хорошо».
В Астрахани в то время не было даже гостиницы; Шевченко пришлось бы ночевать на улице, если бы он случайно не встретил прибывшего по служебным делам плац-адъютанта Новопетровского укрепления – прапорщика Льва Александровича Бурцева, своего хорошего приятеля, который тут же и пригласил поэта к себе на квартиру.
Вскоре выяснилось, что отплыть из Астрахани вверх по Волге не так-то просто: как раз в это время, в период Нижегородской (так называемой «Макарьевской») ярмарки, все пароходы находились 8 Нижнем Новгороде, и раньше чем через десять дней ни один не должен был прийти в Астрахань. Опять предстояло томительное ожидание. По счастью, рядом жил врач – некто Моравский. Он узнал фамилию Шевченко и рассказал затем товарищам-врачам, что в одном с ним доме поселился известный украинский поэт.
Астраханские врачи, ссыльные поляки Степан Незабытовский и Томаш Зброжек, оказались воспитанниками Киевского университета; с Киевщины был и их товарищ – доктор Чельцов; все они знали Шевченко; а преподаватель истории и географии в астраханской гимназии Иван Петрович Клопотовский, тоже окончивший Киевский университет, считал даже Шевченко своим «учителем», так как в 40-х годах слышал несколько лекций по теории живописи, прочитанных Тарасом Григорьевичем.
И вот в «Дневнику» Шевченко под 16 августа 1857 года появилась такая запись рукой Клопотовского: «…Встретил я в Астрахани старого моего бывшего профессора Киевского университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта, и встретил я его с величайшею радостью… как отца, как брата, как величайшего друга… Воспитанник Киевского университета Иван Клопотовский».
Клопотовский и Зброжек сообщили о приезде Шевченко молодому рыбопромышленнику-миллионеру Сапожиикову, знакомому Шевченко по Петербургу: будучи в то время, как вспоминает поэт, «шалуном-школьником в детской курточке», Сапожников брал у Шевченко (учившегося тогда в Академии художеств) уроки живописи.
Сапожникову, разумеется, льстило возобновление старого знакомства с поэтом, пользовавшимся теперь громкой славой. Астраханский богач пригласил Шевченко плыть вместе с ним в Нижний на отдельном пароходе.
На пароходе «Князь Пожарский», принадлежавшем пароходной компании «Меркурий», не было других пассажиров, кроме самого Сапожникова с женой и родственниками. Капитаном парохода оказался тоже старый знакомый Шевченко, большой любитель литературы и человек передовых взглядов – Владимир Васильевич Кишкин.
Это соблазнило поэта, тем более что пассажирских пароходов в ближайшее время не предвиделось. Заранее купленный в пароходстве проездной билет Шевченко отдал в пользу неимущих пассажиров и согласился ехать на «Князе Пожарском».
Плавание по Волге продолжалось целый месяц и доставило поэту много удовольствия.
На пароходе была приличная библиотека, в частности «все книги всех русских журналов за текущий год» (это Шевченко специально записывает в «Дневнике»!).
А у Кишкина, кроме того, имелась «заветная портфель», в которой он хранил всевозможные запрещенные произведения, начиная от декабристской «Полярной звезды» за 1824 и 1825 годы с отрывками из поэм Рылеева «Войнаровский» и «Наливайко» и кончая самыми последними творениями «подпольной музы», вроде стихотворения Петра Лаврова «Русскому народу», популярной в то время «Кающейся России» Хомякова, политических стихов Бенедиктова и даже новинок лондонской типографии Герцена и Огарева.
В этой «заветной портфели» нашлось, например, стихотворение Хомякова, звучавшее тогда очень злободневно:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна..
«Глубоко грустное это стихотворение» поэт даже переписал в свой дневник.
Шевченко искренне полюбил Кишкина – «поклонника родной обновленной поэзии» и всего «упруго-свежего, живого» в политической мысли.
Во время стоянки «Князя Пожарского» вблизи Симбирска на пароход пришел в гости капитан оказавшегося рядом парохода «Иван Сусанин», некий, как выяснилось, тверской помещик Возницын; он, между прочим, заговорил о том, что вскоре предстоит освобождение крестьян от крепостной зависимости.
«Он хотя и либерал, – записал Шевченко в «Дневнике», – но, как сам помещик, проговорил эту великолепную новость весьма не с удовольствием. Заметя сие филантропическое чувство в помещике Тверской губернии, я нашел лишним завести разговор с помещиком о столь щекотливом для него предмете. И, не разделив восторга, пробужденного этой великой новостью, я закутался в свой чапан и заснул сном праведника…»
Зато с каким сочувствием рассказывает поэт на тех же страницах своих записок о встречах и задушевных беседах со служащими на пароходе людьми из народа!
Как восхищают его рассказы «.несловоохотливого лоцмана» о Степане Разине, пугавшем и московского царя и персидского шаха, которых Шевченко тут же именует «открытыми большими грабителями». Проплывая мимо легендарного утеса Степана Разина, поэт записывает в «Дневнике» беседу с матросом и лоцманом:
«По словам того же рассказчика, Разин не был разбойником, а он только брандвахту держал и собирал пошлину с кораблей и раздавал ее неимущим людям. Коммунист, выходит». Слово «коммунизм», как видим, хорошо знакомо поэту.
Шевченко подолгу беседует с матросами, записывает от вахтенных бурлацкие поговорки, рассказы о местных событиях. Например, подъезжая уже к Нижнему, он занес в журнал:
«С рассветом «Князь Пожарский» поднял якорь, свистнул, фыркнул и весело захлопал своими огромными колесами. Хорошо! Берега быстро меняют свои контуры. Пролетаем мы мимо красивого по местоположению села Зименки, помещика Дадьянова, и замечательного по следующему происшествию. Прошедшего лета, когда поспело жито и пшеница, мужичков выгнали жать, а они, чтобы покончить барщину за один раз, зажгли его со всех концов, при благополучном ветре. Жаль, что яровое не поспело, а то и его бы за один раз покончили бы. Отрадное происшествие!»
Буфетчиком на «Князе Пожарском» был вольноотпущенный крестьянин Алексей Панфилович Панов. Этот «крепостной Паганини», как называет его Шевченко, обладал выдающимися музыкальными дарованиями.
Слушая чудесную игру на скрипке «своего возлюбленного виртуоза», поэт думал о том, сколько таланта, сколько творческих сил таится в народе и ждет только возможности, чтобы проявиться, чтобы завоевать себе заслуженное право на существование!
В «Дневнике» сохранилась записанная рукой народного музыканта скрипичная мелодия; скромный буфетчик самоучкой неплохо владел музыкальной грамотой.
С Алексеем Пановым связана и следующая запись:
«Ночи лунные, тихие, очаровательно поэтические ночи! Волга, как бесконечное зеркало, подернутая прозрачным туманом, мягко отражает в себе очаровательную, бледную красавицу-ночь и сонный, обрывистый берег, уставленный группами темных деревьев. Восхитительная, сладко успокоительная декорация!
И вся эта прелесть, вся эта зримая, немая гармония оглашается тихими, задушевными звуками скрипки. Три ночи сряду этот вольноотпущенный чудотворец возносит мою душу к творцу вечности – пленительными звуками своей лубочной Скрипицы: Он говорит, что на пароходе нельзя держать хороший инструмент, но и из этого, нехорошего, он извлекает волшебные звуки, в особенности в мазурках Шопена. Я никогда не наслушаюсь этих общеславянских, сердечно глубоко унылых песен.
Благодарю тебя, крепостной Паганини! Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный [друг]! Из твоей бедной скрипки вылетают стоны поруганной крепостной души и сливаются в один протяжный, мрачный, глубокий стон миллионов крепостных душ! Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до твоего свинцового уха, нащ праведный, неумолимый, неублажимый боже?..»
Даже музыка, которую поэт всегда так любил, не может отвлечь его от постоянной, настойчивой мысли о судьбах народа, о его страданиях.
«Под влиянием скорбных, вопиющих звуков этого бедного вольноотпущенника, – продолжает он свои размышления, – пароход в ночном погребальном покое мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем, с раскрытой огромной пастью, готовою проглотить помещиков-инквизиторов.
Великий Фультон! И великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное, гениальное дитя.
Мое пророчество несомненно. Молю только многотерпеливого господа умалить малую часть своего бездушного терпения. Молю его коснуться своим свинцовым ухом хоть одной полноты этого, душу раздирающего, вопля, вопля своих искренних, простосердечных молителей!»
Все эти вопросы так занимают Шевченко, что он даже за карандаш берется редко.
«Берега Волги от Царицына до Дубовки с часу на час делаются выше, живописнее, очаровательнее, – записывает он 28 августа. – И я не сделал еще ни одного очерка. Недосуг».
Но вот в руки Шевченко попал номер 163-й «старого знакомца» – газеты «Русский инвалид» со статьей «Новейшие сведения о действиях китайских инсургентов» – о знаменитом всенародном Тайпинском восстании в Китае:
«21 марта исполнилось четыре года от вступления последователей Гонг-Сиутсиуна 1818
Правильнее – Хун Сюцюань, известный китайский революционер, вождь Тайнинского восстания 1851–1864 годов.
[Закрыть] в [Нанкин]… Люди эти, несмотря на всевозможное противодействие, прошли войною через самые населенные страны, полосу более чем во сто немецких миль, справа и слева захватывая и удерживая за собою города… Богдыханцы напрягли величайшие усилия, чтобы удержать инсургентов, «о все было напрасно: Гонг и соправители его были непобедимы».
И дальше в той же статье: «Бог идет с нами, – говорил Гонг, – что же смогут против нас демоны? Мандарины эти – жирный убойный скот, годный только в жертву нашему небесному отцу…»
Выписав последнюю фразу, Шевченко восклицает с нетерпеливой надеждой:
«Скоро ли во всеуслышание можно будет сказать про русских бояр то же самое?'»
В этом чаянии близкого революционного восстания и краха царско-помещичьей России жили в это время все революционеры-демократы. Передавая впоследствии тогдашние настроения этого круга деятелей, Чернышевский в своем автобиографическом романе «Пролог» писал:
«В 1830 году буря прошумела только по Западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в последующий раз захватит Петербург и Москву…»
31 августа «Князь Пожарский» остановился у саратовской пристани. Шевченко воспользовался тем, что пароход простоял здесь почти целые сутки, и с полудня до часу ночи провел у жившей в Саратове матери Костомарова – старушки Татьяны Петровны.
Когда Шевченко вошел к ней и произнес первые слова приветствия, Татьяна Петровна тотчас узнала его по голосу:
– Тарас Григорьевич…
Но, взглянув на гостя, старушка заколебалась: нет, она ошиблась, неужели этот лысый бородатый старик с печальными глазами – Шевченко?.. Они виделись всего десять лет тому назад, и тогда это был молодой человек с густыми каштановыми кудрями, горячим, живым взглядом выразительных, смеющихся глаз.
Шевченко убедил Татьяну Петровну, что это все-таки именно он, – и Костомарова обняла его и долго плакала, целуя Тараса Григорьевича в голову. «И боже мой, чего мы с «ей не вспомнили, о чем мы с ней не переговорили. Она мне показывала письма своего Николаши из-за границы и лепестки фиалок, присланные ей сыном из Стокгольма от 30 мая. Это число напомнило нам роковое 30 мая 1847 года, и мы как дети зарыдали»
И не почувствовал ли в этот момент Шевченко, состарившийся в тяжкой солдатчине, как далеко разошлись дороги его и Костомарова, спокойно совершавшего сейчас научно-развлекательное турне по Швеции, Германии, Франции, Швейцарии, Италии?..
На следующий день после отплытия из Саратова в капитанской каюте рано утром собралось небольшое общество «Князя Пожарского».
Шевченко, как всегда, стремился свести обычные обывательские пересуды на литературные темы. Он предложил Сапожникову прочитать вслух перевод Бенедиктова из Барбье – «Собачий пир». Сапожников с пафосом читал:
Когда взошла заря и страшный день багровый,
Народный день настал,
Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый
По улицам хлестал,
Когда Париж взревел, когда народ воспрянул
И малый стал велик,
Когда в ответ на гул старинных пушек грянул
Свободы звучный клик!
Перевод Бенедиктова имелся у капитана Кишкина в рукописной копии (в России, конечно, он не мог быть напечатан!), а в библиотеке Сапожникова нашлось старое французское издание «Ямбов» Барбье, и собравшиеся решили сравнить перевод с оригиналом. Французский текст тут же был прочитан вслух, и вое единогласно решили, что перевод выше подлинника; с этим согласился и Шевченко, неплохо еще с молодых лет знавший французский язык







