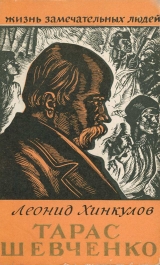
Текст книги "Тарас Шевченко"
Автор книги: Леонид Хинкулов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Тарас Григорьевич был неразговорчив, однако в обществе его присутствие было заметно; хотя он и казался нелюдимым и как-то сосредоточенным в себе, ему все симпатизировали, его уважали.
Савичев заметил, что особенно любили Шевченко солдаты. С некоторыми, проявлявшими к этому охоту, Шевченко тайком занимался грамотой, читал им книга.
На последней прогулке поэт был очень задумчив. Они сидели молча на громадных камнях под высокой скалой, со стороны моря. Доносился издали шелест волн, набегавших на песчаную отмель. С темного неба спокойно смотрел двурогий месяц.
После долгого молчания Шевченко стал тихо, будто про себя, читать стихи на украинском языке, – очевидно собственные, замечает в своих воспоминаниях Савичев. Содержания стихов он не запомнил, но в них говорилось что-то о море, о волнах, о тучах…
Мы теперь не знаем, были ли это прежние стихи, написанные им еще на Арале, или новые, сочиненные уже в крепости над Каспием; но мы знаем – без стихов Шевченко не мог жить ни одного дня!
Обращаясь впоследствии к своей музе, поэт вспоминал:
Мой друг, волшебница моя!
Ты мне повсюду помогала,
Заботой нежной окружала.
В степи безлюдной и немой,
В далекой неволе
Ты сияла, красовалась,
Как цветок средь поля!
В конце апреля, с открытием навигации, на смену умершему в начале 1853 года Маевскому прибыл новый комендант, майор Усков Ираклий Александрович, бывший адъютант командира корпуса; в Оренбурге он жил в одном доме с Федором Лазаревским и, может быть, еще там встречался с Шевченко.
Тотчас по приезде в Новопетровск Усков принялся облегчать существование Шевченко: его освободили от нарядов (в 1852 году, по данным «караульной книги», поэт отбыл 63 караула, наравне со всеми нижними чинами укрепления), разрешили отлучки из укрепления; и Шевченко теперь часто ночевал не в казарме.
Ираклий Усков, его жена Агата Емельяновна очень скрашивали последнее пятилетие жизни Шевченко в Новопетровске.
Поэт скоро стал у них в доме своим человеком, привязавшись особенно к детям, которых всегда любил и очень располагал к себе. «Я так люблю детей!» – восклицает поэт в одном письме к Залескому.
Вскоре после приезда Усковых в Новопетровск они потеряли сына, и вот как горячо писал об этом Шевченко Казачковскому:
«Недавно прибывший к нам комендант привез с собою жену и одно дитя, по третьему году, милое, прекрасное дитя (а все, что прекрасно в природе, как вьюнок вьется около нашего сердца). Я полюбил это прекрасное дитя, а оно, бедное, так привязалось ко мне, что, бывало, и во сне звало к себе «лысого дяду» (я теперь совершенно лысый и сивый). И что же? Оно, бедное, захворало, долго томилося и умерло. Мне жаль моего маленького друга, я тоскую, а иногда приношу цветы на его очень раннюю могилу и плачу, я, чужой ему. А что делает отец его и особенно – мать? Бедная! Горестная мать, утратившая своего первенца!»
Может быть, именно эта печальная утрата и сблизила так быстро Шевченко с Усковыми. Через несколько месяцев у Усковых родилась дочь Наталья. Поэт постоянно развлекал ребенка, пел песни, то грустные, заставлявшие сжиматься сердце, то веселые. И несказанно полюбила Наташенька своего дядю – Горича, как она его называла.
– Истый Тарас Горич, мое серденько, моя ясочка! – приговаривал Шевченко, целуя ее.
Тарас Григорьевич привязался и к матери. Он склонен был даже идеализировать Агату Ускову. Он часто писал о ней Залескому:
«Эта прекраснейшая женщина для меня есть истинная благодать божия. Это одно-единственное существо, с которым я увлекаюсь иногда даже до поэзии. Следовательно, я более или менее счастлив; можно сказать, что я совершенно счастлив; да и может ли быть иначе в присутствии высоконравственной и физически прекрасной Женщины?»
«Какое чудное, дивное создание непорочная женщина! Это самый блестящий перл в венце созданий. Если бы не это одно-единственное, родственное моему сердцу, я не знал бы, что с собою делать. Я полюбил ее возвышенно, чисто, всем сердцем и всей благодарной моей душою. Не допускай, друже мой, и тени чего-либо порочного в непорочной любви моей».
Ускова в воспоминаниях о Шевченко так передает свое впечатление от знакомства с поэтом: «Лицо открытое, добродушное; движения медленные, голос приятный; говорил прекрасно, плавно, особенно хорошо читал вслух. Бывало, в длинные зимние вечера он принесет журнал и выберет, что ему по вкусу, и начинает читать; если же вещь ему особенно нравится, то он откладывает книгу, встанет, ходит, рассуждает; затем опять возьмется за книгу. Стихи же, которые ему очень нравились, он выучивал и дня по три декламировал».
Дальше Агата Ускова рассказывает: «Шевченко часто гулял со мною; я была рада такому собеседнику; так как Шевченко был очень развитой человек, с прекрасной памятью, то темы для разговоров во время прогулок были очень разнообразны: они вызывались каждым предметом или явлением, на который почему-либо обращалось внимание во время прогулки. Благодаря этому разговоры с ним всегда были далеки от местных сплетен и доставляли большое удовольствие».
Шевченко сохранил добрые отношения с Усковыми до конца своего пребывания в Новопетровске, и переписка с ними уже после его отъезда из укрепления свидетельствует о глубоком взаимном уважении и симпатии.
Несмотря на удаленность Новопетровского укрепления от всего цивилизованного мира, сюда несколько раз за время пребывания Шевченко приезжали люди, с которыми поэт мог отвести душу.
Понятно, что каждый живой вестник живого мира, попадавший в Новопетровск, вызывал у ссыльного поэта волну впечатлений.
Так, осенью 1852 года побывал на Мангышлаке молодой естественник Адриан Головачев.
«Нынешнюю осень, – сообщал Шевченко Бодянскому, – посетил наше укрепление некто г. Головачев, кандидат Московского университета, товарищ известного Карелина и член общества Московского естествоиспытателей. Я с ним провел один только вечер, то есть несколько часов, самых прекрасных часов, каких я уже давно не знаю. Мы с ним говорили, говорили, и, боже мой, о чем мы с ним не переговорили! Он сообщил мне все, что есть нового и хорошего в литературе, на сцене и вообще в искусстве…»
Возвратившийся в Москву Адриан Головачев пересылал Шевченко книги (в частности, по поручению Бодянского).
Несколько раз в 1852–1856 годах побывал в Новопетровске с научно-исследовательской экспедицией знаменитый русский натуралист академик Карл Максимович Бэр, основатель современной эмбриологии. Его сопровождал Николай Данилевский; Шевченко сообщает Залескому в ноябре 1854 года:
«Писал тебе о Данилевском, что он прогостил у нас около двух месяцев; в продолжение этого времени я с ним сблизился до самой искренней дружбы. Он недавно уехал в Астрахань, и я, проводивши его, чуть не одурел. В первый раз в жизни моей я испытую такое страшное чувство. Никогда одиночество не казалося мне таким мрачным, как теперь!.. Ты говоришь, что ты сроднился в своем углу с безотрадным одиночеством; я сам то же думал, пока не показался в моей тюрьме широкой – человек! Человек умный и благородный, в широком смысле этого слова; и показался для того только, чтобы встревожить мою дремавшую бедную душу; все же я ему благодарен, и благодарен глубоко».
Бэр, возвратившись в Петербург, хлопотал об освобождении Шевченко. А через его камердинера – Петра, с которым Шевченко подружился, поэт передавал почту друзьям в Петербург.
Познакомился Шевченко осенью 1854 года с приезжавшим на Мангышлак выдающимся путешественником Семеновым-Тян-Шанским, передал через него письма друзьям. Впоследствии в выходившем под его редакцией знаменитом многотомном труде «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» Семенов-Тян-Шанский упоминал о Шевченко.
Вместе с очередной экспедицией Бэра в Новопетровск в 1856 году приезжал Алексей Феофилактович Писемский, в то время уже известный писатель. С Шевченко они провели несколько вечеров, и Писемский затем писал поэту:
«Душевно рад, что мое свидание с Вами доставило Вам хоть маленькое развлечение… Не знаю, говорил ли я Вам, по крайней мере, окажу теперь.
Я видел на одном вечере человек двадцать Ваших земляков, которые, читая Ваши стихотворения, плакали от восторга и произносили Ваше имя с благоговением. Я сам писатель и больше этой заочной чести не желал бы другой славы и известности, и да послужит все это утешением в Вашей безотрадной жизни! Все Ваши поручения – ив Москве к Бодянскому, и в Петербурге к Костомарову – исполню в точности. С прошлой почтой писал к графине Толстой, виделся с Бэром. Добрый старик говорит, что по этой почте будет непременно писать к графу (Перовскому? – Л. X.), а теперь самое удобное время: в августе должна быть коронация».
Семилетний период ссылки поэта – новопетровский период – остается одним из наименее изученных.
Материалы здесь приходится собирать буквально по крохам. Большинство писем пропало, воспоминания не сохранились или не были в свое время написаны…
XVII. НЕГАСНУЩИЙ ПЛАМЕНЬ
Много сомнений вызывал у шевченковедов вопрос: имел ли поэт возможность читать в этот период новые книги, журналы?
Шевченко сам нередко писал из Новопетровска о своей тоске по печатному слову.
«Шестой год, – заявляет поэт 15 ноября 1852 года в письме к Бодянскому, – как не пишу никому ни слова… Со времени моего изгнания я ни одной буквы не прочитал о нашей бедной Малороссии. Во всем укреплении только один лекарь выписывает кой-что литературное, а прочие как будто и грамоты не знают; так у «его, у лекаря, когда выпросишь что-нибудь, так только и прочитаешь, а то хоть сядь та й плачь».
«Шесть лет уже прошло, – подтверждает Шевченко в письме к Гулак-Артемовскому 15 июня 1853 года, – как я мучуся без карандаша и красок».
И уже к концу своей ссылки, в 1857 году, словно подводя итоги, Шевченко снова несколько раз пишет знакомым в Петербург, в Москву:
«Десятый год не пишу, не рисую и не читаю навіть нічого…»
Все эти категорические утверждения были продиктованы тем, что письма Шевченко почти всегда подвергались просмотру начальства, и, наученный горьким опытом оренбургского ареста, поэт остерегался сообщать хоть что-нибудь о своих литературных занятиях.
А вот, например, в письме к Брониславу Залескому, переданном в Оренбург с «верной оказией», Шевченко 9 октября 1854 года откровенно рассказывает:
«Милого Богдана 3[алеского] я получил с сердечною благодарностию и теперь с ним не разлучаюсь; многие пьесы наизусть уже читаю… Переводы [Антонина] Совы так прекрасны, как и его оригинальная поэзия… Плещеева перевод, хотя и передает идею верно, но хотелось бы изящнее стиха, хотелось бы, чтобы стих легче и глубже ложился в сердце, как это делается у Совы… Ты мне обещал еще том Б[огдана] 3[алеского]…
Я здесь, по милости Никольского], читаю постоянно новины русской литературы и прочитал биографию Гоголя, которую ты мне рекомендуешь [сочинения Кулиша]. Она заинтересовала меня, как и тебя, письмами и документами, но как биография она не полна…
Сигизмунд [Сераковский] прислал мне шесть карандашей Фабера № 2… Не забудь, что карандаши мои в кармане пальто, там же в кармане есть еще две гравировальные иглы и два куска черного лаку для натирания медной доски; их тоже пришли».
Это письмо рисует совершенно иную картину: Шевченко полон деятельности, много читает, рисует, занимается гравированием.
Даже в далеком Новопетровске Шевченко следил за литературой и искусством, за общественными и политическими событиями.
Постоянно читал официальную газету военного ведомства «Русский инвалид»; в ней наряду с правительственными сообщениями помещалась информация о политической и культурной жизни, и даже «фельетон», то есть поэтические и прозаические произведения (обычно перепечатки из других газет и журналов).
Булгаринская «Северная пчела» тоже систематически получалась в Новопетровске (газета имела правительственную «рекомендацию» и выписывалась почти всеми официальными учреждениями). Этот орган в те времена имел монополию на сообщения из международной жизни.
Мы знаем, что комендант Усков выписывал в 1856 году журнал «Библиотека для чтения», и Шевченко читал здесь переводы Василия Курочкина из Беранже. Здесь же в 1856 году (ноябрьская книжка) был помещен первый русский перевод стихотворения Шевченко («Для чего мне черны брови»), сделанный Гербелем и опубликованный под заглавием «Дума (с малороссийского)», без указания имени Шевченко.
Поэт обратил внимание на этот перевод и писал весной 1857 года Андрею Маркевичу, сыну историка: «Не встретишься ли ты случайно с Гербелем?.. Поблагодари его за перевод малороссийской «Думы», напечатанный в «Библиотеке для чтения».
В декабрьской книжке того же журнала и за тот же год Шевченко читал рассказ Льва Толстого «Встреча в отряде с московским знакомым» («Разжалованный»), Он давно интересовался произведениями Толстого. Еще в мае 1856 года писал в Петербург художнику Осипову:
«С повестями и рассказами Толстого я совершенно не знаком. Ежели будет возможность, познакомьте меня с ними, во имя благородного искусства».
Вполне возможно, что именно Осипов, выполняя просьбу Шевченко, прислал поэту мартовскую книжку журнала «Современник» за 1856 год, где был напечатан рассказ Толстого «Метель».
Во всяком случае, Шевченко читал этот номер «Современника» летом или осенью того же года.
Здесь была впервые помещена древнерусская стихотворная повесть «Горе-Злочастие», случайно отысканная в погодинских архивах Пыпиным и подготовленная к печати Костомаровым. Это замечательное произведение неизвестного автора очень увлекло Шевченко, и он задумал изготовить серию рисунков «а тему повести о Горе-Злочастии, назвав эту серию «Притчей о блудном сыне» и перенеся все действие из древней Руси в настоящее время.
Из всей серии о блудном сыне Шевченко успел выполнить только восемь рисунков: «Проигрался», «В кабаке», «В хлеву», «На кладбище», «Среди разбойников», «Наказание колодкой», «Наказание шпицрутенами» и «В каземате». В письмах своих Шевченко горько сетовал на то, что из-за отсутствия разнообразной бытовой натуры он не может выполнить увлекший его замысел.
Для «Блудного сына» ему в Новопетровске обыкновенно позировал молодой есаул уральского казачьего войска Л. С. Алексеев. Шевченко очень любил слушать, когда он читал стихи, особенно лермонтовского «Умирающего гладиатора».
– А ну почитай, мой голубчик! – обращался поэт по временам к Алексееву.
И тот принимался декламировать:
Ликует буйный Рим… Торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена;
А он – пронзенный в грудь – безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена…
Кто знает, какие ассоциации возникали у Шевченко, когда он вновь и «новь слушал так хорошо знакомые строки любимого поэта:
И родина цветет… свободной жизни край!
В той же мартовской книжке журнала за 1856 год было напечатано шестнадцать статей и рецензий Чернышевского («Стихотворения графини Ростопчиной», «Очерки сибиряка», «Силуэты, сцены в стихах В. Попова»). Следовательно, Чернышевского Шевченко читал еще в ссылке.
Особенно примечательна здесь большая статья великого критика о стихотворениях графини Ростопчиной, направленная против салонной поэзии и «искусства для искусства».
«Высок подвиг поэта, – писал Чернышевский, – решающегося избрать пафосом своих стихотворений изобличение ничтожества и порока на благое предостережение людям; высок его талант, если он достойным образом совершит свой благородный, но тяжелый подвиг!»
Эта мысль была чрезвычайно созвучна Шевченко. Украинский поэт в своем «Дневнике» тоже говорит о необходимости обличать общественные пороки посредством «умной, благородной сатиры».
Анализ одной из повестей Шевченко, написанной в Новопетровске в 1856 году, помогает так же документально установить чтение им № 10 «Современника» за 1855 год; в этом номере была напечатана статья Чернышевского о журнале «Морской сборник», и именно из этой статьи почерпнул Шевченко замысел своей повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» (в первом варианте называлась «Матрос»).
Характерно, что вдали от всех очагов культурной жизни Шевченко сохранял высокую требовательность к печатному слову.
Вот, например, письмо к Брониславу Залескому, который вздумал порадовать Шевченко, прислав ему сборник на украинском языке Грицька и Стецька Карпенко «Ландыши Киевской Украйны».
«Скажи ты мне ради всех святых, – отвечает Шевченко на посылку, – откуда ты взял эти вялые, лишенные всякого аромата «Киевские ландыши»? Бедные земляки мои думают, что на своем чудном наречии они имеют полное право не только что писать всякую чепуху, но даже и печатать! Бедные! И больше ничего. Мне даже совестно и благодарить тебя за эту, во всех отношениях тощую, книжонку».
В последнее время своего пребывания в Новопетровске, в 1857 году, Шевченко начал вести дневник.
На первых же страницах «Дневника» поэт говорит о своем не поколебленном годами ссылки мироощущении:
«Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто не касаясь меня. Малейшего следа не оставили по себе… Мне кажется, что я точно тот же, что был и десять лет тому назад. Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Хорошо ли это? Хорошо. По крайней мере, мне так кажется. И я от глубины души благодарю моего всемогущего создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться своими железными когтями моих убеждений, моих младенчески светлых верований. Некоторые вещи просветлели, округлились, приняли более естественный размер и образ».
Так, вспоминая и оценивая все происшедшее, Шевченко твердо заявлял о своей верности прежним идеалам. Из всех тяжких испытаний он выходил, как сталь из горнила, – еще тверже, еще светлее, еще острее.
Он ничего не утратил, но многое приобрел, он ничего не забыл, но многому научился; он и знал и понимал теперь вещи глубже, яснее, чем когда бы то ни было.
По глубине мысли, яркости картин и широте жизненных наблюдений шевченковский «Дневник» относится к числу выдающихся творений всемирной культуры. Справедливо сказала известная советская писательница Мариэтта Шагинян:
«Дневник» Шевченко – одна из наиболее величавых, монументальных книг мировой литературы по своей глубокой, правдивой и чистой человечности. А для нас она, кроме того, обжигающе близка своим революционно-мировоззрительным складом».
В «Дневнике» отразился широкий круг интересов и познаний поэта – одного из образованнейших людей своего времени. На страницах «Дневника», между прочим, встречаем более двухсот упоминаний различных произведений русской и мировой литературы, имен писателей, художников и скульпторов 1414
Кольцов и Пушкин, Гёте и Данте, Казак Луганский и Эжен – Сю, «Горе от ума» и «Ревизор», Федотов и Тенирс, «Ябеда» Капниста, «Русский инвалид» и «Записки о Южной Руси», «Двумужница» князя Шаховского и «Свои люди – сочтемся» Островского, образы Плюшкина и Молчалина, Филемона и Бавкиды, «Фингал», «Эдип в Афинах» и «Дмитрий Донской» Озерова, строки из Курочкина и «Евгения Онегина», Беранже и Платон, Кароль Либельт и Жуковский, Щепкин и Каратыгин, Брюллов и Калам, «Библиотека для чтения» и «Санкт-Петербургские ведомости», «История о донских казаках» Ригельмана, Гольбейн и Дюрер, Корнелиус и Гесс, Лео Кленц и князь Вяземский, Бруни и Крылов – вот далеко не полный перечень имен и названий, упоминаемых в «Дневнике» только за первый месяц его ведения!
[Закрыть].
5 июля 1857 года, уже зная о скором своем освобождении, Шевченко записал:
«Голенький ох, а за голеньким бог. Из моей библиотеки, которую я знаю наизусть всю и которую уже давно упаковал в ящик, не нашлося книги, достойной сопутствовать мне в моем радостном одиноком путешествии по Волге… Что же делать без книги в таком медленно спокойном путешествии, как плавание по Волге, от Астрахани до Нижнего? Это меня беспокоило. И.в самом деле, что я буду делать целый месяц без хоть какой-нибудь книги?..
В девятом часу пошел в укрепление… Прихожу в ротную канцелярию, смотрю, на столе рядом с образцовыми сапогами лежат три довольно плотные книги в серой подержанной обертке. Читаю заглавие. И что же я прочитал? «Estetyka, czyli Umnictwo piękne, przez Karola Libelta» 1515
«Эстетика, или Наука о прекрасном, сочинение Кароля Либельта».
[Закрыть]. В казармах! Эстетика!
– Чьи это книги? – спрашиваю я писаря.
– Каптенармуса, унтер-офицера Кулиха.
Отыскал я вышерекомого унтер-офицера Кулиха.
И на вопрос мой, не продаст ли он мне «Umnictwo piękne», он отвечал, что оно принадлежит мне, что Пшевлоцкий, уезжая из Уральска на родину, передал ему, Кулиху, эти книги с тем, чтобы они были переданы мне. И что он, Кулих, принес их с собою сюда, положил в цейхгауз и забыл про их существование, и что вчера они попались ему на глаза, и что он очень рад, что теперь может их препроводить по принадлежности…
Итак, я имею в дороге чтение, на которое вовсе не рассчитывал».
Полемике с буржуазно-либеральной идеалистической концепцией Либельта посвящает Шевченко несколько чрезвычайно глубоких высказываний в своем «Дневнике».
Поэт утверждает, что «свободный художник настолько же ограничен окружающею его природою, насколько природа ограничена своими вечными, Неизменными заходами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы природы, он делается богоотступником, нравственным уродом…»
Здесь же он, однако, оговаривается, что речь идет не о простом копировании действительности:
«Я не говорю о дагерротипном подражании природе: тогда бы не было искусства, не было бы творчества, не было бы истинных художников».
Реалистическое искусство Гоголя и Щедрина тем и привлекало всегда Шевченко, что в нем он видел обобщенную, типизированную, но предельно правдивую картину действительности.
Этим же близка Шевченко и народная поэзия. Он глубоко воспринимает и родной ему с детства украинский фольклор и задушевные русские песни; в «Дневнике» с большим сочувствием упоминаются бурлацкие песни и песни о Степане Разине:
«Как начался приятно, так и кончился этот второй для меня день приятно. Вечер был тихий, прекрасный. Для моциона я обошел два раза укрепление. Начал было и третий обход, только у второй батареи остановил меня уральский казак своею старинной песней про Игнашу Степанова, сына Булавина:
Возмутился наш батюшка
Славный тихий Дон
От верховьица
Вплоть до устьица…
С удовольствием слушал я незримого певца, пока он замолчал…»
В «Дневнике» мы находим картины жизни укрепления; привлекательные образы солдат; сатирические портреты тупых и жестоких «отцов-командиров»; пейзажи и лирические отступления; воспоминания о прежних годах жизни. Все это, по сути, законченные новеллы и миниатюры, а подчас небольшие критические и публицистические этюды.
Здесь же, в Новопетровском укреплении, Шевченко начал писать прозу.
По свидетельству самого поэта, им за пять-шесть лет было написано «десятков около двух» повестей на русском языке; до нас же дошло только девять.
В прозаических произведениях Шевченко, как и в его лирике, немало автобиографических черт; его личные знакомые нарисованы здесь без всякого вымысла. Брюллов и его ученики в повести «Художник», Глинка со своими друзьями в повести «Музыкант», Жуковский и Венецианов, Сошенко и Штернберг, Демский и Фицтум – «Художник», первые учителя маленького Тараса – «Княгиня»; точно описаны обстоятельства его выкупа из крепостной зависимости, первые годы учения в Академии художеств – «Художник», поездка на Украину – «Капитанша» и вынужденное путешествие из Петербурга в Оренбург, а затем в Орскую крепость и к Аральскому морю – «Близнецы».
Можно не сомневаться в том, что в повестях Шевченко точно воспроизведены даже многие диалоги.
Но и в то же время его повести – это не просто дневниковые записи. В них широко обобщена тогдашняя социальная действительность.
Типична тяжелая судьба талантов из народа, изображаемая в повестях «Художник» и «Музыкант»; так же типичны и образы девушек, ставших жертвой помещичьего произвола, и целая галерея помещиков-крепостников.
«Эти растлители, беззаконники законом ограждены от кнута, то их следует и должно казнить и позорить как гнусное нравственное безобразие!» – восклицает Шевченко, вскрывая причины нищеты народа. «Грустно видеть грязь и нищету на земле скудной, бесплодной, где человек борется с неблагодарною почвой и падает, наконец, изнеможенный под тяжестию труда и нищеты. Грустно! Невыразимо грустно! Каково же видеть ту же самую безобразную нищету в стране, текущей млеком и медом?..»
Проза Шевченко, как и все его творчество, проникнута ясной идеей крестьянской революции.
Героиня ранней поэмы Шевченко, Катерина, обесчещенная и брошенная ланом-офицером, не мечтала ни о чем, кроме того, чтобы вернуться к своему возлюбленному и вернуть ему сына. При встрече с офицером Катерина умоляла его о снисхождении, унижалась перед ним:
– Мой любимый, Ваня!
Мое сердце, мое счастье!
Словно в воду канул!—
Ухватилася за стремя,
А он и не глянул,
На ходу коня пришпорил…
– …Я твоя, твоя Катруся,
Сокол ты мой ясный!.
Мой любимый, мой желанный,
Ты хоть не чурайся!
Я тебе батрачкой стану…
С другою встречайся,
С целым светом!.. Я забуду,
Что тебя ласкала,
Народила тебе сына!
Позор принимала…
Здесь все внимание читателя сосредоточено на страданиях несчастной «покрытки», обездоленной, беспомощной и покорной.
Совершенно иначе ведет себя героиня повести «Наймичка», Лукия, так же бессовестно соблазненная и обманутая корнетом-уланом, так же вынужденная оставить родной дом и скрываться со своим сыном Марком у чужих людей. Но здесь офицер сам ищет встречи с опозоренной им крепостной матерью, и не она, а он подвергается унижениям, когда умоляет брошенную им же раньше Лукию вернуться к нему:
«– Чего ты плачешь, моя прекрасная? Или тебе стало жаль прошлого? Что ж, от тебя зависит, начнем снова.
Она плюнула ему в глаза.
– Не сердися, моя крошечка, я тебе всего, всего себя, всю жизнь свою тебе отдам.
Лукия с омерзением отворотилась от него…
– Да пойми ты меня! Ведь ты будешь офицерша!
– Не хочу я быть офицершей. Я мать офицерского сына, с меня довольно!»
Таких речей не могла произносить не только Катерина, но и Ганна, героиня поэмы «Наймичка» (1847 год), сюжет которой положен в основу позднейшей повести с тем же заглавием.
Лукия исполнена гордого чувства собственного достоинства.
Угнетенный и порабощенный народ бесстрашно борется за свою волю и счастье. Герои этой борьбы появляются и «а страницах повестей Шевченко.
Один из персонажей повести «Варнак», беглый крепостной крестьянин, нападает на господ, чтобы «брать у богатых и отдавать бедным»; он говорит товарищу:
– Слезами, земляче, ничего не возьмешь. Мы тоже, как видишь, были люди бедные, обиженные, загнатые, ограбленные! А теперь, слава милосердому богу, пануем! Да еще как пануем! Только глянь да посмотри! Ударь горем о землю! Пойдем с нами, вольными казаками, право слово, не будешь каяться! Мы живем вольно, весело! Палаты наши – зеленая дуброва! Майданы наши – степь широкая, привольная!
Нам неизвестны стихотворные произведения Шевченко новопетровского периода.
Между тем мы уверены, что Шевченко, заявлявший неоднократно – «меня пускай хотя б распнут, а я стихам не изменяю», – на протяжении всей ссылки писал стихи.
Когда поэту в Нижнем Новгороде, в 1858 году, были возвращены друзьями его «захалявные» книжечки со стихами 1847–1850 годов и Шевченко начал переписывать и обрабатывать свою, как он ее называл, «невольничью поэзию», он в новой большой тетради из желтой сафьяновой кожи заполнил страницы 1—178 (около половины всего ее объема) стихотворениями 1847–1850 годов, а затем оставил десяток страниц чистыми и только на странице 189-й начал записывать стихи 1857 и последующих годов.
Совершенно ясно, что к этим чистым страницам Шевченко собирался еще вернуться, чтобы заполнить их стихами, созданными в 1851–1856 годы; поэт либо надеялся восстановить их но памяти, либо рассчитывал получить откуда-то. Во всяком случае, даже если стихов за эти шесть лет было и не очень много (для них оставлено в альбоме всего десять страниц), то они все же были и затем оказались утраченными.
Нужно при этом иметь в виду, что в сафьяновую тетрадь поэт переписывал не все сочиненное им за годы ссылки, а только лучшее: например, из двенадцати стихотворений 1850 года, имеющихся в «захалявной» книжечке, была переписана только половина, и то в значительно переработанном виде. Следовательно, и из стихов 1851–1856 годов не все предназначались в этот позднейший альбом. Этим, возможно, и объясняется то, что чистыми оставлено не так уж много страниц.
Нет никакого сомнения и в том, что некоторые стихотворения Шевченко, записанные им в сафьяновую тетрадь в начале 1858 года, сочинены именно в Новопетровском укреплении.
Например, стихотворение «Считаю в ссылке дни и ночи…» существует в двух редакциях и обычно датируется двумя датами: «Оренбург, 1850 – Н. Новгород, 1858». Вторая редакция, записанная в 1858 году в Нижнем Новгороде на страницах 167–168 сафьяновой тетради, настолько отличается от первой, что представляет, по существу, совершенно новое произведение.
В этой, второй, редакции есть строчки о море, которое здесь упоминается трижды; причем один раз в совершенно категорической фразе, рисующей нынешнее времяпрепровождение поэта:
Посижу трошки, погуляю,
На степ, на море подивлюсь…
В первой редакции, написанной в Оренбурге и сохранившейся на страницах 369–373 «захалявной» книжечки, никакого моря нет, да это и понятно: от Оренбурга до любого моря – сотни километров! Но ведь в Нижнем Новгороде тоже нет моря, следовательно, скорее всего стихотворение это (во второй редакции) сочинено в Новопетровском укреплении и только записано по памяти в Нижнем.
Есть и другие мотивы, заставляющие относить некоторые произведения к новопетровскому периоду: большие поэмы, законченные после ссылки («Неофиты», «Мария») или оставшиеся незаконченными, видимо, создавались на протяжении многих лет.
Так, во всех изданиях Шевченко поэма «Неофиты» датируется «8 декабря 1857, Нижний Новгород», и считается (на основании «Дневника»), что поэт написал ее за четыре дня – с 5 по 8 декабря.
Но в «Неофитах» более пятисот строк, сложнейшая композиция, множество философских, публицистических и лирических отступлений, – такие вещи не пишутся экспромтом, и не в манере Шевченко было писать большие поэмы так быстро. Несомненно, поэт работал над ней еще в Новопетровске, а пролог (цитированный выше) написан во время тюремного заключения еще в Оренбурге или в Орской крепости (в 1850 году).
Поэма «Мария» (свыше семисот строк) тожё была создана не сразу; еще в начале 1850 года из Оренбурга поэт писал Варваре Репниной о замысле, сходном с этой поэмой. Возможно, что основная работа над ней протекала в Новопетровске.
Шевченко имел привычку писать начерно на клочках бумаги, которые затем большей частью уничтожал. Сотни строк своих стихов он держал в памяти. Эта привычка особенно укрепилась, конечно, в результате «высочайшего» запрещения писать и преследований, которым подвергался поэт за свои стихи.
Во всяком случае, хотя рукописи новопетровского периода до нас не дошли, нельзя сомневаться в том, что творческий процесс и в эти семь лет не прекращался у Шевченко ни на один день.
Многие художественные работы новопетровского периода оказались навсегда утраченными. До нас дошли лишь отдельные рисунки. Например, сепия «Казахские дети-байгуши (нищие)» 1853 года. На первом плане – полуголые ребятишки с протянутыми за подаянием руками и простодушными личиками, а за ними – в дверях, в солдатском мундире – сам Шевченко выжидательно и с укоризной глядит через головы детей внутрь дома, на невидимых хозяев, к которым обращена просьба байгушей.







