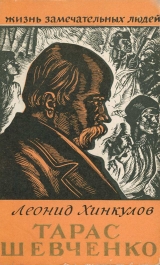
Текст книги "Тарас Шевченко"
Автор книги: Леонид Хинкулов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
II. ЮНОСТЬ БЕСПОКОЙНАЯ
У родного дяди Павла Ивановича Шевченко к Тарасу относились хуже, чем к чужому: дядя люто бил мальчугана за малейшую оплошность или просто за то, что малыш не мог подолгу сносить тяжелую работу в поле, где ему приходилось пахать «восьмериком» (на восьми волах).
Бывало, тихонько подкрадется Павел Иванович к замечтавшемуся Тарасу да и поколотит. Он тогда убегал на курган в Пединовке, в Кульбашев лес.
Иногда добирался и до Зеленой Дубравы, где жила с мужем сестра Катерина Григорьевна Красицкая.
Антон Красицкий, молодой, трудолюбивый и непьющий человек, относился к маленькому Тарасу гораздо ласковее и приветливее, чем родные дядья Но был он беден, пошли дети33
У Красицких было четверо сыновей: Степан, Федор, Аким и Максим; их внук, Фотий Степанович Красицкий, стал впоследствии известным украинским художником-пейзажистом, а правнук, Дмитрий Филимонович, – советский шевченковед.
[Закрыть], и взять Тараса к себе Красицкие не могли.
Когда же босой и оборванный Тарас прибегал к ним в Зеленую Дубраву, его пригревали, сколько могли. Сестра заботливо мыла и кормила сироту. Позже Катерина Григорьевна вспоминала:
– Бродягой я его называла, ей-богу… Бывало, и не заметишь, как двери скрипнут, да и войдет он тихонько в хату, сядет себе на лавке и все молчит. Ничего на свете у него не добьешься: прогнали ли его откуда, били, или есть ему не давали – никогда не пожалуется. Бывало, все бродит от села к селу, да все тропинками, под самым лесом, да через Гарбузову балку, да через левады, да под курганами… Однажды забрался в хату, на лавку камнем упал и уснул, сердечный, а я-то как глянула ему в голову, а она нечесана и немыта… Вот как оно бывало… Ну, да после как-то выправился и стал, смотри, человеком…
Вместе с сестрой Катериной Тарас пешком ходил на богомолье в близлежащие и в дальние монастыри, в Мотронинский монастырь – близ Жаботина на Черкассщине.
Расположенный в густом Мотронинском лесу, он был знаменит тем, что отсюда началась Колиивщина 1768 года; здесь Максим Зализняк собирал свое крестьянское войско; в Мотронинском лесу, по сохранившемуся в народе преданию, гайдамаки «святили» ножи перед походом на Умань.
На кладбище монастырском похоронены участники восстания, о чем гласят надписи на тяжелых каменных и чугунных могильных плитах. Тарас вслух читал богомольцам надписи на надгробиях. А среди стариков, собравшихся на богомолье, были и такие, что сами помнили славные события Колиивщины.
Гайдамаками руководили Никита Швачка, Иван Гонта, Никита Москаль – отважные сыны трудового крестьянства. Восстание быстро распространялось Повстанцы надеялись, что им окажут помощь войска Екатерины II, однако царское правительство поддержало не гайдамаков, а шляхту. Вожаки Колиивщины были схвачены, и все восстание потоплено в море крови.
Но особенно любимый народом бедняцкий атаман Максим Зализняк, сосланный в Сибирь, бежал с каторги; и сохранились вполне достоверные сведения, что спустя пять лет он участвовал в крестьянской войне, руководимой Емельяном Пугачевым.
Народ не забывал своих героев, слагал о них легенды, воспевал их подвиги, горячо верил, что не пропадет даром пролитая кровь.
Кириловская церковноприходская школа помещалась в просторной избе, стоявшей в самом центре села – на площади, возле церкви. Но была она запущена донельзя снаружи и изнутри; от трактира, как говорили, школа эта отличалась только тем, что в ней было гораздо грязнее; да и стекла в окнах были почти все выбиты соединенными энергичными усилиями учеников двух классов– в школе, в общей комнате, вели занятия двое учителей: Петр Богорский и Андрей Знивелич. Каждый имел своих питомцев, но у Богорского учеников было больше, по тому что в деревне считалось, что он «краще учить» – лучше учит.
Дьячок Петр Богорский, сын священника, учился ранее в Киевской духовной семинарии, но не окончил ее. А выйдя из семинарии, обучился при архиерейском хоре «церковному уставу и нотному пению» и был определен в село Кириловку; в это время Богорскому было всего двадцать шесть – двадцать семь лет, а это был уже совершенно спившийся, погибший человек.
К этому-то Петру Богорскому и нанялся в работники Тарас, когда сбежал от своего дяди Павла Ивановича.
«Пребывание мое в школе, – вспоминает Шевченко, – было довольно некомфортабельное». Он учился вместе со всеми школярами, а потом таскал воду, колол дрова и топил печи, мыл и прибирал в хате. Кроме того, Богорский посылал подростка читать псалтырь над покойниками; за это Тарас получал обыкновенно «кныш» и «копу» деньгами – пятьдесят копеек. Деньги он отдавал дьячку как его доход, и тот уже от щедрот своих уделял мальчику пятак «на бублики».
Ходил Тарас постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечно грязной, бессменной рубашке, а о шапке и сапогах и помину не было ни летом, ни зимою. Однажды дал ему какой-то мужик «на пришвы ременю» – кожи на сапоги, – да и то учитель отобрал как свою собственность.
Тарас голодал. Младшие сестры его, жившие у мачехи, Ирина и Маруся, припрятывали для него кусочки хлеба в условленном месте, откуда Тарас ночью их забирал Богорский вместе со своим неизменным собутыльником Ионою отнимал у мальчика даже эту скудную провизию.
Занятия в школе проходили далеко не регулярно Иногда учителя на два-три дня совсем исчезали, пьянствуя по окрестным деревням. Появление их в школе после таких отлучек повергало учеников в трепет, так как учителя обычно возвращались домой не в духе.
– Натерпелся-таки Тарас в той школе, – рассказывала впоследствии Ирина. – Толкли его там, прямо как куль; подчас не стерпит да что-нибудь и выскажет… Он такой был у нас… Вот ему и попадало больше всех!
Маленький Тарас уже выделялся среди своих сверстников; он любил рисовать, читать.
Бывало, в школе я когда-то,
Лишь зазевается дьячок,
Стяну тихонько пятачок
Ходил тогда я весь в заплатах,
Таким был бедным, – и куплю
Листок бумаги. И скреплю
Я ниткой книжечку. Крестами
И тонкой рамкою с цветами
Кругом страницы обведу,
Перепишу Сковороду
Или «Три царие со дары»44
Имеются в виду песни и притчи Григория Сковороды, неоднократно в то время печатавшиеся и популярные среди народа (например, «Всякому городу нрав и права», «Стоїть явір над водою», «Ой ты, птичка желтобока»); народная колядка «Три цари со дары» рассказывает о поклонении волхвов Младенцу Иисусу.
В настоящее время здание Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
[Закрыть]
И от дороги в стороне,
Чтоб обо мне кто не судачил,
Пою себе и плачу
Тарас рисовал – мелом, углем – где придется-на стенах, на дверях, на воротах. У его одноклассника Тараса Гончаренко еще много лет спустя хата была украшена изображениями солдат и лошадей на больших кусках толстой серой бумаги, – это были школьные рисунки Шевченко.
С дьячком Богорским ужиться Тарас не смог: весь облик этого опустившегося, потерявшего совесть человека вызывал у подростка омерзение.
В своей автобиографии Шевченко рассказывает: «Этот первый деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим. Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще оканчивают выведенные из терпения беззащитные люди, – местью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него собственное его оружие – розги и, насколько хватило детских сил, отплатил ему за все его жестокости. Из всех пожитков пьяницы дьячка драгоценнейшею вещью казалась мне всегда какая-то книжечка с «кунштиками», то есть гравированными картинками, вероятно, самой плохой работы. Я не счел грехом, или не у стоял против искушения, похитить эту драгоценность и ночью бежал в местечко Лысянку».
В Лысянку, воспетую им позднее в «Гайдамаках», Шевченко отправился пешком – от Кириловки более двадцати верст – с уже вполне определившимся стремлением– он хотел учиться рисовать, а в бойком торговом местечке, над рекой Тикичем, процветало ремесло иконописного малярства. Вот к одному маляру-дьячку и нанялся Тарас.
Скоро он убедился, что маляр этот мало чем отличается от Богорского. Тарас терпеливо дня три носил из Тикича ведрами воду и растирал краску-медянку на железном листе, а на четвертый бросил маляра и убежал в село Тарасовку: он прослышал, что там есть дьячок, славящийся по всей округе искусством изображать великомученика Никиту и Ивана-воина; у этого святого он для большего эффекта рисовал на левом рукаве две солдатские нашивки.
Но живописец, понаторевший в изображении святых, одетых в александровские мундиры, не стал долго изучать способности юного Шевченко; о «посмотрел на его левую ладонь и решительно заявил, что маленький бродяга не имеет никакого призвания не только к малярству, но также и к сапожничеству и к бочарству. Ясно было, что все эти ремесла ставились им примерно на одну доску.
Этот приговор произвел, однако, на подростка большое впечатление. Он готов был поверить в свою неспособность сделаться живописцем. С сокрушенным сердцем возвратился Тарас в Кириловку, где ему теперь оставалось только снова пасти чужое стадо, утешаясь чтением захваченной у Богорского книжечки с «кунштиками».
Восемнадцатилетний старший брат Тараса, Никита, еще от отца научившийся мастерству колесника, предложил Тарасу преподать ему сложную и весьма необходимую по тем временам науку выгибания косяков и ободьев для тележных колес из свежего дуба или березы. Но Тарас наотрез отказался. Ему теперь немила была никакая ремесленная работа.
И он пошел батраком в зажиточный дом Кириловского попа Григория Кошица.
Отец Григорий даже в своей среде был довольно мрачной личностью. Добровольный соглядатай полицейских властей, он сочинял от времени до времени доносы «по начальству» о мятежных настроениях крестьян.
А речи его, обращенные к прихожанам, имели – по сохранившейся его собственной записи – следующий вид:
– Вас никто не будет бить, если вы будете стараться работать, как должно по обязанности своей, и, не противясь, будете в полном повиновении начальству, от бога над вами поставленному, а кто воспротивится и ослушным в чем-либо окажется, то тот наказан будет…
Кошиц имел большое хозяйство, два доходных сада и сбывал урожаи слив, яблок, груш и дынь на окрестных ярмарках. А будучи по характеру своему предельным скрягой, пытался торговать и всякой фруктовой зеленью и недозрелой дрянью, о которой даже супруга отца Григория, матушка Ксения Прокопьевна, обыкновенно говаривала:
– И что это ты задумал такое на базар везти?
Ведь это добрые люди везде отдают «за спасибі», а то и свиньям просто бросают!
Но поп имел взгляд на эти вещи сугубо экономический и «за спасибі» ничего не привык делать людям.
Вот к такому-то хозяину и попал в батраки Шевченко. На его обязанности первоначально лежал уход за буланой кобылой и грязная домашняя работа: он топил печи «в покоях», мыл посуду и полы. Позже его стали посылать на всевозможные хозяйственные и полевые работы, а также и в самостоятельные экспедиции на буланой кобыле на ярмарки и базары. На той же кобыле доставлял он и сына отца Григория, Яся, в Богуслав, где попович обучался в духовной семинарии, или, попросту, в бурсе.
Однажды вместе с Я сем Тарас повез в соседнее местечко Шполу на продажу ранние сливы из поповского сада. Но на нечитайловском мосту, что у села Зеленая Дубрава, постигла путников беда: не то мост подломился, не то кобыла оступилась, но только телега со сливами оказалась на боку, а весь товар отца Григория высыпался прямехонько в нечитайловский пруд.
Зная характер своего папаши, Ясь не мог оставить сливы пропадать в болоте, и они с Тарасом принялись их вылавливать. Нетрудно догадаться, что на ярмарке сильно потерпевший от такой передряги товар не имел сбыта и был Продан за бесценок.
За свою службу у Григория Кошица Тарас сначала никакой платы не получал, работая «на харчах и хозяйской одёже»; позднее ему было положено уже и денежное вознаграждение в размере трех рублей ассигнациями в год.
Вскоре Тарас оставил неприветливый дом Кошицев. Он решил вновь попытаться учиться живописному мастерству.
Еще во время службы у Кошица Шевченко разрисовывал углем стены конюшни и кладовой, высокие заборы усадьбы: повсюду появлялись изображения людей, петухов, даже киево-печерской колокольни, которой Тарас еще и не видел никогда.
Покинув Кириловку, Шевченко отправился в село Хлипновку, где было несколько хороших маляров, известных своими богомазными работами. Хлипновский маляр, к которому обратился Тарас, взялся испробовать его способности на деле.
Маляру понравилась работа хлопца, он увидал, что из него может получиться толк. Но как бить? Ведь без разрешения помещика крепостной н «имел права ни учиться, ни наниматься, а Тарасу уже скоро должно было исполниться пятнадцать лет, и его могли в любую минуту потребовать к хозяину.
Пришлось Тарасу отправляться к управляющему помещика Энгельгардта и просить разрешения обучаться малярству.
Господская контора имела резиденцию в местечке Ольшаной, где доживал свой век престарелый пан Энгельгардт со своими двумя побочными сыновьями.
По законном усыновлении Павел и Василий Энгельгардты получили в свое владение часть обширных имений вместе с крепостными.
Шевченко явился к управляющему как раз в го время, когда тот набирал из крестьянской молодежи дворню для недавно женившегося Павла Энгельгардта.
Пятнадцатилетний Тарас, казавшийся старше своих лет, серьезно и настойчиво стал просить разрешения учиться живописи. Но управляющий увидел, что умный и развитой юноша будет очень подходящим «услужающим» для молодого барина, и Шевченко тотчас был занесен в «реестры» пригодных для дворовой службы людей.
Теперь Тарасу предстояло обслуживать прихоти «пана» и «пани».
В списке отобранной для «дворовой службы» молодежи управляющий Энгельгардта отметил против имени Тараса Шевченко: «Годен на комнатного живописца».
Но молодому Энгельгардту эта высокая профессия была не нужна в его ежедневном обиходе. Тарас вместо обучения изящным искусствам был причислен к ученикам господского повара.
Однако должность поваренка не была самой худшей. Тарасу пришлось пройти и еще более унизительную школу – в должности комнатного казачка, мальчика «для услуг».
Здесь в его обязанности входило стоять неподвижно и молчаливо в уголке одетым в тиковую куртку и такие же шаровары, пока не раздастся барский окрик:
– Мальчик, трубку!
И казачок должен стремглав подбежать и подать барину трубку, хотя она лежит тут же, у барина под рукой.
– Мальчик, воды!
И казачок бежит, чтобы налить барину стакан воды.
Потом опять безмолвное стояние в углу до нового господского приказания.
Но у Тараса в характере была, как он сам говорил, «врожденная предерзость», и, даже стоя в ожидании барских повелений, он не мог удержаться от того, чтобы не проявить «дерзко» свою одаренную натуру. Он тихонько напевал грустные, но непокорные гайдамацкие песни, а улучив свободную минутку, тайком перерисовывал картины, украшавшие господские комнаты. Но даже карандаш для этой сокровенной работы он вынужден был незаметно похитить у конторщика: маленькому рабу не полагалось и этой скромной собственности…
Молодой Энгельгардт часто выезжал из родового имения, и Шевченко вместе с другой прислугой сопровождал своего хозяина, путешествуя вслед за господской коляской в обозе.
Так увидел Тарас Киев – жизнерадостный город над обрывами Днепра, щедро залитый ярким южным солнцем, утопающий в зелени лип, тополей и каштанов. Это было летом 1829 года.
Поэт на всю жизнь сохранил к красавцу Киеву чувство горячей душевной привязанности. Он любил бывать здесь и мечтал поселиться где-нибудь под Киевом, на высоком берегу могучего Днепра.
Недаром первая же строка стихотворения, открывающего теперь «Кобзарь», воспевает милый сердцу поэта Днепр:
Ревет и стонет Днепр широкий
А в закаспийской ссылке Шевченко писал:
«Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестися мыслию на берег широкого Днепра… Я лелею мое старческое воображение картинами золотоглавого, садами повитого и тополями увенчанного Киева»
Разъезжая со своим помещиком, Тарас собирал всевозможные рисунки, где бы они ему ни встречались Лубочные картинки, ремесленные изделия «суздальской школы», как впоследствии говаривал Шевченко, аляповатые и грубо намалеванные, плохо отпечатанные, составляли драгоценнейшее достояние маленького любителя изящного.
Это были изображения популярных исторических героев и мифических персонажей: в окружении бодро скачущих и до зубов вооруженных всадников, на ярко-зеленом фоне, под ярко-синими облаками красовались казак Платов и генерал-фельдмаршал Кутузов; здесь Соловей-разбойник, там смертельно раненный любимец солдат Кульнев; дюжие, разукрашенные кричащими красками «русский ратник Иван Гвоздила» и «русский мужик Долбила» поражали чахлых французиков, а надписи к рисункам гласили:
«У басурмана ножки тоненьки, душа коротенька Что, мусью, промахнулся? Ан вот тебе раз, другой бабушка даст»
Но среди этих «суздальских» изделий попадались иногда и мастерские гравюры Венецианова или меткие, остроумные карикатуры Теребенева, талантливые батальные и жанровые литографии Александра Орловского – его композиции: «Линейные казаки» или «Извозчичья биржа».
Да и в грубой, прямолинейной выразительности лубка была своя художественная прелесть, своя сочная, откровенная жизненная правда Здесь проглядывали и презрение к изнеженному барину, и уважение к мужику, и сознание великой силы закрепощенного народа, который, когда захочет, «за себя постоит правдою». А вилы-тройчатки да топоры, постоянно фигурировавшие в лубочных стычках русского крестьянина с наполеоновскими завоевателями, являлись «традиционным оружием народа и в его вековой борьбе против собственных угнетателей.
Улучив свободную минутку, Тарас иногда забирался в глухой уголок господского сада. Он развешивал на деревьях и кустах свою нехитрую картинную галерею, усаживался прямо на траву и затаив дыхание любовался.
Многие помещики обучали своих крепостных различным искусствам, чтобы иметь у себя даровых художников, архитекторов, музыкантов и актеров. Но Энгельгардт принадлежал к людям малообразованным и ограниченным, а по натуре был жестоким и черствым самодуром.
…Тогда Энгельгардт со своей дворней жил в Вильно. 6 декабря, в день святого Николая Мирликийского, барин и барыня отправились на бал в Дворянское собрание.
Тарас использовал представившуюся ему свободу; он зажег свечу, развернул свою художественную коллекцию, выбрал из нее картинку, изображавшую казака Платова верхом на коне, и стал ее перерисовывать.
Он уже срисовал фигуры окружавших Платова казаков, как вдруг дверь распахнулась и на пороге появился Энгельгардт с женой.
– Да ведь это что же такое? – кричал разъяренный барин. – Так недолго сжечь весь дом! Что дом – ты мог сжечь весь город!..
И Энгельгардт тут же распорядился, чтобы кучер Сидорка на следующий день выпорол Тараса на конюшне…
В Вильно (Вильнюсе), древней столице Литвы, Шевченко прожил около полутора лет – с осени 1829 до февраля 1831 года. Здесь Тарас обучался некоторое время у известного литовского художника, руководителя кафедры живописи Виленского университета Яна Руслема; его квартира и мастерская были расположены прямо через улицу от дома Энгельгардгов. Шевченко даже спустя много лет, в ссылке, вспоминал полезные советы «старика Рустема». К виленскому периоду относятся и первые дошедшие до нас рисунки Тараса, прежде всего «Женская головка» (1830).
Юноша владел польским языком и мог свободно читать в оригинале Красицкого и Мицкевича, польских революционных романтиков Северина Рощинского и Антонина Мальчевского, многое запоминал наизусть. Он рано прочитал и некоторые научные сочинения по истории и искусству.
До 1824 года в Виленском университете протекала бурная деятельность выдающегося польского ученого и революционера Иоахима Лелевеля. После того как царские власти раскрыли тайное студенческое общество, вдохновителем которого был Лелевель, ему запретили проживать в Вильно. Но в городе его еще долго помнили и студенты и поэты.
Одновременно с Лелевелем был выслан из Вильно его гениальный ученик, один из самых горячих членов тайной студенческой организации, Адам Мицкевич. Его «Баллады и романсы», проникнутая священным пафосом борьбы во имя народа «Гражина», остро антикрепостнические «Дзяды», «Крымские сонеты», наконец, знаменитая «Ода к молодости» повсюду в городе передавались из рук в руки и из уст в уста.
Летом 1830 года на польских землях Российской империи, как и по всей Европе, разнеслась весть об июльской революции во Франции. Но здесь к этому известию отнеслись прямо как к трубному призыву: на улицах Варшавы и Вильно можно было услышать звуки «Марсельезы». «К оружию, граждане!» – повторяла молодежь порабощенной Польши.

Тарас мальчиком слушает рассказы стариков на кладбище гайдамаков. Рисунок В. И. Касияна.
Слыхал в эти дни о французской революции, конечно, и Шевченко. Юноша все лучше начинал понимать происходившие события: Тарас познакомился с Виленской студенческой и ремесленнической молодежью. К сожалению, об этих знакомствах сохранилось чрезвычайно мало сведений. Но мы, например, знаем, что в это время у него в Вильно появился близкий друг: это была девушка-полька, работавшая швеей. Звали ее Дуся Гусаковская. Шевченко называл ее Дуней.
«Равенство, братство и свобода» – этот незабытый девиз третьего сословия времен Великой французской революции, туманный и романтический, но такой сладкий и привлекательный для измученных деспотизмом людей, звучал в то время и в стихах Мицкевича и в речах Лелевеля. Эти волнующие слова возникали и в задушевных беседах крепостного казачка Тараса с бедной Виленской швеей, «милой Дуней чернобровой».
И недаром, вспоминая о своей дружбе с Дуней, Шевченко говорил:
– Я в первый раз пришел тогда к мысли: отчего и нам, крепостным, не быть такими же людьми, как и люди других, свободных сословий?
Впоследствии поэт искренне восклицал:
– Вильно дорого по воспоминаниям моему сердцу!
В присоединенных к России польских областях, как раз во время пребывания там юного Шевченко, вспыхнула революция.
По городам и селам разбрасывались прокламации на польском, русском и украинском языках; на улицах по утрам можно было успеть прочитать наклеенные на стенах и заборах воззвания, которые полиция быстро срывала, в университетских коридорах громко звучали смелые антиправительственные речи.
В одной прокламации, написанной по-украински, говорилось:
«Вы не будете больше знать ни помещиков, ни управляющих, дерущих теперь с вас шкуру, насилующих ваших жен и дочерей, а вас гоняющих изо дня в день так, что не ведаете ни праздника, ни отдыха, потому что с кнутом стоят над вами, а то на дыбу вас тянут или розгами секут так, что вся шкура у вас сходит с костей…»
Непосредственным сигналом к выступлению послужил слух о том, что Николай I приказал послать польские воинские части против французских революционеров. И вот в ночь на 17 ноября 1830 года, в знаменитую «Бельведерскую ночь», вспыхнуло в Варшаве восстание; оно быстро охватило польские войска, распространилось сразу на ряд городов и принудило наместника Польши, брата царя, великого князя Константина поспешно и позорно бежать в Петербург.
Ноябрьское восстание заставило бежать и хозяина Шевченко – Павла Энгельгардта. Он вышел в отставку и перебрался в Петербург. Весь состав помещичьей прислуги должен был догонять своего умчавшегося на курьерских барина самым простым по тем временам способом: люди шли пешком, по «этапу», сопровождая длинный обоз с господским движимым имуществом.
Тяжелейший этот переход совершался в зимнюю пору, в самые лютые морозы, и продолжался не менее двух месяцев.
У Тараса были совсем худые сапоги, и вскоре один совсем развалился.
Чтобы не отморозить ног, Тарас переодевал оставшийся сапог с одной ноги на другую, присаживаясь у обочины дороги. Но этапным солдатам скоро надоели эти частые задержки, и они стали запрещать останавливаться.
Шел снег, и колючий северный ветер бил в лицо…
Далеко позади остались недавние мечты, волнения, надежды Тараса.
Где, когда увидит он снова чернобровую свою Дусю, и увидит ли ее вообще?..
Мела пурга, скрипели полозья саней, ныли от холода пальцы ног… А впереди еще лежали восемьсот верст пути, и пасмурное, серое северное небо все ниже и ниже опускалось над ухабистой, заснеженной дорогой…







