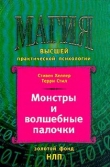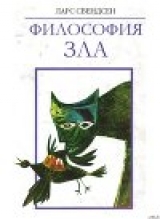
Текст книги "Философия Зла"
Автор книги: Ларс Свендсен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Субъективное и объективное зло
Сократ утверждает, что никто не делает зло умышленно, потому что каждый человек хочет жить хорошо, а злые деяния этому препятствуют349349
Platon: Protagoras, 352a; jf. Platon: Menon, 88d, Gor-gias 460bff., 509e, Xenofon: Erindringer от Sokrates, книга 3:9
[Закрыть]. В общих чертах аргументация Сократа сводится к следующему: (1) ни один человек не совершает зло умышленно; (2) благие поступки основаны на знании; (3) все нравственное знание есть знание блага; ergo (следовательно – лат.) все зло является результатом незнания того, что есть благо.Эта теория объясняет, почему дурные поступки имеют место, однако она так сильно противоречит чувствам, которые мы испытываем сами и наблюдаем у других, что на этом можно закончить рассмотрение этой теории: наш собственный опыт и опыт других подсказывает нам, что мы порой прекрасно знаем, что совершаем зло. Однако более изощренный вариант аргументации состоит в том, что благо оборачивается большим счастьем, чем зло, но поступающий дурно не понимает этого и, таким образом, совершает зло по невежеству. Следовательно, незнание рассматривается не с точки зрения незаконности или несправедливости определенного поступка, а касается лишь соотношения поступка и благополучия. В этом случае в том, что, зная об аморальности поступка, мы тем не менее его совершаем, нет никакого противоречия. Таким образом, теория Сократа не находится в сильном противоречии с нашим опытом, однако она мало чем помогает нам при попытке понять, что же все-таки есть зло ради зла. Платон несколько усложняет трактовку Сократа, отдавая страсти важную роль в приглушении разума (logos) (epitumia),однако и здесь дурные поступки не перестают быть неумышленными.
Толкование Сократа мало соответствует нашему обычному взгляду на себя и на других, как на субъектов действия. Проблема, которую обычно мораль ставит перед нами, заключается не в том, чтобы знать, что правильно, а в том, чтобы поступать правильно. Большинство из нас, вероятно, придерживаются толкования Платона, объясняя поведение не иррациональностью или невежеством, а скорее аффектом, властью чувств, а мы порой удивляемся их силе. Хотя можно принять и такое объяснение, оно тем не менее не согласуется с понятием ответственности за свои действия. Строго говоря, если ты постоянно охвачен чувствами, – ты весь в переживаниях и не несешь моральной ответственности, коль скоро действуешь не по доброй воле.
Согласно Аристотелю, мы можем умышленно игнорировать благо. Разумеется, он соглашается с той посылкой Платона, что мы бываем сбиты с толку своими желаниями и влечениями, однако Аристотель утверждает, что мы можем преднамеренно следовать нашим желаниям. Он развивает эту мысль в сложную теорию, определяя множество видов слабоволия (akrasia).Слабовольный отдает себе отчет в своих действиях, в том, что поступает неправильно. Аристотель делает различие между слабовольным и испорченным. Слабовольный понимает, что есть благо, но неверно действует вопреки ему; испорченный, напротив, действует в соответствии со своим представлением о .благе, но он неверно его истолковывает. Аристотель выражает это так: грех не ведает о самом себе, а слабость, напротив, не питает на свой счет никаких иллюзий. Поэтому ситуация, в которой некто поступает плохо, чтобы быть плохим, невозможна – испорченный поступает дурно в попытке достичь блага. Основной посылкой этики Аристотеля является то, что благо, которому подчинены все наши поступки, это счастье (eudaimonia).Поступок, который не имел бы такой цели, попросту невероятен. Все действия имеют своей целью благо, но порой человек не в силах поступить в соответствии со своим представлением о благе, а порой человек не понимает, чем оно в действительности является. Таким образом, Аристотель объясняет зло или слабостью, или непониманием, однако это не подтверждается ни нашим собственным жизненным опытом, ни наблюдениями за другими людьми как субъектами действия, из которых следует, что нам случается целенаправленно совершать дурные поступки.
Зло ради зла не имеет ничего общего с akrasia, слабоволием. Слабовольный знает, что должен поступить иначе, но уступает – он не выбирает зло. Описание слабоволия содержится в послании апостола Павла к Римлянам: «Добраго, котораго хочу, не делаю, а злое, котораго не хочу, делаю»350350
Послание Павла к Римлянам 7:19.
[Закрыть]. Понятие «зло ради зла» некорректно с точки зрения логики. Оно подразумевает действие, противоположное тому, что представляется благом. Однако возможно ли вообще хотеть чего-то, кроме того, что в том или ином смысле представляется нам благом? Сартр выражает это так– ты должен желать того, что не хочешь, и не хотеть того, что желаешь. Речь идет о двух противоречащих друг другу намерениях. Замыслив то, что сам назвал бы злом, порождаешь внутреннее противоречие с самим собой, разрываясь между пониманием того, что так поступать нельзя, и выбором этого поступка.
Выше я упоминал о ряде мыслителей, допускающих, что человек может совершать зло ради зла, а некоторые из них считают это парадигмой зла. Есть множество мыслителей, утверждающих обратное, т.е. то, что человек может руководствоваться только тем, что сам в том или ином смысле понимает под благом. Фома Аквинский пишет: «Нельзя любить зло, не наградив его качествами блага, иначе говоря, при определенных условиях, зло становится благом, или же оно видится благом». Лейбниц, следуя этому, утверждает, что воля направляется только представлением о благе и никогда не нацелена исключительно на зло. Юм отвергает представление об «абсолютной, неспровоцированной, немотивированной злобе». Немотивированного, самодостаточного зла, по его мнению, не существует. Руссо высокопарно констатирует: «Никто не совершает зло ради зла». Он утверждает, что все пытаются поступать хорошо, как хороший, так и плохой, однако плохой стремится поступать хорошо по отношению к себе, причем за счет других. Кант считает, что у нас нет непосредственного влечения ко злу, лишь опосредованное, т.е. мы делаем зло, но не потому, что это зло – мы жаждем зла, воспринимая его как субъективное благо.
Кто-то осознанно идет на совершение злодеяния, привлеченный не возможностью быть злодеем, а скорее совсем другой особенностью поступка. О демоническом зле можно сказать, что оно беспричинно, поскольку оно не имеет внешней цели. На мой взгляд, такого беспричинного злодейства не бывает. Причинно-зависимая злоба проистекает из зависти, ревности, обиды, страсти и т.д. Целью причинно-зависимой злобы может быть поддержание или восстановление некоего состояния, а также стремление восполнить недостающее. Во всех этих случаях действия мотивированны. Также возможно действовать, особенно не раздумывая о качественной оценке действия. Большую часть того, что я делаю ежедневно, я делаю просто по привычке, не задумываясь о нравственном статусе этих действий. Исходя из этого, утверждение, что все мои действия имеют место, потому что, согласно моим представлениям, они реализуют благо, неверно. Я думаю, как раз в той степени, в которой мои действия вызваны рефлексией, т.е. когда я могу обозначить причины поступка, эти причины так или иначе соотносятся с воплощением субъективного и/или объективного блага. Во всяком желании заложено некое «благо», пусть даже только на взгляд его обладателя, и пусть даже оно в общем и целом должно рассматриваться как зло. Удовлетворение желания – это благо, и если, к примеру, убийство на почве секса приносит удовлетворение желания, значит, оно имеет и благую сторону, но тем не менее бесспорно, что само это убийство является злом.
Другими словами, я хочу сказать, что «демоническое» зло является не более чем одним из возможных проявлений зла-средства. Злодей творит зло, но стремится достичь блага или для самого себя, или для некоей группы. Разница между злом-средством и идеалистическим злом не в том, что первое стремится ко злу, а второе к благу. Нет, они оба направлены на благо. Однако злодей-идеалист стремится к тому, что, по его мнению, является объективным благом, в то время как другой пользуется злом как средством для достижения того, что считает субъективным благом. Последний понимает, что совершает зло, но делает выбор, руководствуясь более вескими соображениями.
Кант и зло-средство
Для изучения зла-средства я решил воспользоваться теорией Канта об исходном, радикальном зле, заложенном в природе человека. Как отмечено выше, злодей по расчету отдает себе отчет в том, что совершает зло, но делает выбор, руководствуясь соображениями более вескими, чем мораль. Кант объясняет это тем, что эгоизм берет верх над нормами морали. Согласно Канту, предположение о присутствии в человеческой природе радикального зла является основой существования свободы и нравственной ответственности. По сравнению с теориями, не принимающими во внимание ничего, кроме демонического зла, теория о радикальном зле -шаг в правильном направлении. Однако и в ней есть ряд существенных недостатков, среди прочего, например, то, что Кант возвращается к представлению о зле как о непостижимом и непознаваемом человеческом феномене, который в свою очередь – прямое противоречие гипотезе Канта – угрожает свести на нет нравственную ответственность человека за его дурные поступки. Тем не менее я намерен показать, что эти недостатки могут быть устранены довольно просто, и теория Канта – с некоторыми изменениями – даст нам здравое объяснение принципов, лежащих в основе зла-средства, а также ответственности за это зло.
Неправомерность идеи дьявольской воли
Ответ Канта на вопрос, почему мы склонны делать то, что не должны, заключается в том, что мы позволяем нашим плотским интересам одержать верх над законом морали – законом, установленным рассудком, морально обязывающим человека. Стремление к счастью и удовлетворению потребностей не является безнравственным само по себе. Зло начинается тогда, когда погоня за счастьем приводит к предумышленному преступлению закона морали. Согласно Канту, невозможно преступить мораль, не относясь к ней при этом с должным уважением. Мы не способны полностью отбросить нормы морали или заменить ее другими, дурными нормами. Следовательно, радикальное зло имеет место тогда, когда мы признаем закон морали, но в то же время делаем исключение для самих себя. Как позднее выразился Шеллинг, зло -там, где личная воля ставится выше всеобщей.
По мнению Канта, человек лишь делает выбор в пользу того, что он или она в том или ином смысле понимает как благо. Если я совершаю дурной поступок, то, должно быть, потому, что верю – этот поступок приведет к исполнению желания, т.е. зло сделает возможным достижение блага. Злодей Канта понимает, что является субъективным, а что – объективным благом, однако выбирает субъективное благо вопреки объективному. Обычно Канта упрекают в пренебрежении возможностью воплощения дьявольской воли, т.е. воли, находящей удовольствие во зле как таковом. Это было бы примером зла без интереса. Кант категорически отрицает, что такая форма зла применима в отношении человека. Согласно Канту, мы выбираем зло, однако делаем этот выбор, основываясь не на зле как таковом, а исходя из совсем иных соображений, а именно руководствуясь собственным эгоизмом.
Зло, по Канту, не содержит в себе чего-либо экстравагантного, злодей Канта вовсе не дьявол – это зло можно назвать «обыденным» или ординарным злом. Радикальное зло не является абсолютным злом, скорее это то, что лежит в основе всего многообразия совершаемых нами дурных поступков, которые не обязательно должны быть особенно возмутительными и безобразными. Радикальное зло – это корень (radix, lat. rot) всего зла. Радикальность зла не выражается в преступлениях, совершенных с особой жестокостью. Радикальность следует понимать как глубину нравственной испорченности, приоритет эгоизма. Таким образом, человек, ведущий жизнь, которая представляется другим образцом нравственности, вполне может оказаться по своей сути отъявленным злодеем.
Если я веду праведную жизнь лишь для того, чтобы окружающие воспринимали меня как праведника, а не потому, что я считаю такую жизнь правильной, не противоречащей морали, то, согласно трактовке Канта, я – злодей. Тем не менее также стоит заметить, что теория радикального зла, тесно связанная с наиболее страшными проявлениями человеческой жестокости, вполне обходится без постулирования собственно принципа дьявольской воли. Такие поступки должны быть объяснены в свете эгоизма, который усиливается, неуклонно ведя человека к полному моральному разложению. Даже полностью деморализованные субъекты совершают зло, стремясь не к нему как к таковому, а по другой причине, а именно по причине собственного эгоизма. Последствия радикального зла многообразны, и теория Канта заставляет задуматься о том, что наши обыденные грешки приводят в действие тот же глубинный принцип, который лежит в основе преступлений, совершенных с особой жестокостью.
Кант различает три степени зла – от первой до третьей совершается плавный переход: (1) слабость или неустойчивость характера, под которой понимается неспособность субъекта последовательно придерживаться благих намерений, (2) нечистоплотность (Unlauterkeit), т.е. смешанная мотивация, при которой субъект руководствуется не только соображениями морали, и (3) злонамеренность или порочность, т.е. склонность субъекта делать выбор в пользу зла. Первые две степени описываются как непреднамеренные, третья как преднамеренная. Преднамеренность третьей степени не означает выбор зла как такового, а выражает лишь то, что субъект последовательно ставит собственные интересы выше морали.
Центральным аспектом теории поведения Канта является то, что Генри Эллисон назвал «инкорпорированным тезисом». Импульс или побуждение может обусловливать качество выбора субъекта, (Willkuf) только если субъект включает этот импульс в максимы, принципы, правила поведения. Следовательно, если импульс ведет к действию, субъект должен был сделать свободный выбор и позволить себе следовать этому импульсу Эмоциональный порыв, таким образом, нельзя считать причиной акта злодеяния, поскольку нравственная вменяемость предполагает независимость от определяющей роли натуры. Зло предполагает намеренное возведение склонности в ранг правила.
Зло, согласно Канту, не относится ни к области психологии, ни к области космологии, а принадлежит скорее сфере метафизики свободы. Корень зла должен находиться в свободной воле – если это не так, то не было бы злодеяний (Böse),а только зло (Übel). Без свободы воли некого было бы порицать, поскольку природу нельзя упрекать в отсутствии нравственности. Зло не находится вне свободы, но является возможностью, заложенной в свободе. По мнению Канта, свободу нельзя определять как способность выбирать поведение, противоречащее нормам морали, поскольку глубинное понимание свободы, согласно Канту, заключается как раз в нашей способности поступать в соответствии с нормами морали, но тем не менее свобода допускает выбор вопреки морали.
Все зло, по Канту, проистекает от человека, и каждый сам несет ответственность за то, каким он стал хорошим или плохим человеком. Не существует никаких внешних причин, которые просто-напросто определяют поступки и основные принципы. Способность выбирать не подразумевает ничего, кроме выбора максим, т.е. этических принципов, на которых основаны поступки. Всякая максима включает в себя как чувства и эмоции, так и нравственные предпосылки, поэтому зло не связано с эмоциональным или нравственным наполнением максимы. Скорее зло имеет отношение к ее конструкции. Нравственное зло состоит в подчинении норм морали собственным наклонностям, а радикальное зло – это свободный выбор в пользу собственной наклонности к такому подчинению. Исходя из этого, радикальное зло предшествует всем безнравственным поступкам. Всякая безнравственная максима образуется на субъективной почве. Нравственное зло обусловлено радикальным, так как радикальное зло является предпосылкой для формирования всякой максимы, которая намеренно нарушает законы морали.
Парадокс зла
Итак, зло проистекает из свободного выбора. Отступление от общепринятых норм не может быть объяснено ничем, кроме выбора максимы, основания и последствия которой известны субъекту, – в противном случае нравственного зла просто бы не существовало. Мы сами прививаем себе склонность ко злу, но мы также «носители зла от природы», утверждает Кант. Понятие о свободном выборе склонности обнаруживает внутреннее противоречие, и Канту не удается его разрешить. Кант, обычно четко разграничивающий природу и свободу, в данном случае, кажется, смешивает понятия. Представление о свободном выборе приверженности злу парадоксально, и, чтобы устранить этот парадокс, обычное значение словосочетания «от природы» должно быть изменено, поскольку эта «природа» в теории Канта является не данностью, а выбором.
Теорию Канта следует понимать скорее с точки зрения вездесущности зла – оно касается всех и каждого, – нежели так, что зло является врожденной характеристикой человеческого существа. Присутствие блага, согласно Канту, является обязательным, поскольку законы нравственности нельзя просто не заметить или отбросить. Зло, напротив, случайно, но человек не может в самом себе просто стереть радикальное зло. Радикальное зло, другими словами, универсальная и необязательная особенность человека, и каждый человек может быть склонен к нарушению законов нравственности. Мы не находим убедительных примеров утверждения об универсальности зла, кроме туманных ссылок на «множество вопиющих примеров». Эта непостижимая стратегия аргументации подразумевает, что Кант не видел возможности эмпирической проверки существования радикального зла. Он и не доказывает свое утверждение эмпирическими примерами. Трудность заключается в невозможности эмпирического изучения наших мотивов. Мы лишь догадываемся о мотиве субъекта на основании его поведения и совершенных поступков, но никогда не можем быть уверенными в правильности этих догадок. Это отсутствие уверенности применимо не только к умозаключениям о мотивах других людей, но также и по отношению к нашим собственным мотивам. Глубина не так доступна, как поверхность, и действительные мотивы наших поступков всегда будут частично скрыты от нас. Мы не можем просто изучить максиму поступка, а должны, отталкиваясь от него, прийти к максиме и дальше к убеждениям (Gesinnung)субъекта. Вывод о том, что субъект – злой человек, не может быть принят с абсолютной достоверностью – только с относительной. И, даже выяснив, что относительная достоверность высока в массе случаев, мы тем не менее не можем сделать заключение об универсальности радикального зла351351
Генри Эллисон делает попытку помочь Канту в обосновании универсальности зла. Он утверждает, что все люди лишь вынужденно следуют нормам морали, и это говорит о том, что нам, людям, свойственно обходить законы нравственности в угоду чувственным наклонностям, и это не просто проявление материальной природы человека, а выражение выбранной человеком позиции по отношению к законам нравственности. (Allison: Kant's Theory of Freedom, s. 157) Несмотря на то что эта аргументация сильнее, чем аргументация самого Канта, она все же малоубедительна. Во-первых, вопросы сразу же вызывает первая предпосылка, а именно утверждение, что человек лишь вынужденно следует нормам морали – это вовсе не очевидно и требует дополнительного обоснования. Далее, остается неясным, является ли тезис об универсальности эмпирическим обобщением или же просто понятийным представлением о созданиях, которые не следуют законам нравственности с постоянством, но подчиненных категорическому императиву. (В противоположность святым созданиям, человек не всегда поступает в соответствии с законами нравственности. В этом виновата материальная природа человека и поэтому закон нравственности открывается человеку в форме категорического императива, Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, s. 414) Первая возможность ошибочна, поскольку эмпирического обобщения недостаточно для утверждения безоговорочной универсальности. Вторая возможность ошибочна, поскольку из самого понятия о категорическом императиве не следует, что законы нравственности соблюдаются вынужденно. Требуется нечто большее, чтобы провозгласить универсальность нежелания следовать законам нравственности. Кроме того, утверждать, что это нежелание не просто результат материальной природы человека, а скорее выражение позиции, которую мы выбираем, – то же самое, что говорить о том, что радикальное зло заложено в человеческой природе, но именно это еще не доказано.
[Закрыть].
Нельзя связывать выбор максимы зла с каким-то особенным моментом времени действия, утверждает Кант, поскольку это поставило бы его в казуальную зависимость, что свело бы на нет свободу выбора. Если мы говорим о выборе, объясняющем возникновение зла, то это возникновение должно пониматься не как временное, а как логическое. Это подразумевает, что вопрос о стадиях, предшествовавших выбору, Кант оставляет открытым. Даже если мы остановимся исключительно на логической очередности составляющих, которые должны присутствовать в таком выборе, то обнаружим, что Кант сталкивается с весьма серьезными затруднениями.
Радикальное зло предполагает осознание носителем зла законов нравственности. Если субъект не способен осознать требования морали, значит, нет оснований называть его злодеем. Источник зла должен быть таким, чтобы субъекта можно было бы счесть ответственным за его возникновение. Поэтому источник зла не может заключаться в том, что я являюсь неким определенным созданием, т.е. источник зла не может находиться в моей натуре ни в сфере чувств, ни в моей рациональности, ни в сочетании того и другого. Источником должен быть выбор, условия которого должны быть известны. Из этого с необходимостью следует, что я как субъект действия обладаю знанием о каждом из двух практических принципов, составляющих выбор: нравственность и эгоизм. Сама по себе нравственность не является мотивом действия. Только осознание законов нравственности может стать основой для принятия решений. Это осознание дается нам с чувством уважения по отношению к законам нравственности. Однако почему мы начинаем испытывать уважение? Единственно возможный ответ: вследствие их нарушения. Именно само нарушение позволяет познать свободу. Как утверждает Кант, отвращение, которое я испытываю к самому себе, поступая безнравственно, говорит мне о моей свободе и о моральном долге.
Мы познаем законы нравственности, поскольку они воздействуют на наши чувства, а уважение, которое мы испытываем, выражается в чувстве вины. Единственный для нас путь к познанию законов нравственности – это чувство вины. Согласно Канту, это касается даже наиболее деморализованных субъектов. Ты виновен, а потому свободен. Вопрос в том, в чем именно ты виноват. Напрашивается ответ: ты виновен в нарушении законов нравственности. Но как можно быть виновным в нарушении закона, о котором невозможно узнать, не нарушив его? Как сказано в Послании к Римлянам: «...где нет закона, нет и преступления... ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона»352352
Послание Павла к Римлянам 4:15,5:13.
[Закрыть]. Допустим, человек может сделать то, чего объективно ему не следовало бы делать, даже если он не знал о законе, но без этого знания он не может быть виновным, коль скоро незнание само по себе не является тем, за чем следует ответственность. Если человек ответственен за незнание, то мы можем упрекнуть его, сказав: «ты должен был знать, что...», но эти упреки абсурдны, если человек в принципе не мог получить это знание. Именно так происходит с человеком – до нарушения он не может получить это знание. Так как осознание законов нравственности достигается лишь postfactum,когда они уже нарушены и возникло чувство вины, так называемый «первоначальный выбор» зла, следовательно, должен был произойти до того, как появилось знание законов нравственности. В таком случае, по-видимому, использование понятия выбор теряет всякий смысл.
Есть право выбора либо нравственной, либо безнравственной максимы поведения, поскольку не существует нейтральной с точки зрения морали максимы или действия. Исходя из этого, до первоначального выбора зла, согласно Канту, ни о каком нейтральном принципе или убеждении речь идти не может. Мы не можем представить себе ничего, что предшествует этому выбору, что его мотивирует. Нам хотелось бы получить объяснение, почему люди выбирают зло, но Кант дает только формальное описание без какого-либо содержательного обоснования. Это происходит потому, что всякая характеристика такого обоснования свела бы на нет спонтанность и автономность акта выбора. Проблема в том, что нас оставляют с идеей выбора, который мы не можем никак обосновать и поэтому не в состоянии его осмыслить. Мы не приблизились к пониманию причин того, почему мы будто бы выбираем зло. Кант сам понимает ограниченность своей трактовки и указывает на то, что первоначальный выбор зла отличается «непостижимостью» и мы не находим для него «какой-либо понятной причины». Ссылка на непостижимость как I ia данность тем не менее не может быть принята теорией, претендующей на рациональность.
Кант ссылается на эту непостижимость акта первоначального выбора зла, чтобы избежать явной проблемы регресса. Основополагающее убеждение субъекта – это наружная, самая общая максима, которая образует почву для выбора других, более конкретных максим. И тем не менее понятно что эта основополагающая максима должна обусловливать предшествующие максимы, которые закладывают основу выбора последующей максимы. В отношении зла это означает, что первоначального выбора зла существовать не может, поскольку каждый такой выбор должен обуславливать предшествующий: ты должен быть злым, чтобы стать злым. Кант, как было сказано выше, осознает наличие проблемы регрессии, но предпочитает, по сути, не решать ее вовсе, ведь он просто-напросто постулирует, что первоначальный выбор состоялся и что он не поддается более глубокому анализу.
Радикальное зло парадоксально, поскольку первоначальный выбор, который должен быть чем-то обусловлен, возможен только тогда, когда уже был произведен. Это выбор, который обусловливает сам себя. Как следствие, человек может как быть ответственным, так и не нести ответственность за собственное зло. Как правило, этот парадокс принимается как есть – предпочтение не отдается ни тому, ни другому. Кант не рассматривает такую возможность. Промежуточная позиция, когда основа зла не устоялась и статус субъекта колеблется между автономностью и гетерономностью, существовать не может. В мире нравственности, по Канту, все устроено так -или я ответственен, или ответственен не я. Занять неопределенную позицию в отношении автономности и гетерономности значит подтвердить гетерономность. Основной вопрос заключается в том, являются ли поступки субъекта выражением его свободы, и положительный ответ возможен, если субъект совершил свободный выбор базовой установки. Однако Кант не справился с доказательством вероятности этого свободного выбора.
Несокрушимая вера Канта в существование выбора базовой установки на зло основана, по-видимому, на двух предпосылках: (1) мы порицаем поступающих в соответствии с безнравственными максимами, а эти максимы являются результатом безнравственной базовой установки; (2) эти порицания правомерны, поскольку субъект избрал для себя базовую установку. Первая предпосылка относительно ясна, ведь мы действительно упрекаем друг друга. Вторая предпосылка, однако, весьма сомнительна, поскольку Кант не смог объяснить, что вообще делает возможным такой выбор.