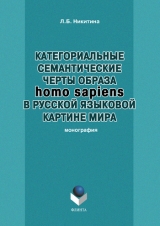
Текст книги "Категориальные семантические черты образа homo sapiens в русской языковой картине мира"
Автор книги: Лариса Никитина
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Концептуальная картина мира богаче языковой, поскольку в ее образовании участвуют различные типы мышления. В то же время язык не мог бы выполнять роль средства общения, если бы он не был связан с концептуальной картиной мира (см.:Михайлова, 1972). ЯКМ – это лишь часть концептуальной картины мира, которая включает компоненты, соотнесенные с языковыми значениями. При таком понимании ЯКМ предстает как своеобразная система членения мира и форма его категоризации (см.: Булыгина, Шмелев, 1997).
Итак, ЯКМ не тождественна концептуальной, ей не присущ статус концептуальной (несмотря на то, что именно в языке отражены научные представления разных эпох), поскольку язык впитал на длительном пути своего развития как «правильные», так и «неправильные» взгляды на мир, что объясняется не только и не столько ошибками человеческого мышления, сколько равнодушием языка к абсолютной точности описания мира. Язык, столь «внимательный» к окружающему миру, зачастую остается безразличным к изменениям в миропонимании, мировоззрении людей. ЯКМ и мировоззрение – это вообще две разные, хотя и взаимодействующие сущности: одна языковая, семантическая, другая – философско-гносеологическая, воплощаемая посредством языка, но тем не менее языку не принадлежащая. ЯКМ, будучи не чем иным, как внутренней естественносемиотической формой экспликации знания и шире – всей информации, сообщаемой в речи, не мешает отвлечь от нее (формы) внеречевое предметное содержание и выразить его иначе: средствами того же или другого языка или средствами какой-либо невербальной знаковой системы (музыки, живописи, балета, кино). ЯКМ приспособлена к субъективно-личностному статусу сознания человека, она «откликается» на различные человеческие интенции, мотивы, состояния, но при этом не навязывает человеку (субъекту речи-мысли) тот или иной языковой способ интерпретации (концептуализации) действительности как единственно возможный (Одинцова, 2002, с. 8). В то же время ЯКМ отражает определенный способ восприятия и концептуализации мира, характерный для национальной культуры, и не может быть полностью изолирована от мировосприятия, мировоззрения говорящих на данном языке людей. ЯКМ отчасти формирует тип отношения человека к миру и задает нормы его поведения. Естественный язык отражает именно то в мировидении человека, в его отношении к миру, что исторически, национально, культурно детерминировано.
Н.Д.Арутюнова замечает: «Мир для современного человека двойственен. Он распадается на Универсум, или Чуждый мир (ср. «Оно» М.Бубера, «Autre» французских экзистенциалистов) и мир человеческого существования, «наличного бытия» (ср. «Dasien» М.Хайдеггера). Первый бесконечен, безграничен, но (в принципе) исчислим. Второй ограничен, конечен, но неисчислим. В Универсуме все подчинено законам, единым для всех. В мире человека царствует его величество случай: представления человека о жизни национально специфичны. Естественный язык отражает мир человека в национально специфических вариантах» (Арутюнова, 1995, с. 33).
В ЯКМ, как и в концептуальной, обнаруживаются и общечеловеческое, и национально специфическое, и личностное начала. Национальные ЯКМ могут иметь схожие интерпретации образов мира, основанные на общих ценностных установках и ориентирах (например, языки народов, проповедующих христианство, имеют много общего в интерпретации таких понятий, как добро и зло, ум и глупость и т. д.). В то же время отдельные личности, люди, говорящие на одном языке, могут иметь при определенных условиях сильно различающиеся ЯКМ. Удельный вес общечеловеческого, национально специфического и личностного в той или иной ЯКМ может быть различным. Иными словами, отмечая национально-культурную специфичность картины мира того или иного языка, надо в то же время признать, что единая общая для национального языка картина мира вариативна (см.: Одинцова, 2002, с. 7). Так, можно говорить о разных ЯКМ как выделяемых на разных основаниях: с точки зрения субъекта, творящего ЯКМ, (например, ЯКМ нации; ЯКМ отдельной социальной группы; ЯКМ отдельной личности); с точки зрения объекта, образ которого воспроизводится субъектом-творцом (например, картина мира того или иного материального (органического) объекта; картина мира неприродного (идеального) объекта). Названные ЯКМ могут рассматриваться исследователем в диахроническом или синхроническом аспекте. Например, можно говорить о ЯКМ нации (как субъекта) в ее историческом развитии или в определенных временных рамках; о картине мира человека (как объекта) в его историко-временной целостности или о картине мира современного человека. В частности, в своей работе мы обращаемся к картине мира, или образу, человека (homo sapiens) как одного из объектов целостной современной русской ЯКМ.
Таким образом, языковая (наивная) картина мира определяется нами вслед за Ю.Н.Карауловым как «взятое в своей совокупности все концептуальное содержание языка» (Караулов, 1976, с. 245), не сводимое к целостной концептуальной картине мира, поскольку отражательная деятельность сознания количественно и качественно не сводима к отражательной деятельности языка, а характеризуется большим объемом и более высокой степенью достоверности.
3. Языковой образ человека
В ЯКМ отражены, как уже отмечалось, исторически и национально детерминированные представления носителей языка об объектах окружающей действительности, поэтому исследование ЯКМ есть выявление национально-культурных особенностей этих представлений, закрепленных в сознании носителей языка и в самом языке в виде особых «сгустков смыслов», или «концептов».
В современном языкознании элементарные единицы ЯКМ определяются по-разному: ученые используют такие понятия, как образ, архетип, понятие, семантическое слово, представление, фрейм, сценарий (скрипт), гештальт (Е.С.Кубрякова, В.З.Демьянков, И.А.Стернин, З.Д.Попова, А.Н.Баранов, Д.О.Добровольский).
Выделяется два основных направления осмысления понятия концепт: когнитивное и культурологическое. В рамках первого направления концепт интерпретируется как ментальное образование, своеобразный фокус знаний о мире, когнитивная структура, включающая разноуровневые единицы сознания (Р.Дженкендорф, Р.И.Павиленис, Е.С.Кубрякова, А.П.Бабушкин, И.А.Стернин и др.). В такой интерпретации на первый план выходит проблема соотношения языка и сознания.
В рамках культурологического направления (А.Вежбицкая, Ю.С.Степанов, Н.Д.Арутюнова, С.Е.Никитина, Д.С.Лихачев, В.В.Колесов и др.) концепт рассматривается в контексте проблемы «язык – сознание – культура» и толкуется как первичное представление, психоментальное явление, стимулирующее порождение слова, но в центре внимания при этом оказывается метаязык культуры. Концепт в таком понимании есть «крупица» сознания, или менталитета, «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека… и посредством чего… рядовой человек, не «творец культурных ценностей», сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее…» (Степанов, 2001, с. 43).
В нашем исследовании образа homo sapiens в русской ЯКМ принимается лингвокультурологическое понимание концепта: языковой образ-концепт «человек разумный» рассматривается как воплощение ментальной сущности, несущей на себе национальнокультурный отпечаток.
В каждом национальном языке образ человека предстает в трех измерениях: 1) образ человека вообще (то есть человека как представителя рода homo sapiens); 2) образ определенного типа человека (например, образ средневекового человека, образ русского человека, образ подростка); 3) образ конкретной личности, отличающейся от всех других индивидов (заметим, что в этих измерениях человек рассматривается и в социологии). Исходя из этого, разработка проблемы образа человека в языке может идти в разных направлениях: образ человека может рассматриваться как языковое воплощение представлений носителей языка о человеке вообще, безотносительно к его национальной и социальной принадлежности; как языковая трансляция национальных, социальных, социально-психологических черт человека; как отражение в языке особенностей конкретных личностей.
В отечественной лингвоантропологии представлены исследования языкового образа человека в русле всех названных направлений. В то же время, под каким бы углом зрения ни изучался языковой образ человека, он неминуемо описывается в национально-культурном ракурсе, коль скоро средством отражения образа человека является национальный язык. Такое общее культурологическое начало исследований языкового образа человека объясняется тем, что данный языковой феномен предстает как совокупность двух разноплановых сущностей.
Во-первых, образ человека в языке – субъектная языковая ипостась человека. Человек как носитель национального языка выступает одновременно его пользователем и творцом; он реализует посредством языка свои коммуникативные намерения, выбирая что, кому и как сказать, и языковое (речевое) воплощение этого выбора характеризует человека как субъекта языковой (речевой) деятельности. «О чем бы люди ни говорили, они обязательно – в конечном счете – характеризуют, изображают себя: свои занятия, желания, чувства, предпочтения, своих близких, друзей, свой досуг, свои беды и радости, профессиональные и непрофессиональные достижения или потери. Человеку свойственно персонифицировать, очеловечивать природу, то есть говоря о ней изображать себя, переносить ценностное (оценочное) отношение к людям на все в мире. В ЯКМ отображена, как об этом знали еще в античности, вселенная (микрокосм) человека, в центре ее он сам, он центр и физической Вселенной, всего мироздания (разумеется субъективно)» (Одинцова, 20006, с. 26). Иными словами, человек самовыражается в языке и язык в данном случае является объектом (точнее продуктом) человеческой деятельности, несущим на себе отпечаток присущих человеку представлений о мире, которые в свою очередь не могут быть лишены национально-культурного оттенка, коль скоро человек смотрит на мир глазами той культуры, которой принадлежит.
Во-вторых, языковой образ человека предстает в своей объектной ипостаси: человек в этом случае есть предмет, о котором говорят (Одинцова, 20006, с. 26). Языковой образ человека как объектная языковая ипостась – это продукт творческой языковой (речевой) деятельности, языкового (речевого) самовыражения человека (говорящего) как личности думающей, чувствующей и оценивающей человека, другого или самого себя, в рамках традиций, стереотипов и правил, действующих в национально-культурном сообществе, которому он принадлежит как субъект речи-мысли, как творец этого образа человека-объекта.
Таким образом, языковой образ человека – это точка, в которой пересекаются, коррелируют смыслы «человек в языке» и «язык в человеке». Человек отражает в языке себя независимо от того, о ком или о чем он говорит, но, когда человек говорит о человеке, образ обретает свое наиболее полное, цельное выражение. Именно поэтому, ставя своей целью описать категориальные семантические черты образа homo sapiens в русской ЯКМ, мы рассматриваем высказывания о человеке не только с позиций их предмета, наблюдая за тем, каким представлен человек разумный, но и с позиций тех, кто представляет, характеризует этот предмет, – носителей русского языка. Иными словами, языковой образ homo sapiens для нас – это субъектно детерминированная объектная сущность. Следовательно, принципиально важным для воссоздания этого образа и выявления его характерных черт является обращение ко всем тем реалиям, которые стоят за языковыми (речевыми) единицами, которые обусловливают их содержание: к историко-культурным, психологическим, социальным, личностным особенностям говорящих. Опора на нелингвистический контекст, в котором порождаются и функционируют языковые (речевые) репрезентации человека, является, по нашему мнению, условием максимально адекватного описания этого образа.
Вернемся к мысли о том, что языковой образ человека исследуется лингвистами в разных измерениях, с разных позиций. Перечень этих позиций можно существенно расширить, учитывая то, что ученые обращаются не только к образу целостного человека в языке, но и к языковым образам частичного (частей) человека.
Образ человека и образы его частей в лингвоантропологических исследованиях описываются с разной степенью полноты и расчлененности: от одноаспектного, дихотомического, двуаспектного, до многоаспектного и, далее, предельно широкого (глобального) понимания человека и его частей. Разница в подходах к толкованию языкового образа человека объясняется значимостью тех или иных явлений для конкретных лингвистических изысканий.
Ю.Н.Караулов, руководствуясь биологическим (одноаспектным) подходом к пониманию целостного и частичного человека, в качестве частей человека называет только органические составляющие тела (Караулов, 1976, с. 250).
Другие исследователи (авторы дихотомических концепций) представляют человека как единство двух противоположных начал: физического и духовного, эмоционального и интеллектуального, внешнего и внутреннего (Е.В.Урысон, Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелев, Ю.С.Степанов, М.В.Пименова).
Например, Е.В.Урысон выделяет у человека физические и нефизические (представляемые) составляющие (ср.: рука – душа), что, по мнению исследователя, соответствует наивно-анатомической языковой интерпретации человека (Урысон, 1995, с. 3–16).
Т.В.Булыгина и А.Д.Шмелев характеризуют образ человека как антиномичное единство материального и идеального, интеллектуального и эмоционального (чувственного) начал. «Первое противопоставление отражается в языке как противопоставление духа и плоти, второе – как противопоставление сердца (груди) и крови, с одной стороны, и головы и мозга (мозгов) – с другой» (Булыгина, Шмелев, 1997, с. 537).
Ю.С.Степанов предлагает лингвокультурологическую концепцию образа человека в языке, построенную на основе дихотомии «внешнее – внутреннее». «Внешнее» обращено к социальному и материальном миру человека, в соответствии с чем выделяются три параметра: человек в отношении к Миру, к себе подобным, к обществу. «Внутренний человек» – это его внутренний облик, столь же неповторимый, как внешний, но причастный не материальному и социальному миру, а миру духовному, божественной сущности, Богу (см.: Степанов, 2001, с. 698).
В концепциях, рассматривающих человека многоаспектно, выделяется множество параметров, ипостасей, сфер его проявления (Н.Д.Арутюнова, А.А.Уфимцева, Н. Д. Апресян, Ш.Балли, М.А.Журинская, Г.А.Золотова, М.П.Одинцова, Н.А.Седова и др.).
Например, в интерпретации Ю.Д.Апресяна, сосредоточившего внимание на глагольной семантике, человек характеризуется как «динамичное, деятельное существо», способное совершать различного рода действия. «Каждым видом деятельности, каждым типом состояния, каждой реакцией ведает своя система» (Апресян, 1995а, с. 352), которая локализуется в определенном органе. Всего исследователь выделяет восемь основных систем, иерархизованных по степени сложности: физическое восприятие, физиологические состояния, физиологические реакции на разного рода внешние и внутренние воздействия, физические действия и деятельность, желания, мышление и интеллектуальная деятельность, эмоции, речь.
А.А.Уфимцева выделяет части человека в соответствии с несколькими основными сферами его проявления: биолого-физиологические и антропологические, то есть природные части; части, являющиеся результатом социально-трудовых и родственных отношений; части, относящиеся к сфере психической деятельности и эмоциональным оценкам человека (Уфимцева, 1986, с. 115).
М.А.Журинская включает в понятие человека тело и его части; имя, мысли, чувства, переживания; различные окружающие его предметы, связь с которыми человек может представить в разной степени нерасторжимости. В принципе, согласно такому толкованию человека, его частью субъективно может быть признан любой предмет, с которым человек имеет дело (Журинская, 1997, с. 308).
Нами принимается предельно широкое толкование языкового образа человека, предложенное М.П.Одинцовой: этот образ заключает в себе «все, что люди о себе и себе подобных знают, воображают и в принципе могут вообразить, ассоциируя себя не только с ближайшей действительностью, но и легко переносясь мыслью в иные, возможные и невозможные, миры, превращаясь мысленно в кого угодно и что угодно обращая в свое подобие» (Одинцова, 1994а, с. 73). Человек, по мнению исследователя, являясь частью мира, мыслит себя тождественным ему, поэтому в обыденном сознании и в языковом менталитете человек ассоциируется и соизмеряется со Вселенной, более точно – с центром Вселенной. Сказанное объясняется, по мнению М.П.Одинцовой, тем, что «концепт «человек» в русском языковом сознании… характеризуется не только реалистическим, естественнонаучным содержанием, многократно зафиксированным в лингвистических и энциклопедических словарях, но и целым комплексом отчасти или по большей части мифопоэтических представлений, дополняющих рационалистическое ядро концепта ореолом субъективно-оценочных, образных, экспрессивных смыслов» (Одинцова, 2000, с. 9). Типизируя эти смыслы на основе анализа описаний человека в современной русской речи, художественной и нехудожественной, М.П. Одинцова следующим образом структурирует понятие «человек» в наивной картине мира:
человек – это множество лиц, ипостасей, органов и квазиорганов, частей и квазичастей, условно наделяемых активностью и многими другими качествами двойников, alter ego личности (см.: Одинцова, 1994а);
человек – это вещь, предмет и, следовательно, некое пространство, физическое и духовное, в пределе – вселенная, космос или, точнее, центр двух вселенных – внешней, природной, и внутренней, духовной (см.: Одинцова, 1991);
человек – это властелин мира, хозяин, распорядитель всего живого и неживого, включая самого себя, свое тело и душу. Об этой же черте языкового менталитета можно сказать иначе: все, что осваивает и присваивает человеческая мысль, становится принадлежностью, частью, собственностью человека (в реальном и виртуальном мире);
человек – творец и преобразователь мира, многих вещей в нем, самого себя, языка, другого человека, равный – в пределе – по созидательной компетенции и талантам божеству, демиургу, он поистине «мера всех вещей»;
человек – судья и пророк, оценивающий все и вся, всевидящий, наделенный разумом и сверхразумом, чувствами и сверхчувствами, чудо создания, гений, «венец природы», сознающий и использующий этот дар всеведения (см. антропоцентрическую интерпретацию эгоцентрических, в том числе оценочных (субъективно-эмотивных), значений языковых единиц: Вольф, 1985; Телия,1996; Арутюнова, 1984);
человек и мир – одно и то же: человек тождествен миру, всему, что входит и может войти в сферу его жизнедеятельности и сознания, что в той или иной степени зависит от него и от чего зависит он сам. Верно и обратное: мир тождествен человеку. Образы мира и человека взаимноизоморфны (Телия, 1987);
человек – воплощение и средоточие противоположностей, сил, субстанций, качеств, находящихся в отношениях противоборства, конфликта и вместе с тем диалектического единства, притяжения, взаимодействия и взаимоперехода. Человек – воплощение добра и зла, силы и слабости, простоты и сложности, величия и ничтожества, он Бог и дьявол, царь и раб, бессмертная субстанция духа и в то же время тленная земная плоть, он ангелоподобен и звероподобен, разум в нем, сознательное начало, сосуществует и борется с чувством, стихией подсознания, животными инстинктами (см.: Одинцова, 2000, с.9).
Исходя из этого, сущность образа глобального человека сводится к представлению о человеке в ЯКМ как своеобразном микрокосме, по сложности своего «устройства» соизмеримым с макрокосмом – Вселенной, всем окружающим и включающим человека универсумом. Образ частичного (частей) человека в ЯКМ формируют образы тех предметов, живых существ, нефизических сущностей, параметров внешнего и внутреннего мира человека, его ипостасей и состояний, которые в сознании наивного носителя языка реалистично или образно-ассоциативно составляют и членят целостный образ человека. Что касается образа целостного человека, то его составляет представление о человеке как обладателе всех своих частей (в том числе параметров и ипостасей) (Седова, 2000а, с. 25).
В методологических целях определим понятия часть, параметр, ипостась человека.
Наиболее общие классификационные признаки человека принято называть параметрами. Параметрические представления о человеке содержатся, например, в научных описаниях, где человек трактуется как живая система, представляющая собой единство физического и духовного, природного и социального, наследственного и прижизненно приобретенного (Философский энциклопедический словарь, 1989, с. 737). Человек, как отмечает Ю.С.Степанов, будучи наиболее важным в культурном отношении предметом, «параметризован» как ни один другой предмет: «Сотни, если не тысячи, слов в каждом языке – это названия одного и того же – «человека», но в зависимости от его разных «параметров» (Степанов, 2001, с. 697).
Н.А.Седова, отмечая большое разнообразие параметризации человека в ЯКМ, выделяет такие основные параметры: биологический и социальный, физический и нефизический (материальный и идеальный), внешний и внутренний, интеллектуальный и эмоциональный, индивидуальный и общественный, пространственный и непространственный, постоянный (абсолютный) и временный (относительный) (Седова, 2000а, с. 27).
Ипостасями мы называем те или иные частные социальные роли и какие-либо другие качества человека, количество которых чрезвычайно велико (например, социальные роли, связанные с профессией, родом деятельности, возрастом, полом человека; качества человека, обусловленные его физической, психологической, интеллектуальной природой).
Все параметры и ипостаси человека, которые обусловливают сложную иерархию атрибутов: функций, качеств, свойств, характеристик, органов и квазиорганов, мы называем частями человека. Иными словами, части человека – это все, что находится с целостным глобальным человеком в разнообразных пространственных и непространственных, физических и нефизических, внешних и внутренних, постоянных и переменных, случайных и неслучайных, объективных и субъективных, отторжимых и неотторжимых связях (Седова, 2000а, с. 28).
Обратимся к данным проведенного нами психолингвистического ассоциативного анкетирования. Ответы на вопрос, какие ассоциации вызывает слово человек, можно рассматривать, в частности, как экспликацию названий разнообразных частей, параметров, ипостасей человека.
В сознании носителей русского языка человек – это существо; живое существо; разумное существо; homo sapiens; мыслящее существо; живое подвижное существо; организм; живой организм.
Отмечаются ассоциации, связанные с происхождением человека: животное; разумное животное; обезьяна; человекообразная обезьяна; произошел от обезьяны; человек – Божие творение.
Человек – это мир, природа, жизнь, земля, общество, упорядоченность, цивилизация. Он главный, царь природы.
Человек осознается как индивид, личность; как объект, образ. Человек – это я, мужчина, женщина, мама, друг, ребенок, семья; труд, работа, здоровье, счастье, красота, любовь.
Человек, с одной стороны, тело, фигура, внешность, лицо, с другой – душа, сердце, ум, разум, характер, чувства, эмоции, рефлексия. Он есть знания, опыт, творения.
Человек ассоциируется со следующими качествами: здоровый, высокий, стройный, большой, полный или неполный, волосатый, длинноносый, красивый (качества, относящиеся к внешности); умный, разумный, думающий, грамотный, добрый, отзывчивый, гуманный (качества, характеризующие внутренний мир человека).
Очевидно, что наши респонденты видят в человеке, с одной стороны, целостный живой организм, с другой – рассматривают этот организм с разных сторон: биологической, психической, социальной, выделяя в нем различные по своей природе части: органические и неорганические, реальные и воображаемые, неотторжимые и отторжимые, постоянные и временные. Человек, по данным анкетирования, совокупность внешних и внутренних проявлений, качеств, состояний. Наиболее частотны ассоциации, связанные с интеллектуальной природой человека, что, впрочем, вполне закономерно: опрошенные стремятся в первую очередь отметить те черты человека, которые отличают его от других живых существ.
Итак, образ человека в русском языковом сознании характеризуется разнообразием, неоднородностью, иерархичностью частей. В своем исследовании мы обращаемся к одной из них: нас интересует семантические черты языкового образа человека разумного, и, следовательно, наше внимание сосредоточено на объективированных всей системой семантических единиц, структур и правил русского языка представлениях о homo sapiens. Эти представления отчасти универсальны, отчасти национально специфичны. Общечеловеческий и национально-специфический взгляд на homo sapiens, отраженный в русском языке, в целом есть национально-культурный феномен, который мы называем образ homo sapiens в русской языковой картине мира.





