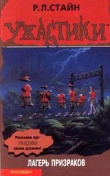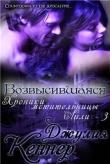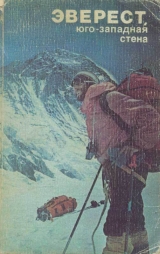
Текст книги "Эверест, юго-западная стена"
Автор книги: Л. Замятин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
К началу 70-х годов молодая команда вырастает в альпинистской секции ЛЭТИ (“Буревестник”). В 1970 и 1971 годах она завоёвывает золотые медали за стенные восхождения на пик Маркса и на вершину Бодхо-на (руководитель Ф. Житенев). В 1972 году команда Ф. Житенева становится бронзовым призёром чемпионата за восхождение на пик Российского географического общества (Тянь-Шань).
В середине 70-х и в начале 80-х годов успешно выступает команда спортивного клуба армии (стенные восхождения на пик Энгельса, 1974 г.– руководитель А. Гаас, пик Маркса, 1976 г. – руководитель Ю. Шевченко, Южная Ушба и пик Скалистый, 1981 и 1982 гг.– руководитель П. Голубев).
Но наибольших успехов за всю историю ленинградского альпинизма добивается команда “Труда”, сплотившаяся вокруг талантливого спортсмена и организатора Виктора Солонникова. Более десяти лет выступает она в чемпионатах страны и почти ежегодно завоёвывает призовые места, чаще всего в высотно-техническом классе. Трудно в кратком обзоре перечислить все рекордные восхождения этой команды. Не может не вызывать восхищения её капитан. Не случайно к В. Солонникову тянутся наиболее активные и талантливые молодые спортсмены.
Ещё дважды (в 1973 и 1975 гг.) собирались наши сильнейшие высотники для подготовки к восхождениям в Гималаях.
В июле – августе 1973 года на Памире на сбор на леднике Бивачном съехались кандидаты в советскую гималайскую команду для предстоящего покорения Эвереста. На место в команде претендовало 36 спортсменов. После сдачи нормативов по физической и технической подготовке восходители покорили пик Россия (6852). В числе кандидатов были и ленинградцы О. Борисёнок, К. Клецко, Г. Корепанов и Ю. Устинов. Но и это восхождение на высочайшую вершину мира не состоялось.
Гималайские восьмитысячники неудержимо влекли советских альпинистов. Возникли планы восхождения на вершину Макалу (8481). И снова на Памире на леднике Гармо в июле – августе 1975 года собираются 25 сильнейших действующих высотников страны. Готовясь к будущему восхождению, альпинисты покорили самую высокую точку СССР – пик Коммунизма по пути Н. Белавина. На этом сборе Ленинград представляли О. Борисёнок, К. Клецко и Г. Корепанов. К сожалению, и восхождение на Макалу не состоялось. Гималайская экспедиция (уже на Эверест) переносится на 1980 год, а затем – на 1982-й. И уже новое поколение ленинградских альпинистов стремится попасть в Гималаи. Успешнее других многочисленные ступени отбора преодолевают спартаковец Владимир Балыбердин и зенитовец Владимир Шопин.
Предгималайский 1981 год стал победным для ленинградского альпинизма. В трёх классах – техническом, высотно-техническом и высотном – ленинградцы завоевали золотые медали чемпионов страны. Лишь в скальном классе они были вторыми.
За восхождение на пик Коммунизма по юго-западной стене в составе команды Ленинграда (руководитель В. Солонников) В. Балыбердин и В. Шопин получили золотые медали чемпионов СССР.
Борьба за Эверест
Человека всегда привлекало самое трудное, самое недоступное. Поэтому так упорно велась борьба за покорение Северного и Южного полюсов земли. Поэтому так влечёт к себе вот уже более шестидесяти лет величайшая вершина мира Эверест (8848 метров над уровнем моря), который называют высотным полюсом земли.
Английские топографы, работавшие в Гималаях в 1845—1850 годах, обнаружили высочайший в мире пик и в 1856 году назвали его в честь начальника топографической службы Индии полковника Джорджа Эвереста.
Несколько десятилетий люди пытались покорить Эверест. Лишь 29 мая 1953 года участникам британской гималайской экспедиции новозеландцу Эдмунду Хиллари и шерпу Норгею Тенсингу удалось подняться на высочайшую точку земли. С тех пор Эверест побеждали неоднократно. Но далеко не каждая экспедиция добивалась успеха. Были жертвы, были отступления.
Как часто, знакомясь с отчётами гималайских экспедиций, мы узнавали о том, что восходители не сумели преодолеть последние сотни метров, отделяющие их от вершины. Тот, кто не знаком с горами, вряд ли может представить себе состояние спортсмена, борющегося на восьмитысячной высоте с ураганным ледяным ветром и свинцовой усталостью, перед которым стоит выбор – идти к вершине (с ничтожным шансом на благополучное возвращение) или отступить, пока еща не поздно. Но ведь всей командой затрачено столько усилий и ты – последняя надежда друзей, страны. По-разному решали в критическую минуту спортсмены. Эверест знает много трагедий. Крепко хранит он свои тайны.
До 1952 года лишь Великобритания организовывала экспедиции в район этой вершины. Участники первых восьми экспедиций (до 1949 г.) пытались взойти на высочайшую точку планеты с севера, со стороны Тибета, потому что территория Непала до 1948 года была закрыта для европейцев.
Уже в третьей по счёту экспедиции (весна 1924 г.) английские альпинисты были очень близки к успеху. Д. Мэллори и Э. Ирвин вышли на штурм с кислородными приборами. В последний раз их видели на подъёме на высоте порядка 8500 метров. Как погибла эта двойка – на пути к вершине или уже на спуске, после покорения горы, – до сих пор остаётся загадкой. Во всяком случае, первовосходители на Эверест в 1953 году никаких следов пребывания человека на вершине не обнаружили.
Во всех экспедициях в качестве высотных носильщиков участвовали шерпы. В первых трёх безуспешных экспедициях погибло 12 человек (из них 7 шерпов). Были предприняты попытки восхождения как с кислородом, так и без кислорода. В 1922 году Т. Сомервеллу и Э. Нортону удалось без кислорода достичь высоты 8326 метров.
Первая разведка на Эверест с юга, со стороны Непала, была предпринята англичанами в 1949 году. На следующий год английские восходители попытались преодолеть ледопад Кхумбу, но проникнуть в Западный цирк не сумели. С этой задачей осенью 1951 года удалось справиться следующей английской экспедиции во главе с Э. Шиптоном.
В 1952 году впервые бросают вызов Эвересту швейцарцы. В течение года они проводят подряд две экспедиции – в домуссонный и послемуссонный периоды. Весной они были очень близки к победе. Р. Ламбер и шерп Н. Тенцинг с кислородными аппаратами достигли той же высоты (8500), что и Д. Мэллори и Э. Ирвин двадцать восемь лет назад, поднимаясь через Южное седло. Восходителям было ясно, что на пути к вершине их уже не ожидают какие-либо непреодолимые технические трудности, но упущено было слишком много времени – начался муссон, и отважной двойке пришлось спуститься вниз, не достигнув цели.
Весной 1953 года англичане во главе с Д. Хантом “добили” Эверест. Через Южное седло, по пути, разведанному швейцарцами, на “третий полюс” земли ступили новозеландец Э. Хиллари и шерп Н. Тенцинг. Восходители пользовались кислородными приборами. В работе экспедиции принимали участие более тридцати шерпов.
Весной 1956 года тем же путём на Эверест удалось подняться с кислородом четверым швейцарцам.
В 1960 году в борьбу за покорение Эвереста включились китайские альпинисты. 28 спортсменов во главе с Ши Чжаньчунем в домуссонный период штурмовали вершину со стороны Тибета – по северному гребню. На Эверест поднялись трое восходителей. В западной прессе успех этой экспедиции до сих пор ставится под сомнение в связи с тем, что– китайцы не представили достаточно убедительных доказательств своей победы.
В дальнейшем неоднократно предпринимались попытки покорения Эвереста как по традиционному пути первовосходителей, так и по новым маршрутам.
Весной 1963 года на Эвересте работала экспедиция США из двенадцати спортсменов и тридцати пяти шерпов, возглавляемая Н. Диренфуртом. Т. Хорнбейн и В. Ансолд успешно штурмовали вершину по западному гребню и спустились с неё через Южное седло, совершив тем самым полный траверс Эвереста. Одновременно три американских альпиниста и шерп Н. Гомбу поднялись на вершину через Южное седло. Успех экспедиции был омрачён гибелью Д. Брайтенбаха на ледопаде Кхумбу.
В 1965 году в домуссонный период победу над Эверестом одержали восходители Индии, взошедшие на вершину через Южное седло. Самой высокой точки планеты достигли шесть индийцев и три шерпа. В этой экспедиции работали более сорока шерпов, причём 19 высотных носильщиков поднялись до штурмового лагеря (8510).
С 1969 года предпринимали попытки проложить свой маршрут к вершине Эвереста из Западного цирка японцы. Весной 1970 года трое японцев и один шерп достигли вершины по пути первовосходителей. Одновременно другая японская группа пыталась штурмовать Эверест по юго-западной стене, но отступила, достигнув высоты 8000 метров. В этой же экспедиции группа горнолыжников поднялась до Южного седла (7986), и Ю. Миура спустился с него на лыжах до Западного цирка. Погиб один японский альпинист и шесть шерпов.
Вслед за японцами преодолеть юго-западную стену Эвереста безуспешно пытались восходители международных экспедиций под руководством Н. Диренфурта (весна 1971 г.) и К. Херлигкоффера (весна 1972 г.), а также альпинисты Англии (осень 1972 р.). Наивысшей отметки (8380) удалось достичь весной 1971 года двойке Д. Уилланс – Д. Хэстон.
Весной 1973 года через Южное седло поднялись на вершину Эвереста пять итальянских альпинистов вместе с тремя шерпами.
Но по-прежнему внимание альпинистского мира приковано к не побеждённой до сих пор юго-западной стене. Осенью 1973 года японцам удалось подняться по ней лишь до 8300 метров. Одновременно двое спортсменов Страны восходящего солнца достигают вершины через Южное седло.
Весной 1975 года Эверест впервые штурмует женская экспедиция. Вызов гималайскому гиганту бросили альпинистки Японии. Юнко Табей вместе с шерпом Анг Церингом поднимаются на вершину. Экспедицией, в состав которой вошло 15 альпинисток, руководила Э. Хисано.
Альпинисты КНР снова штурмуют Эверест весной 1975 года и снова – по северному гребню. Девять спортсменов, в том числе вторая в мире женщина (тибетка Пхантог), достигают вершины. На этот раз, чтобы ни у кого не возникло сомнений в подлинности их восхождения, китайцы закрепляют на вершинных скалах Эвереста дюралевую треногу высотой 2,5 метра – триангуляционный знак.
Осенью 1975 года победно заканчивается наконец штурм юго-западной стены Эвереста, предпринятый англичанами во главе с К. Боннингтоном. Трое спортсменов – Д. Хэстон, Д. Скотт, П. Бордмэн – и шерп Пертемба поднимаются по снежно-ледовому кулуару в правой части стены на южную вершину и затем, по гребню, на главную. Тем не менее проблема скальной части юго-западной стены остаётся всё ещё не разрешённой.
В последующие годы, снова по классическому пути первовосходителей, на Эверест поднимаются альпинисты Англии, Непала, США, Южной Кореи, Австрии и ФРГ, причём Р. Месснер и П. Хабелер достигают вершины, не пользуясь кислородом на протяжении всего штурма. В составе этих экспедиций ещё двум женщинам – польке Ванде Руткевич и немке Ханнелоре Шмац (погибла при спуске) – удалось покорить Эверест. Французы Ж. Афанасьеф и Н. Жэжэ с 8000 до 6500 спустились на лыжах.
Весной 1979 года новый маршрут на вершину по западному гребню прокладывают югославские альпинисты. Вершины достигают четыре югослава и шерп Анг Пху, погибший на спуске.
Новое слово в покорении Гималаев удалось сказать полякам под руководством А. Завады. Первыми в мире они поднялись на вершину Эвереста зимой. Это восхождение было совершено Л. Чихи и К. Велицки через Южное седло. А через несколько месяцев (весной 1980 г.) поляки, руководимые тем же неутомимым А. Завадой, проложили новый маршрут на Эверест. По южному гребню на вершину взошли А. Чок и Е. Кукучка.
Этой же весной японцы штурмовали Эверест с севера. По северной стене на вершину поднялся Я. Като, а по северной стене с дальнейшим выходом на западный гребень – Т. Озаки и Т. Шигехиро.
Той же весной 1980 года победы добились и альпинисты Испании во главе с И. И. Л. Зугазой, взошедшие на Эверест по пути первовосходителей. На Эверест поднялись испанец М. Забалета и шерп Пасанг Темба.
Сенсацию вызвало восхождение на Эверест итальянского альпиниста Р. Месснера. Он поднялся на вершину по новому маршруту (северная стена). Рейнгольду Месснеру первому удалось покорить грозную вершину в одиночку в альпийском стиле и без кислорода, не прибегая к помощи высотных носильщиков. К тому же он первым решился бросить вызов Эвересту в период муссонов и достиг цели.
По примеру поляков, в начале 1981 года попытались совершить зимнее восхождение на Эверест и альпинисты Японии. Но им пришлось отступить. На спуске погиб Н. Такенака.
В этом же году по различным маршрутам штурмовали Эверест альпинисты Англии, Японии, Франции и США. Лишь трём американцам вместе с двумя шерпами (экспедиция под руководством Д. Уэста, осень 1981 г.) удалось взойти на вершину через Южное седло.
До штурма юго-западной стены Эвереста советской экспедицией (весна 1982 г.) на высочайшей точке планеты побывало 111 восходителей, из них шестеро– дважды: шерпы Наванг Гомбу (1963, 1965 гг.), Пертемба (1975, 1979 гг.), Анг Пху (1978, 1979 гг.) и Сондаре (1979, 1981 гг.), японец Я. Като (1973, 1980 гг.), итальянец австрийского происхождения Р. Месснер (1978, 1980 гг.). Четырежды вершины Эвереста достигли женщины – японка Юнко Табей (1975 г.), тибетка Пхантог (1975 г.), полька Вакда Руткевич (1978 г.) и западногерманская альпинистка Ханнелора Шмац (1979 г.).
Наши альпинисты с первой попытки успешно решили главную проблему Эвереста – подъём по юго-западной стене. К числу восходителей прибавилось 11 советских спортсменов. В состав советской гималайской экспедиции, руководимой Е. И. Таммом, вошло 27 человек (из них 17 спортсменов). Вместе с нашими восходителями на маршруте работало 11 высотных носильщиков, но вследствие технической сложности лишь двое шерпов сумели достичь высоты 7800, остальные участвовали в заброске грузов лишь до 7350. Нашими спортсменами были дважды совершены ночные восхождения (двойки С. Бершов – М. Туркевич и К. Валиев – В. Хрищатый). Штурм Эвереста был совершён в небывало трудных погодных условиях.
Весной 1982 года, одновременно с советской экспедицией, Эверест штурмовали с севера альпинисты США и Англии, но обе попытки успеха не имели и закончились трагически. У американцев, сорвавшись, погибла единственная участвовавшая в экспедиции женщина – М. Хэй, а у англичан с вершинного купола Эвереста сорвалась штурмовая двойка П. Бордмэн– Д. Таскер. Оба альпиниста погибли.
Осенью и зимой 1982 года Эверест атаковали альпинисты Канады, Испании, Голландии, Японии и Франции. Успеха добились лишь японцы и канадцы, поднимавшиеся через Южное седло. Но если участники канадской экспедиции (Л. Скреслет, П. Мороу и четыре шерпа) взошли на вершину осенью, то японец Я. Като – зимой (27 декабря). На спуске Ясуо Като вместе с Тосиаки Кабаяси (не дошедшим до вершины всего 85 метров) пропали без вести. Поиски их ни к чему не привели.
Весной 1983 года Эверест штурмовало две экспедиции. Безуспешно окончилась попытка американцев, возглавляемых Б. Крейгом, подняться на вершину по западному гребню. Экспедиция ФРГ – США, которой руководили Г. Лензер и Ф. Иршлер, одержала победу. По классическому пути, через Южное седло, вершины достигли шесть американских восходителей и два шерпа.
Таким образом, к осени 1983 года на вершину Эвереста поднялись уже 133 альпиниста из восемнадцати стран. Из них четверым удалось это сделать дважды, а двоим (японцу Я. Като и шерпу Сондаре) – трижды. Число жертв Эвереста достигло шестидесяти пяти человек.
Казалось бы, интерес к покорению Эвереста должен со временем ослабеть, но он, напротив, растёт. Так, в послемуссонный период 1983 года по разным маршрутам его штурмуют сразу несколько команд, причём ставят они себе всё более трудные задачи.
Так, японская экспедиция во главе с X. Иошино, в состав которой входят всего четыре альпиниста, собирается взойти на Эверест по классическому маршруту, через Южное седло, без использования кислородных аппаратов. Другая японская группа из пяти спортсменов, руководимая X. Кавамура, попытается подняться на вершину по юго-западной стене, и тоже без кислорода.
Три экспедиции предполагают штурмовать Эверест с севера, со стороны Тибета. Испанцы во главе с К. Бланхом планируют восхождение по северо-восточному гребню. Швейцарская экспедиция (руководитель Р. Нотарис) намерена взойти на Эверест по трёхкилометровой северной стене. Французская экспедиция, возглавляемая известным альпинистом Я. Сеньором, поставила себе чрезвычайно трудную задачу – траверсировать Эверест, поднявшись на него по западному гребню (по югославскому маршруту) и спуститься по северо-восточному гребню. Спортсмены намерены пройти весь траверс, не пользуясь кислородом.
Японские альпинисты, руководимые К. Такахаши, хотят покорить Эверест по классическому маршруту в декабре месяце, в суровых зимних условиях. Одновременно предполагается восхождение с китайской стороны другой японской группы во главе с женой К. Такахаши – М. Имаише. Супруги намереваются встретиться на высочайшей вершине мира в середине зимы.
А в 1984 году ради покорения ещё не пройденной восточной стены Эвереста выедут в Гималаи восходители ФРГ во главе с К. Херлигкоффером.
Кому и какой ценой удастся осуществить свои дерзкие замыслы, покажет ближайшее будущее.
Западный цирк и юго-западная стена
(Из дневника В. Шопина)
Самолёт Москва – Дели взлетает. Смотрим с Володей Балыбердиным друг на друга. И в глазах один и тот же вопрос: “Неужели действительно летим в Непал? Неужели позади все перипетии отборов и мы, в составе сборной команды СССР, летим, чтобы взойти на Эверест?”

Храм любви.
Если бы два года назад мне сказали, что меня зачислят в команду советских высотников, я бы, конечно, не поверил. Настолько далёкой казалась эта вершина, которую мы должны теперь покорить во что бы то ни стало. Отныне наш путь домой лежит через неё. Это прекрасно понимают пятеро пассажиров самолёта – передовая группа советской гималайской экспедиции. Кто же они?
Анатолий Георгиевич Овчинников. Нет в советском альпинизме титулов, которыми не обладал бы этот человек. О его упорстве ходят легенды. А в его превосходной физической подготовке каждый из нас имел возможность убедиться не единожды. Старший тренер экспедиции – это почётная должность, и он её заслужил. Овчинников – москвич, так же как Эдуард Мысловский и Николай Чёрный. Мы с Володей Балыбердиным (или попросту – Бэлом) представляем Ленинград.
До 24 марта нам нужно проложить путь через ледопад Кхумбу, о котором в альпинистском мире знают все. При упоминании Кхумбу воображение рисует хаотические многотонные глыбы вздыбленного льда, бездонные ледовые трещины, готовые в любую минуту поглотить человека, как бы силён и искусен он ни был.
Под крылом самолёта неторопливо проплывают облака, освещённые лунным светом. Они как горы, которые ты разглядываешь, пытаясь узнать пройденные тобой стены и стены, которые ждут тебя впереди, которые снятся иногда долгими зимними ночами...

Катманду. Королевский дворец Хануман Дхока.
Невольно вспоминается недавнее... Август 1980-го. Ущелье Ачикташ под пиком Ленина, база международного альпинистского лагеря “Памир”. Сюда собрали нас, будущих “гималайцев”, на второй тренировочный сбор. 40 спортсменов претендовало на место в сборной команде. Почти все – лидеры своих коллективов, призёры чемпионатов СССР. Практически все знакомы друг с другом заочно. Одни приехали сюда из экспедиций, другие – со сборов. И потому все такие худые, обросшие. Отсутствием аппетита никто не страдает. Разговоры в основном идут деловые. Подтверждается формула – друзья-соперники. Каждый город, каждая республика борется за право участия в экспедиции. Все приветливы, обходительны. Но каждый знает, что в команду будет отобрано всего 20 человек и четверо запасных (двойной состав). Пока тренеры – они же судьи предстоящих отборочных состязаний – намечают трассы, нам, участникам, предоставлено время привести себя в порядок, вновь обрести нормальный человеческий вид.
Распорядок дня жёсткий. Подъём в 6.30, затем– часовая зарядка. Сначала бег, изнуряюще быстрый получасовой бег. (Обычно на сборах в горах никто из нас не бегает, потому что негде.) После бега – гимнастика. После завтрака занимаемся подготовкой лагеря к зиме. За послеобеденным отдыхом – игра в футбол. Главная задача этого сбора для каждого – устоять.
После ужина собираемся в “кают-компании”, которой служит нам юрта. Здесь беседуем о тактике альпинизма, о произведённой в Непале разведке маршрута на Эверест, просматриваем слайды. Участники рассказывают о состоявшихся этим летом восхождениях на первенство страны, проводят разборы восхождений, иногда очень безжалостные: ошибок не прощают никому. Москвичи, из тех, кто был на Олимпийских играх, рассказывают о соревнованиях, которые удалось посмотреть. Времени явно не хватает, и мы засиживаемся допоздна.
С утра всё повторяется – зарядка, работы по лагерю, футбол, беседы в юрте. С нетерпением ждём начала соревнований. Каждый готовится к ним по-своему, зная свои слабые места. Кто по нескольку раз в день подходит к перекладине, кто бегает дополнительно, кто занимается лечением своих “болячек”, стараясь как можно быстрей восстановиться.
И наконец этот день настаёт. Определены нормативы и виды соревнований. Физическая подготовка включает в себя хорошо знакомые каждому упражнения – подтягивание на перекладине и отжимание от пола. Ожидает нас ещё и бег в гору с 3600 до 4200 метров.
Техническая подготовка оценивается по двум показателям – скальная техника и ледовая. Скальные соревнования проходили на крутых скалах справа от Луковой поляны. Состязались в связках с обязательной сменой ведущего. Ледовую технику демонстрировали тоже в связках на крутом 400-метровом ледовом склоне. Очень строго карались судьями ошибки в технике страховки.
Кроме физической и технической подготовки на распределение мест в списке претендентов влиял и так называемый “гамбургский счёт”, когда каждый выставляет места всем участникам, включая себя. Учитывалось и мнение обследовавшей нас комплексной научной группы (КНГ).
Но последнее слово оставалось всё-таки за тренерским советом. А он сделал свои выводы только в Москве, когда все мы уже разъехались по домам. Никто из нас не знал, кого допустили к следующему этапу отбора.
Потом нас собрали на медицинское обследование, которое проводилось в два этапа. Первый – в Московском врачебно-физкультурном диспансере № 1. Второй – в Институте медико-биологических проблем. Особенно запомнились здесь функциональные проверки на велоэргометрах и “подъёмы” в барокамере. Вероятно, потому, что за двенадцать лет занятий альпинизмом я впервые сел на велоэргометр и очутился в барокамере. Потом “подъёмов” в барокамере было много, и мы к ним привыкли. Но самым сложным был первый. Проверяли высотный потолок каждого, максимальную устойчивость организма к гипоксии. Сохранить (удержать) сознание при “подъёме” на большую высоту трудно. Наваливается сон, с которым приходится бороться, начинают мелко дрожать руки и ноги. Экзаменаторы контролируют твоё сознание с помощью несложных вопросов. Помню последний, когда я находился уже на высоте 9000 метров. “Восемь плюс шесть?” Отвечаю медленно: “Восемь плюс шесть будет... (долго думаю)... четырнадцать”. Испытал удовлетворение (всё же сообразил), приободрился. Чувствую, что начинаю впадать в забытье. Слышу: “Высота десять тысяч метров”. И тут я отключился. Когда вышел из барокамеры, мне сообщили, что на высоте 10 000 метров я “прожил” около минуты.
После этих обследований в феврале 1981 года мы поехали в Алма-Ату на зимний спортивный сбор. Врачи и здесь продолжали нас обследовать в спортивном диспансере при высокогорном катке Медео. На Тянь-Шане нам предстояло отработать гималайскую тактику восхождения, с которой мы до сих пор практически не сталкивались. Объектом восхождения избрали пик Комсомола. Нас разбили на три восьмёрки, и под руководством Валентина Иванова, Эдуарда Мысловского и Ерванда Ильинского на стене пика Комсомола мы начали постигать азы гималайской тактики. Вопреки желаниям тренеров погода стояла отличная. Ярко светило солнце, хотя и подмораживало. А тренеры наши оттачивали диспетчерские навыки, определяя, какой груз куда занести, в каких количествах, кому где ночевать, чем питаться. При таком обилии народа на одной горе рассчитать всё это далеко не просто. Основы гималайской тактики и заключались как раз в чётком взаимодействии всех групп на маршруте. Опыт этого восхождения очень пригодился нам на следующем сборе.
В июле 1981 года мы собрались на Памире, в городе Ош. Отсюда предстояло добираться машиной до города Дараут-Кургана в Алайской долине и далее – вертолётом на ледник Гармо, в ущелье Ванч-Дара, под пик Коммунизма. Задача – подняться на него с применением гималайской тактики.
До Дараут-Кургана доехали благополучно, но здесь застряли в ожидании лётной погоды и вертолёта. Палатки установили на аэродроме и вскоре занялись подгонкой снаряжения. Обсуждая конструкции различного снаряжения, не оставляли без внимания ни единой мелочи. Высказывался каждый. Времени у нас достаточно: погода не спешит с улучшением. По утрам с надеждой поглядываем на небо, но оно пока ничего хорошего не обещает.
Наконец появляется солнышко и вслед за ним – вертолёт. Желания альпинистов и вертолётчиков диаметрально противоположны. Мы мечтаем залететь как можно выше, они – как можно ниже, чтобы безопасней посадить вертолёт. Нашему руководству удалось всё же договориться о посадке нескольких рейсов на 4700. Это “Грузинские ночёвки”. Погода всё ещё неустойчивая, поэтому больше двух рейсов в день не получается.
Первой улетает группа Иванова. Она должна установить лагерь на 4700 и начать работу на маршруте. Парни отбыли под пик Коммунизма с недостаточным запасом продуктов; но погода вскоре ухудшилась, и вертолёт рейс за рейсом начал делать посадку не на 4700, а в Ванч-Даре. Мы сочувствуем ребятам. Постепенно вся наша команда вылетела в Ванч-Дару. Группа Иванова уже обрабатывала маршрут. Вскоре к ней присоединилась группа Ильинского, которой повезло сесть на вертолёте на “Грузинских ночёвках”. Мы (группа Мысловского) с Ванч-Дары (3600) до “Грузинских ночёвок” (4700) идём пешком. Это должно ускорить (сгладить) нашу высотную акклиматизацию. Четырнадцать часов изнуряюще медленной ходьбы по леднику Гармо – и мы добираемся до небольшой морены на леднике Беляева. Это и есть наш базовый лагерь – “Грузинские ночёвки”. В темноте ставим дополнительные палатки.
Наутро занялись благоустройством лагеря. Наш палаточный городок стоит на снегу. В большой палатке – кухня и столовая. Склады снаряжения и продуктов – в двух палатках поменьше. Участники сбора по три-четыре человека живут в каркасных палатках.
На этот раз мы должны отработать гималайскую тактику восхождения на южном контрфорсе пика Коммунизма. Один из сильнейших советских высотников Кирилл Константинович Кузьмин с группой проложил этот “путь” к высочайшей вершине СССР в августе 1959 года. Он так и называется сейчас – “маршрут Кузьмина” высшей категории сложности.
День за днём перетаскиваем грузы по маршруту, обеспечивая высотные лагеря снаряжением, топливом, продуктами питания. Первый наш выход – акклиматизационный, на высоту 5600. Затем подымались выше– на 6500 и 7100. К радости тренеров погода нас не балует: солнце выглядывает очень редко, сплошные облака, метёт снег. Но работы на маршруте не прекращаются. Неумолимо ползут к треугольной вершинной пирамидке верёвочные перила. Наконец все промежуточные лагеря установлены и обеспечены топливом, продуктами, спальными мешками. В верхний лагерь (7100) даже заброшен кислород. Необходимо испытать и кислородную аппаратуру. Перед штурмом все группы спустились для отдыха в Ванч-Дару.
Кроме нас в нашем районе работают команды Украины и Ленинграда. Они участвуют в первенстве СССР в высотном классе и готовятся подняться на пик Коммунизма по южной стене.
У нас первыми начали работу на маршруте алмаатинцы (группа Ильинского). В непогоду вышла на вершину и спустилась с неё группа Иванова. Ураганный ветер заставил их просидеть несколько суток в лагере 7100. Он буквально валил с ног, не позволяя выйти из палатки.
Когда, согласно графику, настало наше время выйти на восхождение, понадобилась срочная помощь ленинградским альпинистам. Кто-то заболел у них на плато пика Россия. Собрались мы очень быстро. На ходу получили консультацию, расписание связи. Мы должны были как можно быстрей обнаружить палатку на плато, закрытом облаками, и выяснить обстановку, оказав, если потребуется, помощь. С нами врач-альпинист Слава Онищенко. Путь наш лежит в противоположную сторону от пика Коммунизма. Спешим, идём без отдыха. После трёхчасовой ходьбы – короткий привал. Пьём сок, жуём сухофрукты и снова – вперёд и вверх. Нас четверо – Лёня Трощиненко, Володя Балыбердин, Слава Онищенко и я. Руководитель – Лёня. За нами более медленно идёт вторая группа под руководством Эдика Мысловского (Хута Хергиани, Лёша Москальцов, Валя Божуков и Валера Хомутов). Мы идём налегке, а группа Мысловского несёт палатки и продукты для ночёвки.
Ещё через несколько часов останавливаемся перекусить. И снова – вверх. Сегодня облака довольно низкие. На уровне 6000 метров резко холодает, и мы блуждаем в тумане. Чувствуем, что уже вышли на плато пика Россия, но видимости – никакой. Кричим, напряжённо вслушиваемся, но ответа нет. Идём дальше и снова кричим. И опять никто не отвечает. Блуждаем так ещё часа два. Кричим. Прислушиваемся... И вдруг – голос, откуда-то снизу. Движемся в его направлении. Перекликаемся. И натыкаемся на палатку. В ней двое больных. У одного пневмония, другой обморозился.
Мы оказали пострадавшим необходимую помощь в на следующий день привели их на “Грузинские ночёвки”. Опасность миновала. Больные чувствовали себя хорошо. Но спасательная операция заняла двое суток и время, необходимое для штурма вершины, было упущено. Пора было эвакуировать лагеря и уходить на Ванч-Дару.
Тренерский совет принял решение засчитать нашей группе восхождение, но это вызвало недовольство Федерации альпинизма. Главный вопрос – кто вошёл в окончательный состав команды – всё ещё не был решён.
В конце июля участники сборов улетели, а мы с Бэлом остались, чтобы совершить восхождение на пик Коммунизма по юго-западной стене в составе сборной Ленинграда. Команда, руководимая В. А. Солонниковым, участвовала в первенстве СССР в высотном классе. И то, что мы в этот сезон всё же покорили пик Коммунизма и к тому же стали чемпионами страны, очевидно, повлияло на решение тренерского совета гималайской экспедиции включить нас с Володей Балыбердиным в основной состав команды. Однако в основной состав сборной, утверждённый Федерацией альпинизма СССР осенью 1981 года, я не попал. Позже решено было добавить в гималайскую сборную ещё четырёх спортсменов. В этой четвёрке оказался и я.