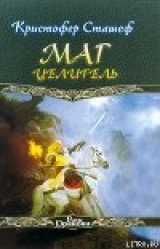
Текст книги "Маг-целитель"
Автор книги: Кристофер Зухер Сташеф (Сташефф)
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Ну, и еще, конечно, цветы. По каждому из древесных стволов вверх взбегала лиана, и каждую усеивали цветы всевозможных оттенков – голубые и лиловые орхидеи, алые и белые розы, желтые и оранжевые тыквенные цветы. Смотреть на беседку было радостно, а от цветочных ароматов кружилась голова.
Я просто представить себе не мог, как человек в такой атмосфере мог хоть чуточку работать, как мог помыслить о чем-нибудь, кроме секса.
Мы подошли к «парадной двери» – проему между двумя стволами, который был пошире остальных. Проем закрывала пышная ветка вечнозеленого дерева. Ветка отодвинулась, и мы оказались в спальне.
На самом-то деле в беседке, кроме этой спальни, других комнат и не было. Пол единственной комнаты усеивали горы подушек. Да, там имелся столик – низенький, чтобы удобно было лечь рядом и облокотиться на римский манер. Кроме столика, я заметил еще два предмета с горизонтальной поверхностью. Первый представлял собой скорее всего туалетный столик, а второй – шкафчик для вина. У дальней стены довольно большое пространство было отгорожено висячим ковром – вероятно, там располагалась гардеробная. Правда, хозяйка жилища не очень-то любила одеваться, так же как и те, кто был выткан на ковре.
Но большую часть спальни занимала огромная кровать с толстенным матрасом – такой мягкой и уютной кровати я в жизни не видел. Если на то пошло, казалось, что вся комната звала в эту самую кровать. Просто не верилось, что какой-либо мужчина может отказаться от всего этого.
Тем более странно было видеть около одного из «окон» письменный стол и табуретку, а на столе – свиток пергамента, залитый лучами солнца, а за столом – монаха в коричневом балахоне, увлеченно что-то пишущего гусиным пером.
Глава 26
Я смотрел на него.
Наверное, он почувствовал мой взгляд – а может быть, услышал, как мы вошли, а какой же мужчина мог удержаться от взгляда на Тимею? Но увидел-то монах не нимфу, а меня, Фриссона – исхудавшего, со впалыми щеками, увидел изможденного Жильбера. Монах изумленно уставился на нас. Лицо у него было округлое, черты приятные, однако тут и там залегли морщины страданий. В волосах, обрамлявших выстриженную тонзуру, серебрилась седина. Но вот он радостно улыбнулся.
– Ну и компания! – воскликнул монах. – Вот это радость так радость!
– Вот уж радость нашел! – фыркнула Тимея. – Неужели ты можешь так просто отвлечься от меня, буквоед!
– Нет, – ответил монах и устремил на нимфу влюбленный взгляд. – Когда ты со мной, я не в силах надолго отвлечься на что бы то ни было, красавица. И тогда мне не нужна никакая компания. Однако новизна – это всегда приятно, а новое общество даже полезно. Оно вдохновляет.
Тимея от удовольствия покраснела и потупилась. Я вынужден был отдать должное галантности и дипломатичности монаха. Как он тонко ввернул про «вдохновение». Теперь и нимфа не откажется поддержать беседу. Бедняжка, она не понимала, что монах имел в виду исключительно творческое вдохновение!
– Садитесь! Садитесь! – пригласил нас монах и указал на низенький столик. – Можно им сесть, правда ведь, моя госпожа?
– Пусть садятся, – неохотно буркнула нимфа. – Только пусть долго не рассиживаются. Есть дела, которые мне надо обсудить с тобой с глазу на глаз.
Ну, это дело ясное. Уверен, эту тему она могла мусолить до бесконечности – о том, как бы им остаться наедине. Ну, так, чтобы совсем-совсем наедине.
– Конечно-конечно, – не стал спорить монах, встал из-за стола и присоединился к нам, а мы тем временем расселись по-турецки.
Унылик смущенно топтался в дверях.
Я бросил взгляд в сторону письменного стола. Последние научные изыскания – вот замечательная тема для беседы, пусть даже вам ответят так, что вы ни черта не поймете.
– Над чем вы сейчас работаете?
– Всего лишь переписываю требник, – ответил монах и, видимо, прочитав столь ярко выраженное разочарование на моей физиономии, тут же пустился в объяснения: – Это книга, в которой содержится мое послушание – все молитвы, которые я должен читать каждый день и обдумывать.
– Понятно, – кивнул я, – и сколько же времени это у вас отнимает? Сколько часов в день, я хотел спросить?
Монах пожал плечами.
– Не более часа.
Час? Целый час молитв каждый день? Я подавил дрожь и придумал новый вопрос:
– А зачем вы молитвы переписываете?
– О, это я делаю для того, чтобы не забыть их, – на тот случай, если добрая Тимея продержит меня здесь слишком долго.
– Продержу, – буркнула нимфа и скорчила гримаску. – Ты только и делаешь, что сидишь, уткнувшись носом в эту противную пыльную книжку.
– Увы! – кивнул монах и посмотрел в глаза нимфы. И вдруг я все понял. Это послушание было единственным, что не давало монаху поддаться чарам нимфы. Читал он, вероятно, куда дольше, чем час в день.
– Выпей, гость мой, – промурлыкала Тимея и поставила на стол сосуд с янтарной жидкостью.
В глубине сосуда сверкало золото, поверхность искрилась солнечными зайчиками. Если это и не было приворотное зелье, то по виду – оно самое.
– Как любезно с твоей стороны, – сказал монах. – Нальешь, красавица?
Тимея взяла сосуд и наклонилась над столиком. В это мгновение на нее посмотрел Жильбер и отвернулся. Фриссон же готов был отдать концы от страсти.
– Этим придется пить из одной чаши, добрый человек, а мы с тобой разделим другую. У меня всего две чаши.
– Ничего, мы обойдемся, – заверил я хозяйку и поднес чашу к губам.
Желудок мой, получив удар, подпрыгнул. А голова как будто вмиг лишилась затылка. Кокосовое молоко? Это точно! Ферментированное кокосовое молоко, крепостью в сто градусов, не меньше. Что-то вроде натурального «пинья колада», и вдобавок у напитка был цитрусовый привкус.
Фриссон потянулся за чашей, но тут до меня дошло, до чего мог довести любой напиток в доме Тимеи, и я прикрыл чашу ладонью.
– Не надо, парень, – сказал я, – тебе уже и без того худо.
И заработал злобный взгляд нимфы.
Монах не обратил на это никакого внимания.
– Что привело вас на этот остров? – поинтересовался он.
– Неверный ветер, – ответил я. – Но я изменил его направление.
Я-то ожидал, что монах удивится, станет подозрительно смотреть на меня, а он только кивнул, будто все понял.
– Стало быть, ты чародей, – сказал он. По спине у меня пробежали мурашки. Этот парень был слишком догадлив.
– Да нет, не совсем так. На самом-то деле я даже не верю в волшебство. Просто притворяюсь, когда приходится, когда не оказывается другого выхода, – бывает, и прочту стишок-другой.
Монах удивленно улыбнулся. Я ощутил легкое раздражение, но вынужден был признаться: проистекало оно большей частью из стыда. Мне и самому показалось, что мое заявление прозвучало глуповато.
– Можно примириться с самим собой, – проговорил монах. – Но найти примирение сразу и с Богом, и с Сатаной невозможно.
– Погоди! – воскликнул я. – Сейчас ты начнешь утверждать, что середины не существует? Что всякий либо на сто процентов хороший, либо на сто процентов плохой? Спасибо, братец, не надо!
Взгляд монаха застыл. Он смотрел мне прямо в глаза, а у меня было такое чувство, словно он пытается заглянуть мне в мозг.
– Почему ты думаешь, – проговорил монах, – что я не принес последнюю клятву?
Настал мой черед гадать. Я смотрел на монаха и поспешно соображал, вспоминая все, что знал по средневековой истории. Я не был католиком, но толку-то – правда, я что-то такое припоминал про разницу между монахами и священниками. Я сказал «брат», а он решил, что я употребил его титул, или я так думал, что это и есть его титул или звание.
Или... или он хотел, чтобы Тимея думала, что его звание именно таково.
Вот как! Значит, брат пока не принес последней клятвы. Может быть, имелся в виду обет безбрачия?
Ладно. Я вовсе не собирался снимать завесу с его тайны.
– Ясно. Стало быть, вы не брат, а отец. Но вы не мой отец, святой отец!
– Но всякий священник – твой духовный отец.
– Только в том случае, если бы я принадлежал к вашей Церкви, а я к ней не принадлежу.
Жильбер вспомнил:
– Язычник!
Монах, не спуская с меня глаз, поднял руку.
– О нет, правоверный брат – ведь ты же брат, я вижу это по твоей тонзуре. Нет, наш друг на самом деле может быть истинным христианином, но принадлежать к восточной церкви. Не так ли, чародей?
Я попытался соображать быстрее. Насколько далеко на восток простиралось предположение монаха? В конце концов, церковь моих предков зародилась в Новой Англии, вернее – в самой Англии, а уж это было далеко-далеко на востоке от того места, где я находился сейчас, – если, конечно, не полениться и обогнуть почти весь земной шар.
– Другая секта, – кивнул я. – Другая ветвь христианства. Я был воспитан в ее лоне. Это точно.
Монах нахмурился, словно уловив примиренческий мотив, но сказал только:
– Не могу же я называть тебя просто «чародей». Мое имя – брат Игнатий. А твое?
– Его зовут чародей Савл, – встряла Тимея, решившая почему-то вмешаться в наш разговор. Я заметил, что спокойствия у брата Игнатия от этого не прибавилось. – А это его товарищи – сквайр Жильбер и шут Фриссон. А того урода гиганта, что топчется у дверей, он называет Уныликом.
– Похож, – кивнул брат Игнатий, с радостью отводя глаза от Тимеи и переводя на тролля. – Как это вышло, что он стал служить тебе?
– Он пытался съесть меня, когда я переходил через мост. А я впервые попал в вашу страну и ничего не знал о троллях. Совершенно случайно вызвал эльфов, а они наложили на тролля заклятие. Теперь он больше не ест людей и вдобавок обязан служить мне.
– А я-то думала, что это на нем за непонятное заклятие такое, – состроила гримаску Тимея. – Но мне показалось, я его сняла. Как же так вышло, что заклятие снова связало его? Ты не мог бы это объяснить, брат?
Конечно, Тимея не случайно переадресовала вопрос монаху. Из вежливости Игнатий вынужден был посмотреть на нимфу. Лишь на долю секунды взгляд монаха скользнул к декольте Тимеи, но тут же вернулся к лицу и как бы уцепился за него. Лицо монаха напряглось, и я понял, откуда взялись глубокие морщины. Он был верен всем своим обетам, но он столь страстно желал нимфу, что это причиняло ему почти физическую боль.
И она это тоже знала, ведьма такая! Улыбка ее подогрелась на несколько градусов, ресницы опустились, губы, казалось, стали еще более пухлыми и влажными. Она склонилась ближе к Игнатию, но тот, не отрываясь, смотрел ей в глаза. Я мог только восхищаться столь совершенным самоконтролем.
Фриссон застонал от страсти.
– Могу лишь высказать догадку, о прекрасная наша хозяйка, – произнес брат Игнатий чуть надтреснутым голосом. – Вероятно, наш друг, чародей Савл, вновь наложил это заклятие.
– Но как это ему удалось? – проворковала Тимея и дотронулась до руки монаха. – На моем острове должны властвовать мои, и только мои, чары.
Рука монаха не дрогнула, но он содрогнулся всем телом.
– Бывает такое волшебство, которое пересиливает любые чары независимо от того, где произнесены заклинания, милая хозяйка.
На слове «милая» голос его стал мягче и ласковее, но он продолжал смотреть Тимее в глаза. Между тем монах явно охрип, и в позе его чувствовалось напряжение.
– Но ведь есть такие заклинания, которые должны усиливаться, когда я рядом, – продолжала мурлыкать нимфа. – Разве они не главные здесь, в моем саду?
Монах отозвался почти что стоном:
– Нет, милая дама. Дело в том, что тот, кого заклинают, также может поспособствовать силе заклинания. Если тролль пожелал, чтобы заклятие было восстановлено, то его воля прибавилась к заклинанию чародея.
Тут можно было бы добавить, что, раз уж брат Игнатий твердо решил не поддаваться чарам Тимеи, она была бессильна, а Фриссон поддался этим самым чарам настолько, что нимфа могла из него хоть веревки вить.
Я не переставал восхищаться братом Игнатием. Либо сила его воли равнялась добродетели святого, либо он и сам был кем-то вроде волшебника. Я решил помочь ему.
– Все верно, – подтвердил я. – Понимаете, вышло так, что Унылик полюбил меня за время наших странствий. И он сам попросил восстановить заклятие.
Моя фраза дала возможность монаху отвернуться от Тимеи, и ее чары были тем самым разрушены. Она метнула в меня взгляд, похожий на удар кинжалом. Я почувствовал, как боль сверху донизу пронзила всю мою нервную систему. Но тут брат Игнатий произнес:
– Вот именно. Его воля придала силы твоему заклятию. И вышло так, что против власти Тимеи выступил не ты один, а сразу двое.
Уж не просит ли он меня о помощи?
– Похоже, вы много знаете о волшебстве, брат. Вероятно, вы тоже чародей?
Но он покачал головой:
– О нет, я только учусь, господин чародей.
– Да какой я господин! Я и сам-то... ну, практикант в лучшем случае.
Монах улыбнулся.
– А я занимаюсь тем, что изучаю волшебство – принципы и результаты его действия. Я многое мог бы рассказать об этом, но у самого меня таланта нет.
– Таланта? – удивился я. – Разве тут нужен какой-то особый талант?
– Конечно. Как в любом искусстве.
– А-а-а. Ну да. – Я сглотнул слюну и собрался с мыслями. – Я просто подумал, что в этом деле... как бы... больше от науки.
– Странное ты выбрал слово, – ответил брат Игнатий. – Однако «наука» означает «знание», и, безусловно, практика волшебства также требует знаний – по крайней мере если ты стараешься не наделать бед.
– Но там, откуда я родом, «наука» означает всего лишь массу накопленных фактов. Наука их организует и обобщает и разрабатывает законы действия сил.
Брат Игнатий медленно запрокинул голову.
– Восхитительно! – прошептал он. – Как раз к такому подходу я и стремлюсь.
Я начинал понимать, почему Король-Паук послал нас к нему.
– Но если вы выведете эти самые законы и методы, волшебство станет доступно любому, и никакого таланта не потребуется!
– Талант нужен в любом деле, господин чародей, – возразил брат Игнатий. – Бывают таланты, на которые мы не обращаем внимания, поскольку некоторые дела кажутся нам слишком простыми. Правда, мало кто совсем не умеет готовить еду, однако попадаются и такие, кто не в состоянии даже яичницу поджарить, сколько бы ни учились этому и сколько бы ни старались. Мало кто не сумеет вбить молотком гвоздь в деревянную чурку, а между тем всегда отыщутся такие, кому это ни за что не удастся. Да-да, попадаются такие люди, кому не удаются самые обычные дела – у них нет к ним таланта.
Тут я припомнил, как пытался самостоятельно починить свой автомобиль, и счел за лучшее промолчать, тем более что, помимо прочего, монах упомянул кулинарию. Лучше и не вспоминать, что случилось в последний раз, когда я пробовал сварить рис.
– А у вас, стало быть, нет таланта к волшебству?
– Ну, не то чтобы совсем нет. – Брат Игнатий смущенно махнул рукой. – За счет упорных занятий мне удалось придумать несколько несложных заклинаний. Но любой крестьянин способен приготовить настой из нескольких целебных трав, бормоча при этом заговор, чтобы вылечить растяжение связок или простуду.
– Нет, правда?
Фармацевтические компании у меня на родине дорого бы заплатили за парочку таких рецептов.
– А ты не знал об этом? – Брат Игнатий пристально посмотрел на меня. – Но между тем устоял против самого худшего из заклинаний Тимеи.
Откуда это было ему известно? Наверное, речь шла о вышеупомянутых «простеньких» заклинаниях.
– Воистину ты могучий чародей, – продолжал брат Игнатий. – У тебя великий дар, господин Савл.
– Ой, да ладно... – Я скромно потупился. – Ничего такого...
– О, совсем наоборот, – нахмурился брат Игнатий. – Но неужели ты действительно так мало знаешь о том, чем занимаешься, господин Савл? – Он вдруг выпрямился, словно что-то неожиданно вспомнив или поняв, и посмотрел на меня более внимательно. – Откуда ты?
Секунду я смотрел монаху в глаза и соображал, как лучше ответить. Потом я решил, что терять мне, собственно, нечего, и ответил:
– Из другого мира.
– Правда? – вырвалось у монаха. – И там волшебство действует совсем по-другому?
– Я бы сказал, что там оно вообще никак не действует. На самом деле мы там научились обходиться безо всякого волшебства. Мы изучаем окружающий мир и организуем полученные знания в науки. Пожалуй, мы заменили силу волшебства знаниями и умениями, но все равно выходит так, что мы творим кое-какие чудеса.
– С таким образом мыслей да с талантом в придачу в таком мире, где волшебство действует... нет, нечего и дивиться тому, что ты могучий чародей, хотя и знаешь об этом искусстве так мало!
Монах глянул на Тимею и покраснел. Он опустил глаза, а она вся подобралась, и глаза ее зажглись тревогой.
Все было ясно и без слов. Он хотел сказать: «Ты можешь вытащить меня отсюда?»
– Как это, как это? – вмешалась Тимея. – Во всем мире вряд ли отыщется мужчина, который не отдал бы все за то, чтобы оказаться на твоем месте и отведать моих прелестей! А ты, а ты! А ну, признавайся, бритоголовый! Разве ты не сгораешь от желания обнять меня? – Голос нимфы стал тише, сладострастнее. – Разве ты не жаждешь погладить, приласкать меня, коснуться моего тела, прижаться губами к моим губам, а потом...
– А потом, согрешив, погибать от раскаяния? – простонал монах. – Перестань меня мучить, красавица! Молю тебя, перестань!
– Я выполню твое желание, когда ты выполнишь мое! – Голос нимфы стал подобен тончайшему шелку. – Скажи правду, Игнатий! Разве ты не жаждешь изучить прелести моего тела?
– О Господи, жажду! – простонал монах. – Когда ты рядом, моему разуму только того и надо, что видеть, слышать, обонять тебя! Но душа моя рвется к Небесам! Не искушай меня, о прелестная, ибо твои чары – только мука для того, кому нельзя обладать тобою!
– Можно! – выдохнула нимфа и коснулась его руки своей нежной ручкой. – Я твоя – только скажи!
– Нет! Я должен быть верен своему обету!
– Как хочешь... – проворковала нимфа и прижалась к монаху.
Игнатий вздрогнул и возопил:
– Нет, не как я хочу, а как я поступлю! О, как жестока ты ко мне, прекрасная нимфа, – ты мучаешь меня радостями, от которых я отказался! Прекрати эту сладостную пытку, молю тебя.
– Ах так? Ты сказал, что будет так, как ты поступишь? – прошипела задетая за живое нимфа и вдруг из источника вожделения превратилась в самую обычную красивую женщину. – Я ничего не могу с тобой поделать, пока ты упрямишься. С тобой с ума можно сойти, Игнатий!
– Сожалею, что приношу тебе боль, – прошептал монах и опустил глаза.
– Не больно-то ты сожалеешь, – буркнула нимфа, и вновь в ее взгляде я увидел оскорбленные чувства. И тут я все понял.
– А, да он тебя интригует, верно? Единственный мужчина, устоявший перед твоими заигрываниями?
– Глупец! – простонал Фриссон.
– Нет, были и другие, – ответила Тимея, и казалось, слова ее сгорают и пеплом осыпаются с губ. – Был один мужчина, у него еще так странно горели глаза... он напал на меня и колотил, пока я не вырвалась и не убежала. Я его нашла среди обломков корабля, который притянула к острову, вызвав на море шторм. Был еще один монах, послушник в белой рясе, – этот обзывал меня дьяволицей, суккубом и все пытался истребить меня длинными злобными стихами. Пока он тут жил, остров опустел и почти превратился в пустыню.
Хотел было я спросить, сколько времени это продолжалось и какой смертью умер тот монах, но передумал.
А брат Игнатий качал головой и бормотал:
– Я бы такого никогда не сделал, нет! Нет, она добрая женщина, она чудесная женщина, и я должен признаться в том, что обожаю ее.
– Но все же не настолько, чтобы предаться похоти, – резюмировала нимфа, сардонически усмехнувшись. – Что за новое чувство ты взрастил во мне, монах? Прежде я никогда не смеялась над своими неудачами.
– Обидно, да? – спросил я.
– Он терзает меня безмерно, – согласилась нимфа. – Но не так, не так, как мне хотелось бы. Поэтому я не отпущу его и буду держать здесь, покуда он не отдастся своим чувствам. Тогда он по-настоящему полюбит меня и позабудет и о клятве, и даже о своей вере.
– Поскольку одно следует из другого, – пробормотал я себе под нос... – А ты никак не можешь пережить, что тобой пренебрегают, да? Не можешь хоть немножко воздержаться и не грешить?
Тимея пожала плечами. Остальные части ее тела также пришли в движение, и, надо сказать, вышло это весьма гармонично.
– Ну... если бы тогда... когда он только-только тут появился... тогда еще может быть, а теперь – теперь задета моя гордость. Мне нужно, чтобы он был мой, мой до конца.
– Я готов! Я твой до конца! – воскликнул Фриссон, сверкая глазами.
Тимея только взмахнула ресницами да лениво усмехнулась.
– Премного благодарна, песнопевец... Однако гордость мою оскорбил не ты, а он. О нет, я должна стать для него важнее всего в жизни, иначе я буду чувствовать, что ни гроша не стою как женщина.
– Стоишь! Ты очень даже стоишь! Ты мила и добра! – Брат Игнатий чуть было не взял нимфу за руку, но вовремя передумал.
– «Милая», – передразнила нимфа. – Это все ерунда. Да и доброта, как ты ее понимаешь, – это не по мне.
– А он тебе, что называется, под кожу забрался с самого начала, верно? – спросил я у нимфы.
– Да, но только иносказательно, в этом вся и жалость. О, поначалу он для меня ничего особенного не значил – всего лишь очередная жертва кораблекрушения... И совсем он меня не интересовал. Я забавлялась со всей командой во главе с капитаном. Но когда они мне надоели и я их отпустила, лишив возможности впредь портить девственниц...
– Ты лишила их желания? – воскликнул я. Нимфа цинично улыбнулась.
– Знай, презренный мужчина, что, когда мечты исполняются, они умирают.
А я гадал, что же такое она сделала с теми несчастными моряками. То ли они настолько пресытились любовными утехами, что больше им уже и захотеться ничего не могло? То ли настоящие женщины слишком много теряли в сравнении с ней?
– Они надоели тебе – так ты сказала? И что ты с ними сделала?
– Да ничего. Отправила вещички собирать, – небрежно ответила Тимея. – Волшебством починила их корабль. Мой остров восполнил их запасы провизии. А я пожелала им попутного ветра и прогнала их корабль от острова. Они уплыли, полные целомудрия и нежелания насиловать женщин.
Конечно, они бы запросто могли организовать насильническую кампанию ради того, чтобы доказать самим себе, что они еще мужики, но не думаю, чтобы Тимею это волновало. Вообще-то я сильно сомневался, что ее волновало что-либо, кроме ее самой.
– А потом ты обнаружила, что брат Игнатий тебя не хочет.
– Да, – сердито кивнула нимфа. – Его я никак не могла соблазнить и именно поэтому стала обожать. Он меня поразил. И когда я распрощалась с его товарищами, я его оставила здесь, чтобы развлекаться. Но никакого развлечения не вышло – одно только расстройство.
– Боюсь, так все и останется, – вздохнул брат Игнатий. – Мои соболезнования, красавица.
– Но ты приняла вызов, – догадался я.
– Верно, – кивнула Тимея. – И он тоже наверняка принял мой вызов, хотя и помалкивает.
Я все понял. Она беззаветно верила в свои женские чары. Но у этой веры были свои пределы. И как раз там, где вера нимфы в себя кончалась, начиналась полнейшая неуверенность, настоящий мыльный пузырь. Брат Игнатий проколол этот мыльный пузырь своим отказом от прелестей нимфы и превратился в вопиющий вызов ее самолюбию. И теперь для того, чтобы снова уверовать в себя, уверовать в то, что она неотразимая, роковая женщина, оставалось только одно – соблазнить монаха. А он никак не соблазнялся, вот и выходило, что Тимея день за днем все больше разочаровывалась сама в себе.
Однако к чести брата Игнатия надо было заметить: он разработал потрясающую технику отказов. Всякая женщина на месте нимфы уже давно почувствовала бы себя польщенной и отказалась бы от своих притязаний, при этом не обидевшись.
Но Тимея была нимфой, и к тому же она была реальна. Я печально покачал головой.
– Жаль тебя огорчать, но, видимо, ты обречена на разочарование.
– Ни за что не сдамся до тех пор, пока не сдастся он! – упрямо заявила нимфа.
– Твое упорство похвально, – сказал я. – Но тебе недостает здравого смысла (это я так надеялся). В любом случае, боюсь, я не позволю ни тебе, ни ему доказать, кто из вас победит. Мне нужна помощь брата Игнатия.
– А я не позволю тебе разлучить меня с моей единственной любовью! – вскричала нимфа.
– Придется, – вздохнул я. – Потому что я чародей – не забыла?
Нимфа прищурилась, вскочила, запрокинула голову, раскинула руки так, словно хотела обнять весь небосклон. Зрелище получилось захватывающее, однако я был к чему-то в таком роде готов, поэтому стихи у меня как бы сами сорвались с губ:
Обманутым это понравится,
Их тем утешаю я:
Безжалостною Красавицей
Повелеваю я!
Тимея застыла, потом медленно опустила руки и потупилась. Она смотрела на меня с нескрываемой ненавистью и отвращением.
– Приказывай, – сказала она голосом, в котором притаились слезы. – Я должна тебе повиноваться.
– Приказываю тебе отпустить этого монаха.
– Что ж, повинуюсь, – с жуткой неохотой проговорила нимфа и повернулась к брату Игнатию. – Мной повелевают, – сказала она. – Поэтому я не повелеваю тобой. Ты свободен и можешь уходить.
Надо было видеть, какой радостью, каким облегчением осветилось лицо монаха. Нимфа увидела это, и ее лицо исказилось болью. Брат Игнатий вскочил на ноги и принялся жалобно восклицать:
– О несчастная блудница! О, если бы я только не успел принести свой последний обет! Тогда я предался бы страсти с тобой! Но я – человек, посвятивший себя Господу и целомудрию! И все же сердце мое сжимается от боли, когда я смотрю на тебя!
Похоже, нимфе стало немножко лучше. Игнатий схватил Тимею за руку. Глаза его горели страстью.
– Никогда мне не забыть этих чудесных дней, не забыть часов, что мы были рядом! О нет, каждая минута рядом с тобой была такой радостью, таким счастьем, что я даже испытывал боль, я благодарен тебе: ты позволила мне отведать благодати! Я никогда не забуду тебя и всегда буду лелеять воспоминания об этих дивных месяцах!
На лице нимфы не осталось и следов боли, но видно было, что внутри у нее так и кипит желание. Она не могла глаз отвести от Игнатия.
А он заставил себя отвернуться.
– Чародей! – взмолился он. – Сделай что-нибудь, чтобы она не так сильно страдала. Можешь ли ты подарить ей забвение?
– Устроить небольшую амнезию? Вообще-то из элементарного чувства жалости можно было бы снизойти. И потом, нельзя же было позволить ей мстить морякам и мешать навигации – она наверняка попытается удовлетворить уязвленное самолюбие. Я обернулся к Фриссону.
– Поможешь, Фр... о-о-о...
Физиономия у Фриссона настолько ярко выражала бушующие в его душе страсти, что он напоминал почуявшего дичь бладхаунда. Выпучив налитые кровью глаза, он пялился на Тимею.
– Нет-нет, я уж лучше сам что-нибудь придумаю, – торопливо проговорил я, обернулся к несчастной парочке, вспомнил вечеринки в разных кофейнях и разразился куплетом из старинной народной песенки:
У меня в садочке,
У меня в садочке
Дивный цвел тимьян.
Но украл цветочек,
Но украл цветочек
Дерзкий хулиган ..
Все сбылось быстрее, чем я ожидал. Я еще и допеть-то не успел, а этот самый «дерзкий хулиган» уже тут как тут – его голова возникла над вечнозеленой изгородью около беседки. Вскоре он появился целиком: влез на дерево, уцепился за ветку и спрыгнул на землю. Росточком он был чуть-чуть пониже Тимеи, если не считать рожек – коротеньких козлиных рожек. Ножки у «хулигана» тоже были козлиные и заканчивались копытцами. С ног до головы существо поросло густой длинной шерстью и, естественно, не нуждалось ни в какой одежде – не только не нуждалось, оно ее и не имело. Лишь на груди у него на шнурке болталась сиринга – флейта Пана.
Тимея глянула на нежданного гостя. Сначала бегло. Потом более внимательно.
Я задумался, нужен ли второй куплет, но на всякий случай пропел:
У меня в садочке,
У меня в садочке
Роза расцвела.
Я ее сорвала —
Больно укололась,
К ивушке пошла.
– Ах! К иве! К символу печали всех влюбленных? – горько вздохнула Тимея. – Ну, прямо про меня!
– Чегой-то! Уж не опечалилась ли ты часом? – воскликнул фавн и одним прыжком оказался рядом с нимфой. – Печаль надо прогнать. Такое личико, как у тебя, должно быть беззаботным.
Тимея посмотрела на фавна – комплимент на нее подействовал. Но она ответила:
– Эй, да кто ты такой? Откуда взялся? Ишь как разговорился! Маленький еще!
– Может, и так, только овечки меня уже слушаются, – отозвался фавн, лукаво усмехнувшись. – Так что берегись, прелестная распутница, скоро я подрасту.
– Ничего не поделаешь, – притворно вздохнула нимфа и жестом отослала фавна прочь. – Ступай, ступай отсюда, испорченный малыш!
– Вот те раз! – огорчился фавн и умоляюще поглядел на меня. – Не поможешь, а, чародей?
– Может, и помогу, – ответил я.
Опустел садочек,
Опустел садочек,
В нем один бурьян,
С той поры как дерзкий
Хулиган премерзкий
Тут сорвал тимьян.
– Что за чепуху ты порешь? – возмутилась Тимея, не понимая смысла куплета, но фавн уже поднес к губам флейту и заиграл.
Полилась удивительно приятная, печальная мелодия, полная страсти, так несвойственной возрасту фавна. Казалось, флейта выговаривает слова, рассказывает историю о неудовлетворенном чувстве, о неразделенной любви.
Тимея изумленно уставилась на юного фавна.
Фавн покачивался из стороны в сторону, а потом задвигал копытцами, начав медленный танец.
Тимея как завороженная следила за ним взглядом. Печаль совершенно покинула ее лицо, и она тоже начала покачиваться в такт мелодии.
Я протянул руку и ухватился за один из трех столбов, на которые опирались своды беседки. Музыка наполняла меня, проникала в тело и вызывала в нем жгучую боль.
А Тимея раскачивалась все сильнее. Вот и она стала переставлять ноги с места на место, подхватив танец фавна. В музыке послышался трепет надежды – движения фавна стали более откровенными. Тимея вторила ему – она все шире раскачивала бедрами, тело ее извивалось, веки отяжелели, на губах заиграла понимающая улыбка...
Кто-то застонал у меня за спиной. Я узнал голос Фриссона.
Танцующая парочка сблизилась. Они извивались и качались, приближались друг к другу и отступали. Резко запахло мускусом. Танцоры двигались в унисон – казалось, будто бы двумя телами управляет единый разум.
Краешком глаза я видел Фриссона. Глаза поэта, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Еще мгновение – и он потеряет рассудок.
Тимея коснулась брошки, скреплявшей ее платьице на груди.
– Пора идти. – Я решительно схватил Фриссона за руку и потянул, но он будто корнями врос в землю. – Жильбер! – крикнул я. – Помоги мне!
Сквайр встряхнулся, очнувшись от транса. Он покраснел, кивнул и схватил Фриссона за другую руку.
– Поднимай! – распорядился я, и мы вместе поволокли окаменевшего поэта к выходу.
В глотке у Фриссона родился отчаянный вопль, добрался до губ и вырвалось:
– Не-е-е-е-е-е-т!
– Шагай давай! – прошипел я сквозь стиснутые зубы.







