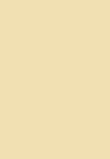Текст книги "Список"
Автор книги: Крис Картер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Файл № 305 СПИСОК
Ист-Пойнт, округ Леон Тюрьма штата Флорида
Сэм Бакли, директор тюрьмы Ист-Пойнт, ненавидел заключенных. Он не был злым или порочным человеком; его любили друзья, любила, несмотря на семнадцать лет брака, жена, а двое сыновей просто души не чаяли. Но он очень удивился бы, если бы кто-то сказал ему, что к отбросам общества можно относиться как-то иначе, без ненависти. Бакли давно перестал роптать на судьбу, которая, скользко вывернувшись из его сильных и умелых, но оказавшихся совершенно беспомощными рук еще четверть века назад, сделала его не Рокфеллером или Гейтсом, не сенатором, не астронавтом и не музыкантом, а всего лишь маленьким властелином вонючей, обнесенной колючкой монархии. Он давно смирился и даже научил себя время от времени получать хоть какие-то удовольствия от своего положения: в стране слепых и кривой – король. Его аппарат состоял не из ангелов – однако трудно было бы требовать этого от людей, весь труд которых день за днем, день за днем посвящен подонкам. Что греха таить – ангелы не могут держать подонков в узде. А подданные его были подонками. По определению. В тюрьме штата, занимавшей площадь меньшую, чем иной городской квартал, обитало сволочей и паскуд не меньше, чем во всем остальном штате (хотя, если прикинуть честно, то и не больше, на воле их тоже хватало); в каждой клетушке, на каждом квадратном ярде здесь сопел и чавкал растлитель, убийца, вор, мошенник, извращенец, маньяк и снова убийца… и при том все они прекрасно знали свои права, все, чуть что, орали про адвоката и про встречные иски к тюремному начальству и разговаривали так, будто они – ровня нормальным, порядочным людям. За это, пожалуй, Бакли ненавидел их больше всего.
Поначалу он с трудом удерживался от того, чтобы не спросить очередного сучонка в лоб: «Когда ты насиловал эту девочку, ты помнил про ее права? нет? так какого черта помнишь сейчас про свои?» Но даже в молодости он понимал, что это бессмысленно. Если человек совершил преступление и при том не чувствует себя виноватым – от душеспасительных бесед о совести и покаянии он лишь пуще злится и звереет. «Мне пора в спортзал, мать твою! – ответит он. – Мне положено два часа в спортзале, чтобы у меня не хирели мышцы!» Как он начнет пользоваться этими мышцами по отбытии срока – лучше было и не интересоваться. И без того понятно. И после такого обмена репликами останется два пути – либо утереться и сделать вид, что ничего не произошло (а тогда эти скоты, большую часть из которых составляли так называемые «афро», то есть попросту ниггеры, наверняка окончательно распояшутся), либо мигнуть кому-нибудь из помощников, чтобы свели наглеца вниз, в душевые, и там отделали как следует. Ни утираться, ни мигать Сэм не любил. Он честно выполнял свой долг. По возможности.
И к тому же, при всей своей ненависти к подопечным, он не любил смертных казней. Они были редкими – но были, были… Сэм Бакли предпочел бы сажать скотов пожизненно в какой-нибудь темный и тесный подвал, безо всяких спортзалов и свиданий, без телефонов и адвокатов, и пусть бы они там парились, размышляя о своих поступках, пока самим не надоест. В молодости он был уверен, что убийц, например, или насильников-маньяков надо истреблять. Просто истреблять. Как вредных насекомых. Позже, посмотрев, как это выглядит на деле, он изменил свое мнение. Насильственная смерть слишком отвратительна, противоестественна и, что греха таить, богопротивна, чтобы прибегать к такому средству.
Но это свое мнение он тоже держал при себе. Если электрический стул предусмотрен законом – пусть стоит себе там, где его поставили когда-то, будем смазывать и следить за целостью проводки. Если суд приговорил преступника к смертной казни – организовать ее исполнение не более чем работа. Неприятная работа. Но закон есть закон.
И все же сегодня у Сэма Бакли было особенно паскудно на душе.
В дверь постучали. Сэм поднял взгляд от лежавших перед ним бумаг – одна другой паскуднее (один ниггер пырнул другого заточкой из-за волейбольного мяча, который они не поделили на площадке; в тюремной кухне обнаружилась недостача говядины; старый скунс, пару лет назад порезавший внука за то, что тот не позволил дедуле подглядывать за тем, как кувыркается с девчонкой, замахнулся на охранника пустой бутылкой из-под «спрайта» за то, что тот якобы неуважительно к нему обратился, и теперь грозил направить в округ жалобу на бесчеловечное обращение) – и сказал угрюмо:
– Да?
Он знал, кто и зачем к нему пришел.
Через узкую для него дверь – для него все двери были узки – в кабинет неторопливо и грузно продавился старший охранник отделения смертников Кэлверт Хоуп. Его фамилия при его-то работе была в стиле «нарочно не придумаешь». Сэм Бакли знал, что заключенные меж собой называют Кэлверта «Ласт хоуп» – «Последняя надежда»; обычно именно он сопровождал приговоренных в помещение, где жил электрический стул, и его лицо было последним человеческим лицом, которое приговоренным доводилось увидеть. В обители стула, сколько бы народу туда ни набивалось во время казни, человеческих лиц уже не было. Смертники неплохо относились к Кэлверту – он ухитрялся относиться к ним по-доброму и всегда то хлопал по плечу напоследок, то говорил что-нибудь вроде: «Ну, счастливо, парень, передавай Богу привет» или: «Не тушуйся, это быстро», причем получалось у него это без издевки, от души. Сочувственно.
– Прошу прощения, господин директор, – сказал Хоуп негромко, – Уже пять часов.
Бакли досадливо поджал губы и кивнул: долг есть долг. Захлопнул папку с бумагами и поднялся.
– Как там Нич? – спросил он.
Хоуп чуть пожал плечами.
– Все еще с женой.
– Нет, я имею в виду – как он себя чувствует?
Хоуп снова пожал плечами.
– От обеда отказался, от капеллана отказался… крикнул, чтобы капеллан катился к чертовой матери.
– Похоже, он и впрямь уверен, что сам себе Бог, сам себе капеллан… Ладно. Если Господь не может спасти его жалкую душонку, я и подавно не могу. Палач приехал?
– С минуты на минуту должен.
Бакли не тронулся с места. Глубоко втянул воздух носом.
– Кто он?
– Саймон Холленбах, дантист.
– Никогда больше не пойду к дантисту.
Хоуп позволил себе чуть усмехнуться.
– Припечет – забудете обо всем и побежите как миленький.
– Слушайте, Кэл… вот вы, если бы были дантистом… жили себе поживали и знать не знали обо всем этом дерьме… согласились бы так вот ни с того ни с сего, просто за деньги, дернуть рубильник?
– Честно?
– Честно.
– Знаете, Сэм, просто за деньги, по-моему, лучше. Чище как-то. С пустым сердцем. Вот если бы я какую-то личную злость или обиду чувствовал… тогда худо. Тогда вроде я мщу. Тогда вроде я имею право воздать по заслугам тому, кто передо мной или кем-то там еще как-то провинился… А это же плохо. Только Бог имеет такое право. А вот так по-чужому – пришел, сделал, ушел… Лучше. Не ожесточаешься.
Бакли покрутил головой.
М-да… Вы философ, Кэл.
Хоуп в третий раз пожал плечами.
– Пошли, – решительно сказал Бакли.
Коридоры, коридоры… Голубая дымка тусклого света, сочащегося в маленькие зарешеченные оконца… Лязг тяжелых решетчатых дверей… Снулые лица дежурных, мерное движение их челюстей – «гам-гам, чуин гам», спасительница наших зубов от кариеса и наших мозгов от безумия, чем бы мы занимали наши головы, чему посвящали бы мысли во время тягучих и нескончаемых, как ты, дежурств…
Они остановились так, чтобы слышать все, что говорится за решетчатой перегородкой, отделявшей камеру от коридора – но так, чтобы не прерывать разговор. Последний разговор… Как ни относись к этому ублюдку – это его последний разговор с женой.
Нич… Нич…
– Хватит. Перестань. Живи, как хочешь.
– Я говорю тебе, Нич. Я буду жить именно, как хочу. Клянусь своей жизнью. Я хочу никого никогда больше не любить. Я никого никогда не полюблю.
– Не болтай лишнего, чтобы не пожалеть потом.
– Я никогда не смогу полюбить другого. Я никогда не предам нашей любви.
– Зачем ты мне все это говоришь?
– Хочу, чтобы ты знал.
– Я все знаю в сто раз лучше тебя. Ты уверена, я все равно уже не смогу проверить?
– Господи, Нич, я люблю тебя… разве тебе не приятно это слышать?
– Приятно? Что тут приятного?
– Разве тебе не приятно слышать правду? Такую правду?
– Ага, значит, есть и другая правда?
– Нич… Нич…
– Я все понял. Живи.
Молчание. Всхлипывание жены, хриплое дыхание мужа.
– Выводите, – шепнул Бакли Хоупу и пошел встречать палача.
Неторопливо шагая по коридору, он еще успел услышать, как прогремела дверь и Хоуп кротко произнес: «Простите, миссис. Пора, Нич, ничего не попишешь», и поганый ниггер с ненавистью процедил: «Ты тоже сдохнешь, Кэлверт! Скоро сдохнешь, я тебе обещаю!» А потом завыли, заулюлюкали те, кто дожидался своего часа в соседних камерах, видя сквозь решетки, как Хоуп ведет Нича Мэнли в последний путь: «Нич! Вау!», «Кончился твой срок!», «Ну что, пророк, скажи, поджарят тебе сегодня очко или нет?», «Все, Нич! Обратно ты уже не вернешься! Две тысячи вольт, понял, ур-род?»
Нич шел, гордо выпрямившись и глядя прямо перед собой. Он ненавидел их всех. Но некоторых – особенно. Некоторых он ненавидел насмерть. Они, эти букашки, лишенные даже толики понимания и веры, думают, что для него все кончится сегодня. Плесень, безмозглая плесень. Для него все только начнется.
А вот для некоторых – и впрямь кончится, только они об этом еще не знают.
«Я – Бог, – думал Нич, вышагивая рядом с ничтожным, омерзительным червяком по имени Хоуп. – Бог – я. Мне воздаяние, и аз воздам. Даже здесь я ухитрялся жить именно так – и уж подавно я это устрою там».
Потом был стул. Ремни на руках, ремни на ногах, ремень поперек груди. Мазь на виски. Шлем и электроды, и ремень на подбородок, чтобы не слишком колотилась челюсть.
Потом еще один червяк, тоже особенно ненавистный, по имени Бакли, оказался рядом и принялся что-то бубнить; а возле него торчал другой червяк, имени которого Нич не знал, но по одежде догадался, что тот приполз из навозной кучи, называемой церковью.
– На всякий случай я все же пригласил капеллана, – сказал Бакли, – Нич, может быть, вы хотите…
– Не хочу.
Бакли чуть помедлил, потом сделал капеллану знак – тот, сокрушенно покачивая головой, отступил на шаг. Его сокрушенный вид показался Сэму Бакли несколько лицемерным – но лучше так, чем никак.
– Нич, может быть, вам хочется что-то сказать?
Нич поднял голову повыше.
– Да! – гаркнул он. – И слушайте все! Я прожил здесь одиннадцать лет и пятьдесят шесть дней! Теперь вы собираетесь меня казнить! Господь завещал вам быть справедливыми и проявлять милосердие. Я не видел ни справедливости, ни милосердия. Аллах учил, что дух правоверных непременно восстановится и переродится на этом свете, если будет на то его воля. Она будет!
«Господи, – подумал Бакли, – он совсем свихнулся. Проклятый параноик». Он сделал знак глазами, и Саймон Холленбах в надетой на голову черной матерчатой маске шагнул к пульту. За стеклянной стеной толпились, замерев и затаив дыхание, люди. Обычные люди, которых никто и не обязывал быть здесь, – они хотели этого сами. Какой-то борзописец строчил в своем блокноте. Остальные глядели во все глаза и слушали во все уши. Бакли никогда не мог понять таких людей. Будь его воля, он был бы сейчас далеко. Как можно дальше.
– Меч мой не горит и не тонет! Тело мое, словно Феникс, станет прахом, но перестанет быть прахом до скончания времен! Я вернусь, яко Христос вернулся! Яко Христос ниспосылал огненные языки, так и я ниспошлю! И в огне том испепелятся неправедные!
Нич кричал все яростнее, все громче и все быстрее, шестым чувством ощущая, что палач уже запускает всю свою смертоносную машинерию; он боялся не успеть. Изо рта его брызгала слюна.
– Я вернусь! Я Бог, и я вернусь отомстить за вашу жестокость! Пять человек умрут в течение сорока дней! Таково мое правосудие, потому что таков мой закон! Не будет отсрочек! Потому что не будет ни милосердия, ни сострадания, ни предрассудков, ни колебаний! Никто не будет собирать улики и искать доказательства вины! Мое желание и моя месть – вот их вина! Никто не отменит и не отсрочит моего суда!
Потом был разряд.
Штаб-квартира ФБР Вашингтон, округ Колумбия
– Ну, я слушаю, – сказала Скалли, садясь, – Вся внимание.
Молдер вставил слайд в проектор, щелкнул переключателем, и на белый экран вымахнуло черное лицо. Жесткое, волевое лицо, умное, сразу подумала Скалли. Незаурядный человек. Но не хотела бы я с ним встретиться на узкой дорожке.
– Жертва пришельцев? – спросила она. Молдер улыбнулся. Он уже привык к ее незлобивому сарказму и не реагировал так болезненно, как поначалу. Иногда даже поддерживал ее тон.
Но не теперь.
– Скорее жертва правосудия, – ответил он серьезно.
– Это страшно, – постаравшись, чтобы голос ее звучал тоже всерьез, произнесла Скалли.
– Это Наполеон Мэнли по прозвищу Нич, – сказал Молдер, стоя возле экрана; при слове «Мэнли» он зачем-то, для вящей убедительности, что ли, тронул лицо на экране рукой, и по его кисти и рукаву его безупречно сидящего пиджака пробежали, изламываясь и меняя цвет, ухо и щека. – Его обвинили в восемьдесят четвертом году за двойное убийство при отягчающих обстоятельствах. Один из убитых – коп. А началось-то с пустяка – ограбление магазина, торгующего спиртным. Но они затеяли пальбу… Дело смутное, остается вероятность, что Нич не виноват в убийствах, он должен был вести машину, на которой преступники собирались сматываться… но его сообщник был убит во время перестрелки, прямо в магазине. Показания свидетелей разделились. Дело тянулось, многократно доследовалось, было подано несколько апелляций. Но адвокат Нича так и не сумел убедить присяжных, что Нич вообще не стрелял. Вины адвоката тут, насколько можно судить, нет. Во всяком случае, большой вины. Он достаточно квалифицированно вел дело, но ему не хватило контрдоказательств. А вдобавок Нич не слишком-то помогал ему – только ершился, показывал гонор да кричал о людской несправедливости и геенне для лгунов… Он, знаешь, этакий пуп земли. Для начала его все-таки признали вменяемым, а потом признали виновным. И приговорили к казни на электрическом стуле.
– Очень интересно, – с убийственной корректностью сказала Скалли. – При чем же здесь мы? Украденное этими ребятами спиртное оказалось негуманоидным?
– Погоди, Скалли. Сейчас.
– Что тебя тут заинтересовало?
– Этот Мэнли действительно незаурядный тип. Хорошо начитанный, умный… даже какой-то загадочный. В тюрьме он стал чем-то вроде религиозного писателя… или философа…
– О Боже! – простонала Скалли.
– За несколько дней до казни по тюрьме прошел слух, что Нич открыл нечто такое… что даст ему возможность после смерти вернуться. Воскреснуть. Регенерировать или перевоплотиться, я не знаю. Он возомнил себя бессмертным.
– Вера в бессмертие или реинкарнацию всегда очень популярна среди тех, кто дожидается смертной казни, – холодно улыбнулась Скалли. – По вполне понятным причинам.
– На сей раз это была не просто надежда или вера, – Молдер на шаг отступил от экрана и, продолжая рассказывать, наклонился над своим столом и среди кучки слайдов выбрал один; затем, поглядев его на свет, снова шагнул к проектору. – Свирепая, абсолютная уверенность. Перед казнью, уже сидя на стуле весь в электродах, он заявил об этом прямо. Он сказал, что вернется и отомстит. Пять человек из тех, кто досадил ему при жизни более всего, будут убиты, сказал он.
– Тоже не новая мысль.
– Мысль-то не новая, но вот последствия довольно нетривиальны, – пробормотал Молдер, меняя слайд в проекторе. Страшненькое скуластое лицо, глядящее, казалось, прямо в душу Скалли широко открытыми белыми глазами почти без зрачков, чуть вихляясь, уползло вниз, а на его место надвинулся иной кадр, еще пострашнее предыдущего: лежащий навзничь человек на койке. Койка, похоже, тюремная, и вообще – похоже на камеру. А на человеке – форма охранника.
– Казнь была приведена в исполнение должным образом и в должный срок, а нынче ночью в тюрьме произошло убийство, – сказал Молдер. – Был убит старший охранник отделения смертников Кэлверт Хоуп.
– Так, – без выражения произнесла Скалли.
– Его труп был найден в той камере, которую последние годы занимал Нич. Никаких видимых повреждений на теле нет.
Он умолк. Скалли подождала несколько мгновений, но Молдер, по всей видимости, рассказал все, что хотел рассказать. Он погасил проектор и выжидательно взглянул Скалли в глаза.
– Так, – повторила Скалли. – Когда вылетаем?
Молдер улыбнулся.
– Ты даже не спросила, куда, – проговорил он с симпатией.
Скалли поднялась с кресла.
– Какая разница, – парировала она. – Ты ведь наверняка уже заказал билеты.
– Флорида, – сказал Молдер.
Скалли повела плечами.
– Давно мечтала побывать во Флориде в это время года, – сказала она. – Но, боюсь, купальник брать не стоит.
– Боюсь, что да, – серьезно ответил Молдер. – Это неподалеку от Таллахасси, там нет моря.
Скалли озабоченно покачала головой.
– Надо спешить, – сказала она. – В тамошнем климате трудно сохранять тела для детального осмотра в безупречном состоянии.
– Вылет через сорок минут.
– Отлично.
Полчаса назад, поднимаясь сюда, Скалли и понятия не имела, что вечер проведет не с теми, с кем хотела, ночевать будет не в своей постели, а рассвет встретит за восемьсот миль от дома.
Такая работа.
«Вероятно, – подумала она, – косясь на неторопливо и деловито шагавшего рядом с нею напарника. Призрак тоже ни о чем подобном не догадывался еще утром. Интересно, когда и как на него свалилось это дело?
Захочет – скажет. Раз уж билеты заказаны – значит, санкция Скиннера получена.
Значит, теперь у нас – оживший негр-мститель. Жертва правосудия. Чем же, интересно, ему так не люб оказался старший охранник?
Ох…»
Скалли донельзя не любила загадочные и необъяснимые дела, которые мгновенно можно объяснить, всего-то лишь допустив, что эксперты ошиблись, признав кого-то нормальным и вменяемым; а некто, старающийся остаться за кулисами, ловко воспользовался такой ошибкой. Так легко списать собственное преступление на проделку психа! Так легко заморочить людям голову кажущейся страшной мистикой, когда они уже кем-то подготовлены к тому, чтобы их морочили!
Скалли еще не села в самолет, но уже знала, что надо искать в первую очередь. Вернее кого. Кого-то, кто имел зуб на убитого охранника. И кто, при этом, был в курсе выходок начитанного и загадочного психа Мэнли. Круг не должен оказаться слишком большим. Плохо лишь то, что весь он, скорее всего, тоже в тюрьме. Тюрьмы – довольно замкнутые и весьма специфические социальные образования; там не любят посвящать чужаков в тонкости внутренних отношений и распрей. Наверняка будут темнить и пытаться разобраться своими силами. Надо быть готовыми к противодействию администрации.
Судя по выражению лица Молдера, он тоже знал, что будет искать, Но ничего не говорил. И Скалли не спрашивала. Она очень боялась услышать какой-нибудь бред.
Ист-Пойнт, округ Леон Тюрьма штата Флорида
Директор тюрьмы казался подавленным. Не на шутку подавленным. Это был человек лет сорока пяти, высокий, крепкий и немного грузный – сидячая работа, что поделаешь; у него было рыхловатое, открытое лицо и добрые глаза. Скалли не так представляла себе начальников тюрем; впрочем, начальники тюрем, вероятно, не менее разнообразны, чем их подопечные.
Было очень душно. Флорида. И немного затхло. Странно, что лишь немного. Вообще, тюрьма, надо признать, находилась в очень приличном состоянии. Скалли не могла бы назвать себя большим специалистом по тюрьмам, но ей хватало ее эрудиции, чтобы отличить ухоженное помещение от запущенного, проветренное помещение от прокисшего… Начальник тюрьмы Сэм Бакли не зря ел свой хлеб.
У Сэма были больные глаза.
Он вел своих гостей сейчас по бесконечным коридорам, кивал дежурным охранникам, предупредительно открывал перед агентами то решетчатые, то глухие цельнометаллические двери, закрывал их за ними – и совсем не походил на человека, который что-то собирается скрывать. Он походил на человека, у которого беда.
И еще Скалли казалось, будто он похож на человека, который жестоко напуган.
– Причину смерти определили? – спрашивал тем временем Молдер.
– Да, – сдержанно отвечал Бакли, но от глаз Скалли не укрылось, как болезненно дрогнуло его лицо при слове «смерть». «Что-то он такое знает об этой смерти, чего не хочет нам говорить, – подумала она. – Или хотя бы подозревает.»
«А может, – вдруг подумала она, – Бакли просто дружил с убитым?
А может, наоборот? Может, он опасается, что следствие выявит какие-то счеты или трения между ним и убитым, и на него падет подозрение? В конце концов, начальнику тюрьмы куда проще проникнуть в пустую, но запертую снаружи камеру и оставить там труп, а потом снова запереть решетку…»
– Удушение, – бесстрастно рассказывал Бакли Молдеру. – Насколько можно судить – удушение. Подушкой, скорее всего.
– Интересно, как ваш служащий мог быть убит в пустой камере?
– Честно говоря, – нехотя ответил Бакли, – я не могу этого понять. Такое не могло произойти. Мы принимаем все меры предосторожности, и у нас, вообще говоря, очень редки происшествия. Вы можете посмотреть документы. Показатели в моей тюрьме выше средних по стране.
«Как он сказал это: «В моей тюрьме», – отметил Молдер. – Чуточку с гордостью, но и чуточку с болью… Он очень переживает то, что случилось. Хоть и делает вид, что железный и снаружи, и внутри. Моя тюрьма. Так монарх мог бы сказать: «Моя страна».
– Но все же происшествия случаются?
– Как без них… Тюрьма – это полицейское государство. Сюда попадают за насилие и попадают насильственно. А дальше так и идет…
– Кто мог иметь зуб на убитого? – спросила Скалли.
Бакли покосился на нее.
– В том-то и дело, что заключенные симпатизировали ему. То есть… знаете, я далек от того, чтобы идеализировать отношения персонала и подопечных, – и те и другие обычные люди. Со всеми человеческими слабостями. И тем и другим тут тяжело. Но именно Кэлверт Хоуп мог бы сказать, что у него со смертниками хорошие, душевные, приятельские отношения. Пожалуй, в открытую о нем не говорил плохо никто.
– Кроме Нича Мэнли? – спросил Молдер как бы невзначай.
– Нич… да, – помедлив, ответил Бакли. – Но ведь он казнен.
– Скажите, – Молдер взял быка за рога, – как вы относитесь к словам Нича о том, что после смерти он вернется и будет мстить?
Бакли поджал губы. Открыл перед агентами очередную дверь, кивнул очередному охраннику.
– Многие хотели бы вернуться, – неопределенно проговорил он, – И, наверное, многим кажется, что они вернулись бы исключительно за тем, чтобы мстить. А мне, знаете, всегда казалось, что если бы человеку дано было возвращаться, он… побывав там… и вообще поразмыслив как следует, нашел бы себе тут массу более подходящих и достойных дел.
– Вы тоже философ? – спросила Скалли.
И снова Бакли кинул на нее косой внимательных! взгляд.
– Я – нет. Это Нич был философом. Он был действительно умным человеком, очень умным. Я ему и в подметки не гожусь. Если бы он был на свободе – ему дали бы Нобелевскую премию как минимум. Но он совершил ошибку. Убил он копа или нет – это уже не так важно.
– То есть как это? – опешила Скалли.
– Когда такой умный человек не находит ничего лучше, чем грабить магазины, – это, наверное, все-таки ошибка. Правда? За эту ошибку он расплатился своей жизнью.
– Но это могла быть и не его ошибка, – вступилась Скалли, – Общество, среда…
Бакли горько усмехнулся.
– Припоминаю старый анекдот, – проговорил он. – Двое крупных ученых, психолог и социолог, возвращаются в отель после конференции на тему «Социализация антисоциальных элементов и проблемы сдерживания преступности». И видят, как здоровенный громила смертным боем бьет маленькую чистенькую старушку. «О! – не сговариваясь, говорят оба и показывают на преступника. – Этот человек нуждается в нашей помощи!»
– Что вы хотите этим сказать? – настороженно спросила Скалли.
– Если такого умного человека, как Нич, одиннадцать лет гноили в тюрьме, а потом поджарили-таки, это тоже чья-то ошибка, и за нее тоже следовало бы кому-то ответить. Беда только, что отвечают за ошибки обычно не те, кто их совершает.
– Вы противник смертной казни?
– Я не люблю казнить.
– А кто любит?
– Видите ли… Тюрьма – такое место, где нет ничего, кроме горечи и озлобления. Ничего. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять дней в год. Люди здесь доведены до крайности. И тем не менее – к Кэлверту заключенные относились неплохо. Это что-то да значит. Только очень умный грабитель Нич…
Молдер встрепенулся.
– Вы считаете, что закоренелый преступник и на том свете остается преступником?
Бакли снова поджал губы и помедлил, прежде чем ответить.
– Я думаю, что на том свете (если он, конечно, есть) множество преступников перестают быть преступниками. Но некоторые особо умные и потому особо гордые, возомнившие себя невесть кем… они могут остаться. Их, наверное, и сам Бог не сумеет убедить раскаяться. Потому что они уверены, будто они сами – Бог.
Молдер медленно покивал, будто именно этого ответа и ожидал.
– То есть, – цепко ухватилась за слова директора Скалли, – вы все-таки пытаетесь намекнуть, будто верите в то, что Нич вернулся с того света?
Бакли не ответил. Открыл перед ними очередную дверь; вежливо посторонился, пропуская даму и ее спутника перед собой.
– Вы можете осмотреть тело убитого, – сказал он.
Здесь запах все-таки был. Неудивительно в такой духоте… Хотя, подумала Скалли, борясь с подкатывающей тошнотой, пожалуй, все-таки… все-таки… как-то чересчур. Она быстро подошла к столу, на котором, укрытый белой простыней, лежал неприятный, дурно пахнущий предмет, сутки назад бывший исполнительным, добросовестным и славным старшим охранником отделения смертников Кэлвертом Хоупом.
– Мы ждем вечером патологоанатома из штата, чтобы он сделал официальное вскрытие, – говорил тем временем Бакли, остановившись на пороге.
– Скажите, – спросил Молдер, вполне доверяя напарнице в деле осмотра трупа и не делая ни малейшей попытки последовать за нею, – у Нича Мэнли были друзья в отделении? Среди заключенных?
Бакли саркастически усмехнулся. Едва заметно, но от Молдера эта усмешка не укрылась. Он даже понял, что она значила. Эти пижоны с воли, значила она, попадают сюда и не понимают, куда попали, и продолжают мыслить категориями нормальной жизни: дружба, друзья… Молдер ощутил себя глупым, восторженным и невоздержанным на язык мальчишкой.
– В тюрьме у каждого должны быть друзья, – сдержанно ответил Бакли. – Чтобы присматривать за врагами и вовремя предупредить, если что. Но у Нича не было друзей. Его просто боялись, – он запнулся, – Разве что Сперанза…
– Господин директор, – позвала Скалли, снова накрывая простыней труп. У нее был странный, какой-то невероятно напряженный голос – казалось, он вот-вот порвется. Казалось, она увидела привидение.
– Что такое? – спросил Бакли.
– Труп. Я думаю, вам стоит его охладить как следует. Иначе к вечеру будет уже нечего вскрывать.
Какое-то мгновение ее слова доходили до сознания мужчин – доходили явно с трудом. Потом оба поспешно шагнули к столу. Когда они оказались совсем рядом, Скалли с готовностью откинула простыню.
– Иисусе, – потрясенно прошептал Бакли, отступая назад.
Трупа, в сущности, уже не было. На столе тяжко и отвратительно копошилась гора мушиных личинок. Из этого множественного, слитного шевеления едва выглядывали хрящ носа, развалившаяся кисть руки с полуобнаженной костью…
– Повелитель мух, – тихо сказал Молдер.
Скалли опустила простыню.
– Духота, – сказала она. – Ваш эскулап сделал колоссальную ошибку, что не убрал тело в холодильник сразу.
Она хотела сказать еще кое-что, но сдержалась. Не стоило сразу настораживать Бакли. Такая преступная халатность для человека, который все время работает во Флориде и знаком со всеми факторами здешнего климата – в том числе и такими, – была непростительна. Невозможна. Настолько невозможна, что напрашивалось единственное объяснение: это было сделано нарочно. Тогда ко времени прибытия патологоанатома труп оказался бы испорчен уже настолько, что вскрытие превратилось бы в простую формальность. Что-либо выяснить толком оказалось бы уже невозможно.
Сокрытие улик.
Что это там сморозил Молдер? Про мух…
Что ты сказал? – спросила Скалли.
Молдер не ответил.
Джонни Сперанза, о котором Бакли упомянул как о единственном человеке, ухитрявшемся поддерживать более-менее приятельские отношения с Ничем, оказался бойким молодым афро роста чуть ниже среднего, с головой, напоминавшей ком металлической стружки из-за множества тщательно заплетенных косичек, слаженно и упруго мотавшихся вправо-влево при каждом его резком – а иных он не совершал – движении. «Наверное, у него уходит на эту прическу немало времени и прилежания, – подумали Скалли и Молдер одновременно, – неплохие тут условия, если заключенные ухитряются выглядеть, как эстрадные певцы, хоть и средней руки…» Арестован был Сперанза за изнасилование несовершеннолетней с нанесением тяжких телесных повреждений, через пару дней оказавшихся вдобавок и вовсе несовместимыми с жизнью; на следствии выяснилось, что это был уже четвертый подобный подвиг на его счету; правда, прежде любвеобильный молодой человек не делал жертв инвалидами. Держался он как рок-звезда на отдыхе и сразу попытался поставить себя с агентами на равных: развалился на стуле, кинул ногу на ногу так, что пяткой едва не попал себе в ухо, и бурно жестикулировал на протяжении всего разговора.
«Жаль, нельзя дать ему для начала пару оплеух, – против воли подумала усевшаяся напротив Скалли, – Чтобы беседа лучше клеилась.»
Молдер остался стоять за ее спиной и только привалился спиной к стене, внимательно и как-то очень холодно глядя на заключенного. Сэм Бакли, брезгливо кривясь, извинился и вышел: дескать, дела.
Скалли оглянулась на напарника, но тот был явно не расположен начинать беседу. Это уже входило у них в систему: Скалли начинала, а подчас и заканчивала сбор предварительных показаний – а Молдер, когда они оставались вдвоем, вдруг начинал их интерпретировать самым неожиданным образом. Иногда Скалли думалось, что лучше бы он и не начинал. Дело бы двигалось быстрее.
Правда, порой она в конце концов убеждалась – всякий раз с изумлением, будто впервые, – что как раз именно эти. невообразимые соображения только и выводили следствие из тупика.
Но сейчас тупиком и не пахло; дело было, скорее всего, не из сложных. Так что Скалли была даже рада молчанию Молдера.
– Говорят, вы верите в утверждения Нича Мэнли?
– Кто говорит? – немедленно парировал Сперанза.