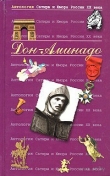Текст книги "Сочинения Козьмы Пруткова"
Автор книги: Козьма Прутков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Еще в старое время один критик заметил по поводу шуточного стихотворения А. К. Толстого «Вонзил кинжал убийца нечестивый...» и ему подобных: «...Ключ ли к ним утратился, или они сочинены вообще во славу бессмыслицы, но только всякий комментатор рискует очутиться в глупом положении, если начнет изощрять свое остроумие в их серьезном толковании» [13]. Как известно, самый талантливый поэт в прутковском кружке А. Толстой любил и независимо от Пруткова предаваться стихотворной игре словами и алогизмами. Даже у Козьмы Петровича не часто встретишь такие экстравагантности, как толстовские рифмованные наставления в куплетах «Мудрость жизни» вроде:
Будь всегда душой обеда,
Не брани чужие щи
И из уха у соседа
Дерзко ваты не тащи...—
а это еще самое благопристойное! Не удивителен потому тот громадный размах, которого достигает сознательная нелепость в коллективно созданных пьесах.
Ставится заведомо абсурдная задача: создать словесную основу вроде бы нормального сценического зрелища из ничего или из такого пустякового зерна, как, скажем, упомянутая идея «драматической пословицы» «Блонды» насчет учтивости и пр. В этом отношении замечательно «разговорно-естественное представление» «Опрометчивый турка, или Приятно ли быть внуком?».
Как в басне о Молоке ни при чем был Читатель, так и здесь ни Турка не появляется, ни вопроса о приятности быть внуком не возникает. Взят уже популярный у читателя и полюбившийся авторам [14]афоризм о поощрении и канифоли – и буквально раздут в «представление», в целую сцену. А она, в свою очередь, произвольно оборвана, что называется, «на самом интересном месте»: как раз тогда, когда злополучный скрипач Иван Семеныч, отец многих детей, «не считая рожденных от первого брака и случайно», собирается открыть невероятную тайну. Разбирать «сюжет» этого произведения просто невозможно (потому что его нет), выискивать сатирическую цель тоже: не на начальника же здесь сатира, что обиделся на игру без канифоли!
Создается особая, вязкая смесь диких анекдотов и словесного озорства, а вяжется «действие» (то есть бездействие) «плавным, важным, авторитетным» голосом Миловидова, который в своей основополагающей речи никак не может из-за помех сдвинуться дальше первых двух фраз, время от времени слово в слово монотонно повторяя начало. Когда, например, гоголевский почтмейстер с удовольствием повторяет городничему при всем уездном обществе знаменитого «сивого мерина» из письма Хлестакова, то здесь ясна определенная цель и героя и автора. А когда Миловидов в малейшую паузу, образующуюся по ходу бессвязной, словно пьяной беседы, вставляет свое: «Итак, нашего Ивана Семеныча больше не существует...» и т.д., то здесь такой повтор только подчеркивает издевательство всего «представления» над здравым смыслом [15]. «Здравая» логика, в частности, «подразделила» все возможные «представления» «на многие отрасли, как-то: на комедии, трагедии, драмы, оперы, пантомимы, водевили и хороводы»,– а вот «естественно-разговорного» жанра так и не предусмотрела!
Интересно, что сами создатели Пруткова отлично знали по опыту, как нелепо-серьезно могут быть восприняты (и воспринимались, начиная отзывами о «Фантазии» [16]) его сочинения. Вряд ли случайно в одном из оригинальнейших прутковских жанров – «военных афоризмах», где тесно сплетаются самая едкая сатира на солдафонство с невероятной словесной бутадой, появляется подстрочный комментатор—командир полка. Это поистине один из сильнейших сатирических образов Пруткова, достойный стать в один ряд с образом самого директора Пробирной Палатки, что сочинил «Проект: о введении единомыслия в России». Вот уж подлинно олицетворение тупости.
Полковник сразу же начинает серьезничать. Он читает: «Проходя город Кострому, заезжай справа по одному» и примечает: «Это можно отнести и к другим городам. Видна односторонность». Недоумение критика растет все более: «Чтобы полковнику служба везла, он должен держать полкового козла». Впрочем, в том, что полковник и полковой козел поставлены рядом, причем служебное благополучие первого предопределено присутствием второго, заключена известная двусмысленность и проблескивает издевка. Но где уж чинуше, взявшемуся за перо критика, понять то, что говорил Гоголь о русском уме! И он начинает раздражаться: «В этом нет никакого смысла. К чему тут козел?» Казалось бы, явно дразнит тупицу двадцать восьмой афоризм, построенный на рифме: «сорокам – сроком», но тот не унимается: «Опять нет смысла. Сороки не служат». Предположение о скопце, командующем штабом, вызывает почти беспомощное: «Когда же это бывает?»
В примечаниях полковника сквозит, однако, не только достойная жалости умственная невинность. Замечая, что в сочинении офицера Фаддея Пруткова не упоминается о службе «престол-отечеству», что в них есть «неприличный намек на маневры» и т.п., критик делает косвенный политический донос,– на всякий случай, как бы чего не вышло, отдаленно перекликаясь с будущим чеховским Беликовым. В свете такой невольной переклички образ «мысли» критика-ретрограда приобретает немалую актуальность. До сих пор еще не перевелась порода людей, которые, надежно огородившись частоколом соответствующих проверенных цитат, видят «односторонность», чуть ли не преступность во всякой попытке мысли выйти за пределы общих мест, за пределы самоочевидного. Можно представить себе недоумение и страх подобного фельдфебеля, назначенного в Вольтеры (говоря известными грибоедовскими словами), когда он, зная, что в пьесе должна быть и завязка, и развязка, и многое другое, читает прутковские пьесы и отчаивается: при чем тут турка? Когда же это бывает? Такой критик даже автора «Медного всадника» обвинил бы в мистике за «тяжело-звонкое скаканье» (ибо «когда же это бывает?»), если бы этим автором был не Пушкин.
Если «Проект...», сочиненный чиновником К. П. Прутковым, являет собою открытую сатиру на охранительство и особых разъяснений не требует, то «Военные афоризмы» или «Торжество добродетели» – произведения более сложного рода.
Так, последнее – великолепная сатира на обстановку всеобщей слежки и подозрительности в деспотическом государстве, которое, «наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти». В обычную схему комедии о борьбе за «местечко» с взаимными подножками и пр. авторы вводят агента «министерства народного подозрения», который, «целуя взасос» очередную жертву, с беспредельным сладострастьем «вписывает» ее в специальный реестр: «Я в настоящее время знаю очень немногих благонадежных,– остальные почти все у нас вписаны. Скоро придется вписать и последних». Политически казнив своих «друзей», полковник Биенинтенсионне – весь умиление: «Друзья мои! Позвольте утереть слезу сострадания и расцеловать вас! (Утирает слезу сострадания...)» и т. д.
Но Прутков есть Прутков: только читатель настроился на восприятие «всамделишной» сатиры, как вдруг министр вторично требует экипаж: «Карету, как сказано выше!..» Актуальная сатира, и подтрунивание над чересчур облегченным «легким» жанром, и просто избыточная жизнерадостная «бойкость» – все это в неразложимом сплаве придает фарсу о «министре плодородия», как и многим другим характерным вещам Пруткова, неповторимый отпечаток.
Козьма Прутков требует от читателя особого настроения. В известном смысле, он – обманщик: его лицо обещает гораздо менее того, что может дать его книга. Поэтому, вознамерившись просто развлечься, посмеяться над «казенностью» и т.п., можно закрыть эту книгу с разочарованием. Только помня о том, что Прутков глубже и значительнее плоского «обличительства», можно ощутить его собственное значение в многообразии русской литературы.
В. Сквозников
Примечания:
[1] Братья Алексей (1821—1908), Владимир (1830—1884) и Александр (1826—1896) Михайловичи Жемчужниковы и их двоюродный брат поэт Алексей Константинович Толстой (1817—1875).
[2] См., напр., рецензию в журнале «Неделя», 1884, № 9, с. 313—315.
[3] Об этом издевательски писал М. Филиппов, издатель журнала «Век», один из похитителей имени К. Пруткова (см. «Век», 1883, апрель, VI отдел, с. 75-76).
[4] Неоднократно высказанное мнение П. Н. Беркова, напр., в кн.: Козьма Прутков. Полн. собр. соч. М.—Л., «Academia», 1933, с. 591.
[5] См. сопроводительные редакционные заметки к сериям «Пух и перья» (Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 6. М., ГИХЛ, 1939, с. 128 и 156).
[6] Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова. Л., «Советский писатель», 1949, с. XXVI и XL.
[7] Ф. М. Достоевский, Полн. собр. худож. произведений, т. XI. М.-Л., ГИЗ,1929, с. 71.
[8] Механизм» пародий на стихи поэтов «чистого искусства» прослежен в кн.: П.Н. Берков. Козьма Прутков, директор Пробирной Палатки и поэт. Л., Изд-во АН СССР, 1933, с. 173—177.
[9] Жан де Лабрюйер. Характеры, или Нравы нынешнего века. М.—Л., «Художественная литература», 1964, с. 239.
[10] Статья Вл. Соловьева. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза – И. А. Эфрона, т. 25а. СПб., 1898, стлб. 634,
[11] Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1959, с. 113, 114.
[12] Император Павел Первый, историко-биографический очерк Н. К. Шильдера. СПб., 1901, с. 130. (Письмо наследника Павла Н. И. Панину.)
[13] Н. Котляревский. Старинные портреты. СПб, 1907, с. 388.
[14] Обратим внимание на эпиграфы ко всем трем разделам «Полного собрания сочинений К. Пруткова».
[15] Так, «оттолкнувшись» от цитаты из стихотворения Лермонтова, князь Батог-Батыев отправляется странствовать на Восток,– «а сзади, как вы сами можете себе представить, синеет гнилой Запад!», и наконец, он забирается в такую «самую восточную страну», где и спереди восток, и с боков восток, и сзади восток,– «короче: везде и повсюду один нескончаемый восток!».
[16] Они собраны в кн.: П. Н. Берков. Козьма Прутков, директор Пробирной Палатки и поэт. Л., Изд-во АН СССР, 1933, с. 47—50.
Досуги и пух и перья
Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходима канифоль смычку виртуоза.
«Плоды раздумья» Козьмы Пруткова
Daunen und Federn
Предисловие
Читатель, вот мои «Досуги»... Суди беспристрастно! Это только частица написанного. Я пишу с детства. У меня много неконченого (d'inacheve)! Издаю пока отрывок. Ты спросишь: зачем? Отвечаю: я хочу славы. Слава тешит человека. Слава, говорят, «дым»; это неправда. Я этому не верю!
Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая других: если они поэты, так и я тоже!.. Суди, говорю, сам, да суди беспристрастно! Я ищу справедливости; снисхожденья не надо; я не прошу снисхожденья!..
Читатель, до свиданья! Коли эти сочинения понравятся, прочтешь и другие. Запас у меня велик, материалов много; нужен только зодчий, нужен архитектор; я хороший архитектор!
Читатель, прощай! Смотри же, читай со вниманьем да не поминай лихом!
Твой доброжелатель —
Козьма Прутков.
11 апреля
1853 года (annus, i) (Год, года (лат.)).
Письмо известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту «С.-Петербургских ведомостей» (1854 г.) [1] по поводу статьи сего последнего
Фельетонист, я пробежал твою статейку в № 80 «С.-Петербургских ведомостей». Ты в ней упоминаешь обо мне; это ничего. Но ты в ней неосновательно хулишь меня! За это не похвалю, хотя ты, очевидно, домогаешься моей похвалы.
Ты утверждаешь, что я пишу пародии? Отнюдь!.. Я совсем не пишу пародий! Я никогда не писал пародий! Откуда ты взял, будто я пишу пародии?! Я просто анализировал в уме своем большинство поэтов, имевших успех; этот анализ привел меня к синтезису; ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь, оказались совмещенными все во мне едином!.. Прийдя к такому сознанию, я решился писать. Решившись писать, я пожелал славы. Пожелав славы, я избрал вернейший к ней путь: подражание именно тем поэтам, которые уже приобрели ее в некоторой степени. Слышишь ли? – «подражание», а не пародию!.. Откуда же ты взял, будто я пишу пародии?!
В этом направлении написан мною и «Спор древних греческих философов об изящном». Как же ты, фельетонист, уверяешь, будто для него «нет образца в современной литературе»? Я, твердый в своем направлении, как кремень, не мог бы и написать этот «Спор», если бы не видел для него «образца в современной литературе»!.. Тебе показалась устарелою форма этого «Спора»; и тут не так! Форма самая обыкновенная, разговорная, драматическая, вполне соответствующая этому, истинно драматическому, моему созданию!.. Да и где ты видел, чтобы драматические произведения были написаны не в разговорной форме?!
Затем ты, подобно другим, приписываешь, кажется, моему перу и «Гномов» и прочие «Сцены из обыденной жизни»? [2] О, это жестокая ошибка! Ты вчитайся в оглавление, вникни в мои произведения и тогда поймешь, как дважды два четыре: что в «Ералаши» мое и что не мое!..
Послушай, фельетонист! – я вижу по твоему слогу, что ты еще новичок в литературе; однако ты уже успел набить себе руку; это хорошо! Теперь тебе надо добиваться славы; слава тешит человека!.. Слава, говорят, «дым»; но это неправда! Ты не верь этому, фельетонист! – Итак, во имя литературной твоей славы, прошу тебя: не называй вперед моих произведений пародиями! Иначе я тоже стану уверять, что все твои фельетоны не что иное, как пародии; ибо они как две капли воды похожи на все прочие газетные фельетоны!
Между моими произведениями, напротив, не только нет пародий, но даже не всё подражание; а есть настоящие, неподдельные и крупные самородки!.. Вот ты так пародируешь меня, и очень неудачно! Напр., ты говоришь: «Пародия должна быть направлена против чего-нибудь, имеющего более или менее (!) серьезный смысл; иначе она будет пустою забавою». Да это прямо из моего афоризма: «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою!..»
В написанном небрежно всегда будет много недосказанного, неконченого (d'inacheve).
Твой доброжелатель
Козьма Прутков.
[1] Письмо это было напечатано в журнале Современник», 1854 г.
[2] Под этими заглавиями были помещены в «Современнике» чужие, т.е. не мои, хотя также очень хорошие произведения, на страницах «Ералаши». Смешивать эти произведения с моими могут только люди, не имеющие никакого вкуса и ничего не понимающие! Примечание К. Пруткова.
Стихотворения
Мой портрет
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг; [1]
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке;
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке,—
Знай: это я!
Кого язвят со злостью вечно новой,
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой,—
Знай: это я!..
В моих устах спокойная улыбка,
В груди – змея!
[1] Вариант: «На коем фрак». Примечание К. Пруткова.
Незабудки и запятки
Басня
Трясясь Пахомыч на запятках,
Пук незабудок вез с собой;
Мозоли натерев на пятках,
Лечил их дома камфарой.
Читатель! в басне сей, откинув незабудки,
Здесь помещенные для шутки,
Ты только это заключи:
Коль будут у тебя мозоли,
То, чтоб избавиться от боли,
Ты, как Пахомыч наш, их камфарой лечи.
Честолюбие
Дайте силу мне Самсона;
Дайте мне Сократов ум;
Дайте легкие Клеона,
Оглашавшие форум;
Цицерона красноречье,
Ювеналовскую злость,
И Эзопово увечье,
И магическую трость!
Дайте бочку Диогена;
Ганнибалов острый меч,
Что за славу Карфагена
Столько вый отсек от плеч!
Дайте мне ступню Психеи,
Сапфы женственный стишок,
И Аспазьины затеи,
И Венерин поясок!
Дайте череп мне Сенеки;
Дайте мне Вергильев стих,—
Затряслись бы человеки
От глаголов уст моих!
Я бы, с мужеством Ликурга,
Озираяся кругом,
Стогны все Санктпетербурга
Потрясал своим стихом!
Для значения инова
Я исхитил бы из тьмы
Имя славное Пруткова,
Имя громкое Козьмы!
Кондуктор и тарантул
Басня
В горах Гишпании тяжелый экипаж
С кондуктором отправился в вояж.
Гишпанка, севши в нем, немедленно заснула;
А муж ее меж тем, увидя тарантула,
Вскричал: «Кондуктор, стой!
Приди скорей! ах, боже мой!»
На крик кондуктор поспешает
И тут же веником скотину выгоняет,
Примолвив: «Денег ты за место не платил!» —
И тотчас же его пятою раздавил.
Читатель! разочти вперед свои депансы [1]
Чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы,
И норови, чтобы отнюдь
Без денег не пускаться в путь;
Не то случится и с тобой, что с насекомым,
Тебе знакомым.
[1] Издержки, расходы (от франц. d’epensesj).
Поездка в Кронштадт
Посвящено сослуживцу моему по министерству финансов, г. Бенедиктову.
Пароход летит стрелою,
Грозно мелет волны в прах
И, дымя своей трубою,
Режет след в седых волнах.
Пена клубом. Пар клокочет.
Брызги перлами летят.
У руля матрос хлопочет.
Мачты в воздухе торчат.
Вот находит туча с юга,
Все чернее и черней...
Хоть страшна на суше вьюга,
Но в морях еще страшней!
Гром гремит, и молньи блещут...
Мачты гнутся, слышен треск...
Волны сильно в судно хлещут...
Крики, шум, и вопль, и плеск!
На носу один стою я[1],
И стою я, как утес.
Морю песни в честь пою я,
И пою я не без слез.
Море с ревом ломит судно.
Волны пенятся кругом.
Но и судну плыть нетрудно
С Архимедовым винтом.
Вот оно уж близко к цели.
Вижу,– дух мой объял страх! —
Ближний след наш еле-еле,
Еле видится в волнах...
А о дальнем и помину,
И помину даже нет;
Только водную равнину,
Только бури вижу след!..
Так подчас и в нашем мире:
Жил, писал поэт иной,
Звучный стих ковал на лире
И – исчез в волне мирской!..
Я мечтал. Но смолкла буря;
В бухте стал наш пароход.
Мрачно голову понуря,
Зря на суетный народ:
«Так,– подумал я,– на свете
Меркнет светлый славы путь;
Ах, ужель я тоже в Лете
Утону когда-нибудь?!»
[1] Здесь, конечно, разумеется, нос парохода, а не поэта, читатель сам мог бы догадаться об этом. Примечание К. Пруткова,
Мое вдохновение
Гуляю ль один я по Летнему саду [1],
В компанье ль с друзьями по парку хожу,
В тени ли березы плакучей присяду,
На небо ли молча с улыбкой гляжу —
Все дума за думой в главе неисходно,
Одна за другою докучной чредой,
И воле в противность и с сердцем несходно,
Теснятся, как мошки над теплой водой!
И, тяжко страдая душой безутешной,
Не в силах смотреть я на свет и людей:
Мне свет представляется тьмою кромешной;
А смертный – как мрачный, лукавый злодей!
И с сердцем незлобным и с сердцем смиренным,
Покорствуя думам, я делаюсь горд;
И бью всех и раню стихом вдохновенным,
Как древний Атилла, вождь дерзостных орд...
И кажется мне, что тогда я главою
Всех выше, всех мощью духовной сильней,
И кружится мир под моею пятою,
И делаюсь я все мрачней и мрачней!..
И, злобы исполнясь, как грозная туча,
Стихами я вдруг над толпою прольюсь:
И горе подпавшим под стих мой могучий!
Над воплем страданья я дико смеюсь.
[1] Считаем нужным объяснить для русских провинциалов и для иностранцев, что здесь, разумеется, так называемый «Летний сад» в С.-Петербурге. Примечание К. Пруткова.
Цапля и беговые дрожки
Басня
На беговых помещик ехал дрожках.
Летела цапля; он глядел.
«Ах! почему такие ножки
И мне Зевес не дал в удел?»
А цапля тихо отвечает:
«Не знаешь ты, Зевес то знает!»
Пусть баснь сию прочтет всяк строгий семьянин:
Коль ты татарином рожден, так будь татарин;
Коль мещанином – мещанин,
А дворянином – дворянин.
Но если ты кузнец и захотел быть барин,
То знай, глупец,
Что, наконец,
Не только не дадут тебе те длинны ножки,
Но даже отберут коротенькие дрожки.
Юнкер Шмидт
Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится... Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
Погоди, безумный, снова Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! честное слово,
Лето возвратится!
Разочарование
Я. П. Полонскому
Поле. Ров. На небе солнце.
А в саду, за рвом, избушка.
Солнце светит. Предо мною
Книга, хлеб и пива кружка.
Солнце светит. В клетках птички.
Воздух жаркий. Вкруг молчанье.
Вдруг проходит прямо в сени
Дочь хозяйкина, Маланья.
Я иду за нею следом.
Выхожу я также в сенцы;
Вижу: дочка на веревке
Расстилает полотенцы.
Говорю я ей с упреком:
«Что ты мыла? не жилет ли?
И зачем на нем не шелком,
Ниткой ты подшила петли?»
А Маланья, обернувшись,
Мне со смехом отвечала:
«Ну так что ж, коли не шелком?
Я при вас ведь подшивала!»
И затем пошла на кухню.
Я туда ж за ней вступаю.
Вижу: дочь готовит тесто
Для обеда к караваю.
Обращаюсь к ней с упреком:
«Что готовишь? не творог ли?»
«Тесто к караваю».– «Тесто?»
«Да; вы, кажется, оглохли?»
И, сказавши, вышла в садик.
Я туда ж, взяв пива кружку.
Вижу: дочка в огороде
Рвет созревшую петрушку.
Говорю опять с упреком:
«Что нашла ты? уж не гриб ли?
«Все болтаете пустое!
Вы и так, кажись, охрипли».
Пораженный замечаньем,
Я подумал: «Ах, Маланья!
Как мы часто детски любим
Недостойное вниманья!»
Эпиграмма № I
«Вы любите ли сыр?» – спросили раз ханжу.
«Люблю,– он отвечал,—я вкус в нем нахожу:
Червяк и попадья
Басня
Однажды к попадье заполз червяк за шею;
И вот его достать велит она лакею.
Слуга стал шарить попадью...
«Но что ты делаешь?!» – «Я червяка давлю».
Ах, если уж заполз к тебе червяк за шею,
Сама его дави и не давай лакею.
Эта басня, как и всё, впервые печатаемое в «Полн. собр. сочинений К. Пруткова», найдена в оставшихся после его смерти сафьянных портфелях за нумерами и с печатною золоченою надписью: «Сборник неоконченного (d'inachere) №».
Аквилон
В память г. Бенедиктову
С сердцем грустным, с сердцем полным,
Дувр оставивши, в Кале
Я по ярым, гордым волнам
Полетел на корабле.
То был плаватель могучий,
Крутобедрый гений вод,
Трехмачтовый град плавучий,
Стосаженный скороход.
Он, как конь донской породы,
Шею вытянув вперед,
Грудью сильной режет воды,
Грудью смелой в волны прет.
И, как сын степей безгранных,
Мчится он поверх пучин
На крылах своих пространных,
Будто влажный сарацин.
Гордо волны попирает
Моря страшный властелин,
И чуть-чуть не досягает
Неба чудный исполин.
Но вот-вот уж с громом тучи
Мчит Борей с полнощных стран.
Укроти свой бег летучий,
Вод соленых ветеран!..
Нет! гигант грозе не внемлет;
Не страшится он врага.
Гордо голову подъемлет,
Вздулись верви и бока,
И бегун морей высокий
Волнорежущую грудь
Пялит в волны и широкий
Прорезает в море путь.
Восшумел Борей сердитый,
Раскипелся, восстонал;
И, весь пеною облитый,
Набежал девятый вал.
Великан наш накренился,
Бортом воду зачерпнул;
Парус в море погрузился;
Богатырь наш потонул...
И страшный когда-то ристатель морей
Победную выю смиренно склоняет;
И с дикою злобой свирепый Борей
На жертву тщеславья взирает.
И мрачный, как мрачные севера ночи,
Он молвит, насупивши брови на очи:
«Все водное – водам, а смертное – смерти;
Все влажное – влагам, а твердое – тверди!
И, послушные веленьям,
Ветры с шумом понеслись,
Парус сорвали в мгновенье;
Доски с треском сорвались.
И все смертные уныли,
Сидя в страхе на досках,
И неволею поплыли,
Колыхаясь на волнах.
Я один, на мачте сидя,
Руки мощные скрестив,
Ничего кругом не видя,
Зол, спокоен, молчалив.
И хотел бы я во гневе,
Морю грозному в укор,
Стих, в моем созревший чреве,
Изрыгнуть, водам в позор!
Но они с немой отвагой,
Мачту к берегу гоня,
Лишь презрительною влагой
Дерзко плескают в меня.
И вдруг, о спасенье своем помышляя,
Заметив, что боле не слышен уж гром,
Без мысли, но с чувством на влагу взирая,
Я гордо стал править веслом.
Желания поэта
Хотел бы я тюльпаном быть,
Парить орлом по поднебесью»
Из тучи ливнем воду лить
Иль волком выть по перелесью.
Хотел бы сделаться сосною,
Былинкой в воздухе летать,
Иль солнцем землю греть весною,
Иль в роще иволгой свистать.
Хотел бы я звездой теплиться,
Взирать с небес на дольний мир,
В потемках по небу скатиться,
Блистать, как яхонт иль сапфир.
Гнездо, как пташка, вить высоко,
В саду резвиться стрекозой,
Кричать совою одиноко,
Греметь в ушах ночной грозой...
Как сладко было б на свободе
Свой образ часто так менять
И, век скитаясь по природе,
То утешать, то устрашать!
Память прошлого
Как будто из Гейне
Помню я тебя ребенком,
Скоро будет сорок лет;
Твой передничек измятый,
Твой затянутый корсет.
Было в нем тебе неловко;
Ты сказала мне тайком:
«Распусти корсет мне сзади;
Не могу я бегать в нем».
Весь исполненный волненья,
Я корсет твой развязал...
Ты со смехом убежала,
Я ж задумчиво стоял.
Разница вкусов
Басня [1]
Казалось бы, ну как не знать
Иль не слыхать
Старинного присловья,
Что спор о вкусах – пустословье?
Однако ж раз, в какой-то праздник,
Случилось так, что с дедом за столом,
В собрании гостей большом,
О вкусах начал спор его же внук, проказник.
Старик, разгорячась, сказал среди обеда:
«Щенок! тебе ль порочить деда?
Ты молод: все тебе и редька и свинина;
Глотаешь в день десяток дынь;
Тебе и горький хрен – малина,
А мне и бланманже – полынь!»
Читатель! в мире так устроено издавна:
Мы разнимся в судьбе,
Во вкусах и подавно;
Я это басней пояснил тебе.
С ума ты сходишь от Берлина:
Мне ж больше нравится Медынь.
Тебе, дружок, и горький хрен – малина,
А мне и бланманже – полынь.
[1] В первом издании (см. журнал «Современник», 1853 г.) эта басня была озаглавлена: «Урок внучатам»,– в ознаменование действительного происшествия в семье Козьмы Пруткова.
Письмо из Коринфа
Древнее греческое
Посвящено г. Щербине
Я недавно приехал в Коринф.
Вот ступени, а вот колоннада.
Я люблю здешних мраморных нимф
И истмийского шум водопада.
Целый день я на солнце сижу.
Трусь елеем вокруг поясницы.
Между камней паросских слежу
За извивом слепой медяницы.
Померанцы растут предо мной,
И на них в упоенье гляжу я.
Дорог мне вожделенный покой.
«Красота! красота!» – все твержу я.
А на землю лишь спустится ночь,
Мы с рабыней совсем обомлеем...
Всех рабов высылаю я прочь
И опять натираюсь елеем.
Романс
На мягкой кровати
Лежу я один.
В соседней палате
Кричит армянин.
Кричит он и стонет,
Красотку обняв,
И голову клонит;
Вдруг слышно: пиф-паф!..
Упала девчина
И тонет в крови...
Донской казачина
Клянется в любви...
А в небе лазурном
Трепещет луна;
И с шнуром мишурным
Лишь шапка видна.
В соседней палате
Замолк армянин.
На узкой кровати
Лежу я один.
Древний пластический грек
Люблю тебя, дева, когда золотистый
И солнцем облитый ты держишь лимон,
И юноши зрю подбородок пушистый
Меж листьев аканфа и белых колонн.
Красивой хламиды тяжелые складки
Упали одна за другой...
Так в улье шумящем вкруг раненой матки
Снует озабоченный рой.
Помещик и садовник
Басня
Помещику однажды в воскресенье
Поднес презент его сосед.
То было некое растенье,
Какого, кажется, в Европе даже нет.
Помещик посадил его в оранжерею;
Но как он сам не занимался его
(Он делом занят был другим:
Вязал набрюшники родным),
То раз садовника к себе он призывает
И говорит ему: «Ефим!
Блюди особенно ты за растеньем сим;
Пусть хорошенько прозябает».
Зима настала между тем.
Помещик о своем растенье вспоминает
И так Ефима вопрошает:
«Что? хорошо ль растенье прозябает?»
«Изрядно,– тот в ответ,– прозябло уж совсем!»
Пусть всяк садовника такого нанимает,
Который понимает,
Что значит слово «прозябает».
Безвыходное положение
г. Аполлону Григорьеву, по поводу статей его в «Москвитянине»
1850-х годов [1]
Толпой огромною стеснилися в мой ум
Разнообразные, удачные сюжеты,
С завязкой сложною, с анализом души
И с патетичною, загадочной развязкой.
Я думал в «мировой поэме» их развить,
В большом, посредственном иль в маленьком
масштабе.
И уж составил план. И к миросозерцанью
Высокому свой ум стараясь приучить,
Без задней мысли, я к простому пониманью
Обыденных основ стремился всей душой.
Но, верный новому в словесности ученью,
Другим последуя, я навсегда отверг:
И личности протест, и разочарованье,
Теперь дешевое, и модный наш дендизм,
И без основ борьбу, страданья без исхода,
И антипатии болезненной причуды!
А чтоб не впасть в абсурд, изгнал
экстравагантность.
Очистив главную творения идею
От ей несвойственных и пошлых положений,
Уж разменявшихся на мелочь в наше время,
Я отстранил и фальшь и даже форсировку
И долго изучал без устали, с упорством
Свое, в изгибах разных, внутреннее «Я».
Затем, в канву избравши фабулу простую,
Я взгляд установил, чтоб мертвой копировкой
Явлений жизненных действительности грустной
Наносный не внести в поэму элемент.
И технике пустой не слишком предаваясь,
Я тщился разъяснить творения процесс
И «слово новое» сказать в своем созданье!..
С задатком опытной практичности житейской,
С запасом творческих и правильных начал,
С избытком сил души и выстраданных чувств,
На данные свои взирая объективно,
Задумал типы я и идеал создал;
Изгнал все частное и индивидуальность;
И очертил свой путь, и лица обобщил;
И прямо, кажется, к предмету я отнесся;
И, поэтичнее его развить хотев,
Характеры свои зараней обусловил;
Но разложенья вдруг нечаянный момент
Настиг мой славный план, и я вотще стараюсь
Хоть точку в сей беде исходную найти!
[1] В этом стихотворном письме К. Прутков отдает добросовестный отчет в безуспешности приложения теории литературного творчества, настойчиво проповеданной г. Аполлоном Григорьевым в «Москвитянине».
В альбом красивой чужестранке
Написано в Москве
Вокруг тебя очарованье.
Ты бесподобна. Ты мила.
Ты силой чудной обаянья
К себе поэта привлекла.
Но он любить тебя не может:
Ты родилась в чужом краю,
И он охулки не положит,
Любя тебя, на честь свою.
Стан и голос
Басня
Хороший стан, чем голос звучный,
Иметь приятней во сто крат.
Вам это пояснить я басней рад.
Какой-то становой, собой довольно тучный,
Надевши ваточный халат,
Присел к открытому окошку
И молча начал гладить кошку.
Вдруг голос горлицы внезапно услыхал...
«Ах, если б голосом твоим я обладал,—
Так молвил пристав,– я б у тещи
Приятно пел в тенистой роще
И сродников своих пленял и услаждал!»
А горлица на то головкой покачала
И становому так, воркуя, отвечала:
«А я твоей завидую судьбе:
Мне голос дан, а стан тебе».
Осады Памбы
Романсеро, с испанского
Девять лет дон Педро Гомец,
По прозванью Лев Кастильи,
Осаждает замок Памбу,
Молоком одним питаясь.
И все войско дона Педра,
Девять тысяч кастильянцев,
Все, по данному обету,
Не касаются мясного,
Ниже хлеба не снедают;
Пьют одно лишь молоко.
Всякий день они слабеют,
Силы тратя по-пустому.
Всякий день дон Педро Гомец
О своем бессилье плачет,
Закрываясь епанчою.
Настает уж год десятый.
Злые мавры торжествуют;
А от войска дона Педра
Налицо едва осталось
Девятнадцать человек.
Их собрал дон Педро Гомец
И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,
В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим
Без стыда и без боязни.
Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью:
Не нарушили ни разу
Нами данного обета,—
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!»
Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаяся на седлах,
В голос слабо закричали:
«Sancto Jago Compostello![1]
Честь и слава дону Педру,
Честь и слава Льву Кастильи!»
А каплан его Диего
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским».
И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана;
Он изрядно подшутил».
[1] Святой Иаков Компостельский! (исп.)
Эпиграмма № 11
Раз архитектор с птичницей спознался.
И что ж? – в их детище смешались две натуры
Сын архитектора – он строить покушался,
Потомок птичницы – он строил только «куры».
Доблестные студиозусы