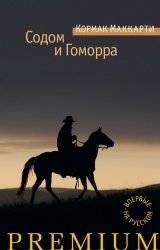
Текст книги "Содом и Гоморра. Города окрестности Сей"
Автор книги: Кормак Маккарти
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Что, проснулся, трудяга? – сказал Джей Си.
– Да проснулся, проснулся.
– Мужика, который забабахал этакого зверского ерша, простая горная пума разве заинтересует?
– Это ты верно понял.
– У нас такой тут разговор по душам шел, а он где был? Всех старикам на поживу оставил. Они ж соврут – недорого возьмут. Нам даже слова вставить не давали. Даже и спора не получилось, а, Билли?
– Да какой уж тут спор.
Джон-Грейди поправил шляпу и направился вдоль края утеса. В сереньком рассвете под ним расстилалась пустыня, дышащая холодом и синевой; под бледным серпантином тумана угадывалась река, текущая с севера, огибая рощицы серых зимних деревьев. Вдали на юге – холодный серый клетчатый город, а еще дальше, за рекой, старый город, похожий на чей-то огромный рубчатый след, вдавленный в почву пустыни. За ним горы Мексики. Раненая собака отошла от костра, у которого охотники собирали собак и цепляли их к поводкам; она остановилась рядом с Джоном-Грейди и принялась вместе с ним разглядывать долину внизу. Джон-Грейди сел, свесил ноги с края утеса; собака легла, положила окровавленную голову у его ноги, и вскоре он ее обнял.
Билли сидел, положив скрещенные в запястьях руки локтями на стол. Наблюдал за Джоном-Грейди. Джон-Грейди сжал губы. Сделал ход оставшимся белым конем. Билли бросил взгляд на Мэка. Мэк долго изучал позицию, потом поднял глаза на Джона-Грейди. Сел в кресле поудобнее и снова стал изучать доску. Ни один не говорил ни слова.
Мэк взялся за черного ферзя, подержал немного над доской и поставил обратно. Потом снова поднял ферзя и сделал ход. Билли откинулся на спинку стула. Протянув руку, Мэк взял из пепельницы холодную сигару и сунул в рот.
Шестью ходами позже белому королю был поставлен мат. Поерзав в кресле, Мэк прикурил сигару. Билли сделал глубокий выдох.
Джон-Грейди продолжал сидеть, глядя на доску.
– Хорошо сыграно, – сказал он.
– Длинна дорога, мой дружище, – пропел Мэк, – длинна дорога. Но с нее свернуть нельзя.
Все вместе они вышли из дому и направились к конюшне.
– Ты мне вот что скажи… – начал Билли.
– Что тебе сказать?
– Я знаю, мне ты врать не будешь.
– А-а! Я уже догадался, какой будет вопрос.
– И какой будет ответ?
– Ответ будет «нет».
– То есть ты не поддавался ему ни вот настолечко?
– Нет. Я в такие примочки не верю.
Когда шли по конюшенному проходу, лошади топтались и фыркали в денниках. Джон-Грейди бросил взгляд на Билли:
– Как ты считаешь, а он не мог такое заподозрить?
– Ну, надеюсь, что нет. А то, конечно, ему бы это здорово не понравилось.
– Да уж.
В ломбард он вошел с револьвером в кобуре, пристегнутой к ремню, который висел у него на плече. Старый, седой держатель ломбарда читал газету, разложенную на стеклянном прилавке. Вдоль одной стены шел стеллаж с оружием, с потолка свисали гитары, а под стеклом на прилавках красовались пистолеты, ювелирные украшения, ножи и всякий инструмент. Джон-Грейди положил на прилавок ремень с кобурой, старик поглядел туда, потом перевел взгляд на пришельца. Вынул револьвер из кобуры, взвел курок, спустил на полувзвод, покрутил барабан, откинул «дверцу Абади», заглянул в каждую камору, закрыл дверцу, опять взвел курок и опустил его, придерживая большим пальцем. Повернул левой стороной к себе, глянул на выбитые на корпусе и скобе спускового крючка заводские номера, удостоверился в целости кольца крепления ремешка к рукоятке, после чего сунул револьвер назад в кобуру и поднял взгляд.
– Сколько за него хотите? – спросил он.
– Мне нужно около сорока долларов.
Держатель ломбарда поцыкал зубом и с серьезным видом качнул головой.
– Мне предлагали за него пятьдесят. Закладывать просто нужда заставила.
– Что до меня, то я могу дать вам от силы двадцать пять.
Джон-Грейди взглянул на револьвер.
– Ну дайте хоть тридцать, – сказал он.
Хозяин лавки с сомнением покачал головой.
– Я не хочу продавать его, – сказал Джон-Грейди. – Просто хочу взять денег под залог.
– И ремень с кобурой тоже, да?
– Да. Все идет вместе.
– Тогда ладно.
Достав книжечку бланков, он вставил между листками копирку, медленно списал заводской номер, добавил фамилию Джона-Грейди и его адрес и повернул на стекле прилавка книжечку парню, чтобы тот прочел и расписался. Затем отделил заполненную квитанцию, подал копию Джону-Грейди и унес револьвер в подсобное помещение лавки. Когда вернулся, в его руках были деньги, он выложил их на прилавок.
– Я за ним вернусь, – сказал Джон-Грейди.
Старик кивнул.
– Это револьвер моего деда.
Старик развел руками, чуть приподнял их и снова опустил. Этакий жест понимания. Не благословение, но что-то вроде. Кивнул в сторону стеклянного прилавка, где было выставлено штук шесть старых кольтовских револьверов – среди них и никелированные, и с накладками из оленьего рога на рукоятях. Один даже с вытертыми накладками из гуттаперчи, а один со спиленной мушкой.
– Каждый из них принадлежал чьему-нибудь деду, – сказал он.
На Хуарес-авеню его окликнул мальчишка – чистильщик обуви.
– Привет, ковбой!
– Привет.
– Давайте-ка я вам сапоги почищу.
– Ну давай.
Сев на маленький полевой складной стульчик, он поставил ногу на самодельный деревянный ящик чистильщика. Мальчишка закатал ему штанину и начал вынимать свои щетки, бархотки и коробочки с сапожными кремами и раскладывать их под рукой.
– Идете на свидание со своей девушкой?
– Ну, вроде как.
– Надеюсь, вы не собирались идти к ней в таких сапожищах.
– Что ж, ты, видать, правильно сделал, что подозвал меня. А то, не ровен час, еще выгнала бы меня.
Мальчишка тряпочкой стер с сапога пыль и намазал его кремом.
– Когда собираетесь пожениться? – спросил он.
– А почему ты думаешь, что я собираюсь жениться?
– Не знаю. У вас вроде как вид такой. А что, нет?
– Не знаю. Может быть.
– А вы и всам-деле ковбой?
– Ну.
– Работаете на ранчо?
– Да. У нас небольшое ранчо. Estancia, как у вас тут говорят.
– И как, нравится?
– Да. Нравится.
Чистильщик стер с сапога излишки крема, открыл баночку с гуталином и принялся наносить его на кожу, обмакивая в банку пальцы левой руки.
– А ведь это тяжелая работа, правда же?
– Ну-у… бывает иногда.
– А если бы вы умели делать что-нибудь еще?
– Нет, никем другим я не хотел бы быть.
– А если бы могли быть вообще кем угодно?
Джон-Грейди улыбнулся. Покачал головой.
– А на войне были?
– Нет. Я был слишком молод.
– Мой брат тоже был слишком молод, но он соврал им про свой возраст.
– А он что – американец?
– Нет.
– Сколько ему было?
– Шестнадцать.
– Наверное, рослый был, большой для своего возраста.
– Для своего возраста он был большой засранец.
Джон-Грейди улыбнулся.
Мальчишка прикрыл баночку крышкой и взял в руку щетку.
– Его спросили там, не принадлежит ли он к какой-нибудь банде pachucos {28}28
…банде pachucos. – Pachuco (исп.) – хулиган, уличный стиляга. В 1920-е гг. так звали этнических мексиканцев, живших в Эль-Пасо и Хуаресе.
[Закрыть]. Он сказал, что все известные ему pachucosживут в Эль-Пасо. А в Мексике он никаких pachucosзнать не знает.
Чистильщик вовсю наяривал щетками. Джон-Грейди наблюдал.
– А на самом деле он был этим… pachuco?
– Конечно. Кем же еще.
Чистильщик навел предварительный лоск на сапог, втиснул щетку обратно в коробку и, взяв в руки бархотку, с громким хлопком встряхнул и зачастил ею туда-сюда по носку сапога.
– Он попал в морпехи. Получил два «Пурпурных сердца».
– А ты что же?
– Что я «что же»?
– Ты куда попал?
Тот поднял взгляд на Джона-Грейди. Не переставая обрабатывать сапог теперь уже сзади.
– Ну, в морпехи я точно не попал, – сказал он.
– Нет, я насчет pachucos.
– Да не-ет.
– А ты засранец?
– Это – да.
– Большой засранец?
– Ну, приличный. Давайте-ка другой сапог.
– А вон там черное что-то осталось возле ранта.
– Это я сделаю напоследок. Вы, главное, ни о чем не волнуйтесь.
Джон-Грейди поставил другую ногу на ящик и сам закатал брючину.
– Женщины первым делом ценят внешность, – сказал мальчишка. – Не думайте, что они не смотрят на ваши сапоги.
– А у тебя есть девчонка?
– Да откуда, на хрен.
– А говоришь так, будто у тебя насчет девчонок кое-какой имеется печальный опыт.
– А у кого не имеется? Когда они тебе просто так, для балды, таких себе и находишь.
– Ничего, не сегодня завтра тебя заарканит какая-нибудь чудесная молоденькая штучка, вот увидишь.
– Да ну, на фиг.
– А тебе сколько лет?
– Четырнадцать.
– Насчет возраста небось соврал?
– Ага. Конечно.
– По-моему, если ты признал это, то это уже вроде как и не вранье.
Мальчишка на секунду перестал растирать гуталин по голенищу, просто сидел, глядя на сапог. Потом опять начал.
– Если есть что-то, что я хочу, чтобы оно было не так, как оно есть, то я не так и говорю. Что тут плохого?
– Не знаю.
– Кто так не делает?
– Да все, наверное.
– Значит, все врут.
– А твой брат женат?
– Который? У меня их трое.
– Ну, тот, который был в морской пехоте.
– Ага. Он женат. Да они все женатые.
– Если женаты они все, зачем же ты спрашивал который?
Мальчишка-чистильщик укоризненно покачал головой.
– Ну вы даете, – сказал он.
– А ты, наверное, самый младший.
– Нет. У меня есть брат десяти лет, так он тоже женат и с тремя детьми. Ну естественно, я младший. А вы как думали?
– Так, может быть, быть женатыми вам на роду написано?
– Жениться никому на роду не написано. А я все равно беспутный. Oveja negra. Вы говорите по-испански?
– Да. Я говорю по-испански.
– Oveja negra. Это про меня.
– Черная овца.
– Так что уж я-то знаю, что это такое!
– Я тоже.
Мальчишка поднял взгляд. Протянув руку, вынул из ящика щетку.
– Без балды? – удивился он.
– Истинный крест.
– На мой взгляд, вы на беспутного не похожи.
– А как такие выглядят?
– Да уж не так, как вы.
Он обработал сапог щеткой, отложил ее, достал бархотку и встряхнул. Джон-Грейди сидит смотрит.
– А как насчет тебя? Что, если б тебе сказали, будь кем хочешь?
– Стал бы ковбоем.
– В самом деле?
Во взгляде, которым окинул его мальчишка, сквозило раздражение.
– Да вот еще! Хрен там! – сказал он. – Вы что, юмора не секете? Я был бы el rico [103]103
Богатым (исп.).
[Закрыть], целыми днями валялся бы и плевал в потолок. Неужто не понятно?
– А если бы все-таки надо было что-то делать?
– Не знаю. Может быть, летчиком…
– Вона как!
– А то! Летал бы везде…
– А прилетел куда-нибудь, и что там делать?
– Лететь куда-нибудь еще.
Закончив полировать сапог, он достал склянку краски и тампоном принялся подкрашивать каблук и краешки ранта.
– Другой сапог, – сказал он.
Джон-Грейди поставил перед ним другую ногу и мальчишка подкрасил рант. Затем сунул тампон обратно в склянку, завинтил пробку и поставил склянку в ящик.
– С вами все, – объявил он.
Джон-Грейди вновь расправил закатанные штанины, встал, сунул руку в карман и, вынув монету, вручил ее мальчишке.
– Спасибочки.
Джон-Грейди осмотрел свои сапоги:
– Как теперь мои шансы?
– Ну, теперь она хоть на порог вас пустит. А где цветы?
– Цветы?
– А как же! В таких делах надо быть во всеоружии.
– Наверное, ты прав.
– Мне это вам даже и говорить бы не стоило.
– Почему нет?
– Потому что надо самому со своими проблемами разбираться.
Джон-Грейди улыбнулся.
– Ты откуда родом? – спросил он.
– Отсюда.
– А ведь врешь.
– Вообще-то, я вырос в Калифорнии.
– А здесь как очутился?
– А мне тут нравится.
– Да ну?
– Вот вам и «ну».
– Нравится чистить башмаки?
– А что, мне и это нравится.
– То есть нравится уличная жизнь.
– Ну вроде как. А в школу я не люблю ходить.
Поправив шляпу, Джон-Грейди окинул взглядом улицу. Потом снова поглядел на мальчишку.
– Сказать по правде, – задумчиво проговорил он, – мне самому это никогда особо-то не нравилось.
– Во: беспутные мы, – сказал мальчишка.
– Беспутные. Но ты, мне кажется, еще беспутнее меня.
– Думаю, вы правы. Если за каким-нибудь советом, обращайтесь. Буду рад направить по верному пути.
Джон-Грейди улыбнулся.
– О’кей, – сказал он. – Еще увидимся.
– Adiós, vaquero [104]104
Пока, ковбой (исп.).
[Закрыть].
– Adiós, bolero [105]105
Лентяй, прогульщик (исп.); на мексиканском испанском – чистильщик сапог.
[Закрыть].
Мальчишка улыбнулся и помахал ему рукой.
Высокое, в полный рост, зеркало отражало и ее, и стоявшую за ней criada, чьи плотно сжатые губы ощетинились множеством булавок. Через зеркало она смотрела на девушку, очень бледную и очень тоненькую, особенно в сорочке и с высокой прической. Перевела взгляд на Хосефину, стоявшую чуть поодаль, опираясь подбородком на кулак руки, которую другой рукой поддерживала под локоть.
– Нет, – сказала Хосефина. – Нет и нет.
Покачав головой и произведя рукой движение, будто она отмахивается от чего-то несносного, criadaпринялась вытаскивать гребни и шпильки из прически, пока длинные черные волосы вновь не упали девушке на спину и плечи. Взяв щетку, служанка снова начала ею расчесывать девушке волосы, подставляя снизу под них ладонь и каждый раз приподнимая их шелковистую черную тяжесть, а потом давая им вновь упасть. Хосефина подступила ближе, взяла со стола серебряную расческу, отвела в сторону прядь волос и так ее подержала, внимательно глядя то на девушку, то на ее отражение в зеркале. Criadaсделала шаг назад и остановилась, держа щетку обеими руками. Обе с Хосефиной они изучали отражение девушки в зеркале, и все трое, залитые желтым светом настольной лампы, стояли в обрамлении золоченой, украшенной затейливой резьбой рамы зеркала, словно персонажи старинной фламандской картины маслом.
– Cómo es, pues [106]106
Ну и как теперь? (исп.)
[Закрыть], – сказала Хосефина.
Обращалась она к девушке, но та ничего не ответила.
– Es más joven. Más… [107]107
Так больше юности. Больше… (исп.)
[Закрыть]
– Inocente [108]108
Невинности (исп.).
[Закрыть], – сказала девушка.
Женщина пожала плечами.
– Inocente pues [109]109
Невинности? Пусть так (исп.).
[Закрыть], – сказала она.
Она внимательно всмотрелась в отражение лица девушки:
– ¿No le gusta? [110]110
Тебе не нравится? (исп.)
[Закрыть]
– Está bien, – прошептала девушка. – Me gusta [111]111
Да нет, пускай… По мне, так вполне (исп.).
[Закрыть].
– Bueno, – сказала женщина. Выпустив из рук ее волосы, она вложила расческу в руку criada. – Bueno [112]112
Ну и ладно… И хорошо (исп.).
[Закрыть].
Когда она вышла, старуха положила гребень на стол и подступила к девушке опять со щеткой. Покачав головой, прищелкнула языком.
– No te preocupes [113]113
Да полно вам (исп.).
[Закрыть], – сказала девушка.
Но старуха водила щеткой по ее волосам все яростней.
– Bellísima [114]114
Красавица! (исп.)
[Закрыть], – пришептывала она при этом. – Bellisima.
Она прислуживала девушке старательно. Заботливо. Ласкала пальцами каждый крючочек, каждую шнуровочку. Оглаживала ладонями сиреневый бархат на каждой груди отдельно, выправляла положение края декольте, булавочками скалывала платье с нижней юбкой. Смахивала пушинки. То приобнимет девушку за талию, то повернет ее и так и сяк, как куклу, то встанет на колени у ее ног, застегивая туфельки. Вот встала, отошла.
– ¿Puedes caminar? [115]115
Идти-то можешь? (исп.)
[Закрыть] – спросила она.
– No, – сказала девушка.
– ¿No? Es mentira. Es una broma. ¿No? [116]116
Нет? Ай, неправда! Ты шутишь. Нет? (исп.)
[Закрыть]
– No, – сказала девушка.
Criadaвозмущенно замахала на нее руками. Кокетливо постукивая высокими золотыми каблучками босоножек, девушка прошлась по комнате.
– ¿Te mortifican? [117]117
Тебя обижают? (исп.)
[Закрыть] – сказала criada.
– Claro [118]118
А то нет (исп.).
[Закрыть].
Девушка снова встала перед зеркалом. Старуха за ее спиной. Когда она моргала, закрывался только один ее глаз. Поэтому она все время, казалось, подмигивала, предлагая некое соучастие. Рукой поправив девушке прическу, она щипками пальцев придала объем «фонарикам» на рукавах.
– Como una princesa [119]119
Прямо как принцесса (исп.).
[Закрыть], – прошептала она.
– Como una puta [120]120
Как проститутка (исп.).
[Закрыть], – сказала девушка.
Criadaсжала ей руку. Шикнула на нее, сверкнув в свете лампы единственным глазом. И сказала, что ее возьмет замуж большой человек, богатый человек, и она будет жить с прелестными детьми в шикарном доме. Сказала, что на своем веку она знала многих таких.
– ¿Quién? [121]121
Кого, например? (исп.)
[Закрыть]
– Muchas [122]122
Многих (исп.).
[Закрыть], – прошипела criada. – Muchas.
Причем эти девушки, по утверждению criada, по красоте к ней даже близко не стояли. Ни ее достоинства у них не было, ни изящества. Девушка не отвечала. Через плечо старухи она смотрела в глаза будто какой-то своей сестры, которая там, в зеркале, стоически выдерживает тяготу неминуемого крушения надежд. В безвкусном будуаре, который и сам по себе представляет собой помпезную имитацию других комнат, других миров. Смотрела и пыталась разглядеть в отраженной трюмо своей собственной фальшивой надменности этакий щит против настойчивых уговоров старухи, ее увещеваний и обещаний. Стояла в позе сказочной девы, с презрением отвергающей подношения ведьмы, спрятавшей среди них жало несказанной порчи. Его укол повлечет притязания, от которых не избавишься, и ввергнет в состояние, из которого вовек не выйти. И, как бы обращаясь к девушке из зеркала, она сказала, что человеку не дано знать, где он ступил на путь, которым следует, но то, что он на нем уже стоит, знать можно.
– ¿Mande? – возмутилась criada. – ¿Cual senda? [123]123
Что ты несешь?.. Какой такой еще путь? (исп.)
[Закрыть]
– Cualquier senda. Esta senda. La senda que escoja [124]124
Да любой. Тот, этот. Путь, который ты выбрал (исп.).
[Закрыть].
Но старуха сказала, что у некоторых и выбора-то нет. Сказала, что, если ты беден, любой твой выбор – это палка о двух концах.
В этот момент она стояла коленями на полу, перекалывая булавки в подоле платья. Изо рта она уже все булавки вынула, разложила на ковре и брала их теперь с ковра по одной. Девушка смотрела на ее отражение в зеркале. Старуха кивала седой головой у ее ног. Подумав, девушка сказала, что выбор всегда есть, даже если этот выбор – смерть.
– Cielos [125]125
Силы небесные! (исп.)
[Закрыть], – сказала старуха. Торопливо перекрестилась и продолжила работу.
Когда она вошла в салон, он стоял у стойки бара. На помосте музыканты собирали инструменты, настраивали их, и время от времени в тишине звучали отдельные ноты и аккорды, как будто здесь готовятся к какой-то церемонии. В темной нише за помостом стоял Тибурсио, курил сигарету, обвив пальцами тонкий мундштук из черного дерева, инкрустированного черненым серебром. Бросил взгляд на девушку, потом устремил его в сторону бара. Смотрел, как парень обернулся, расплатился, взял свой стакан и, спустившись по широким ступеням с поручнями из крытых бархатом канатов, вышел в салон. Медленно выпустив дым из тонких ноздрей, Тибурсио открыл дверь у себя за спиной. В мимолетном потоке света обрисовался темным силуэтом, на миг отбросив длинную тонкую тень на пол салона, потом дверь снова закрылась, и он исчез, будто его и не было.
– Está peligroso [126]126
Это опасно (исп.).
[Закрыть], – прошептала она.
– ¿Cómo? [127]127
Что? (исп.)
[Закрыть]
– Peligroso. – Она обвела взглядом салон.
– Tenía que verte [128]128
Я должен был тебя увидеть (исп.).
[Закрыть], – сказал он.
Он взял ее руки в свои, но она лишь с гримасой боли смотрела на дверь, где только что стоял Тибурсио. Схватив Джона-Грейди за запястья, она стала умолять его уйти. Из сгущения теней выплыл официант.
– Estás loco [129]129
Ты сумасшедший (исп.).
[Закрыть], – шептала она. – Loco.
– Tienes razón [130]130
Ты права (исп.).
[Закрыть].
Она взяла его за руку и встала. Обернувшись, что-то шепнула официанту. Джон-Грейди встал, сунул в руку официанта деньги и повернулся к ней.
– Debemos irnos, – сказала она. – Estamos perdidos [131]131
Надо уходить… А то мы пропали (исп.).
[Закрыть].
Он сказал, что даже и не собирается. Что он этого не сделает и что она должна побыть с ним, но она сказала, что это слишком опасно. Что теперь это стало слишком опасно. Заиграла музыка. Плавное басовое легато виолончели.
– Me matará [132]132
Он убьет меня (исп.).
[Закрыть], – едва слышно проговорила она.
– ¿Quién? [133]133
Кто? (исп.)
[Закрыть]
Но она лишь качала головой.
– ¿Quién? – не отступался он. – ¿Quién te matará?
– Eduardo.
– ¿Eduardo?
Она кивнула.
– Sí, – сказала она. – Eduardo.
Той ночью ему снились вещи, о которых он только слышал; снились, хотя она ему о них не говорила. В помещении со стенами из завешенного флагами гофрированного железа и таком холодном, что его дыхание клубилось туманом, настил пола, застланного дешевым красным ковром, поднимался ярусами, на которых рядами стояли фанерные стулья с откидными сиденьями для зрителей. Перед ними грубый деревянный помост, сцена оформлена в виде ярмарочной платформы на колесах, над ней армированный кабель, идущий к горизонтальной оцинкованной железной трубе с навешенными на нее прожекторами, каждый с целлофановым светофильтром – красным, синим или зеленым. И волнистый занавес из уплотненного велюра, красного как кровь.
На стульях сидят туристы с театральными биноклями на шеях, официанты принимают у них заказы и разносят напитки. Когда свет в зале убавили, на помост пружинистым шагом вышел конферансье, снял шляпу, поклонился и с улыбкой воздел руки в белых перчатках. В кулисах стоял и курил alcahuete, а за ним взволнованно толпилось множество самых бесстыжих карнавальных персонажей: накрашенных блядей с голыми грудями, какая-то толстая тетка, вся в черной коже и с хлыстом, с ней юная пара в священнических облачениях. Какой-то то ли поп, то ли жрец, а рядом с ним сводня и козел с золочеными рогами и копытами в напяленном на него плойчатом воротнике из багряного крепа, широком и жестком, как у средневековой инфанты. А вот юные распутницы с нарумяненными щеками и синевой под глазами – эти держат свечи. И трио женщин, держащихся за руки, тощих и изможденных, будто вчера из лечебницы; все три одеты с одинаковыми нищенскими потугами на роскошь, и столько на них белил, что каждая бледна как смерть. В центре собрания на жестком ложе, словно жертвенная дева, лежит юная барышня в белом кисейном платье, со всех сторон обложенная искусственными цветами бледных пастельных тонов, навевающих мысль о том, что яркость у цветов отнята временем и солнцем. Будто они выкрадены с какой-нибудь затерянной в пустыне могилы. Грянула музыка. Какой-то древний кондукт-ро́ндель, слегка отдающий маршем. При этом в музыку периодически вклинивались щелчки, какие возникают, когда игла проскакивает царапину на черной шеллачной пластинке, а крутили пластинку, видимо, где-то за кулисами. Свет в зале окончательно погас, так что освещенной осталась только сцена. Поскрипывали стулья. Там и сям раздавался кашель. Музыка стихла настолько, что остался один шорох иглы да периодические щелчки – то ли неправильный метроном, то ли тиканье часов, в общем, что-то зловещее. Звук, намекающий на тайную цикличность, молчание и безграничное терпение, каковым только кромешный мрак может дать должное пристанище.
Но проснулся он не от этого сна, а уже от следующего, причем связь между первым сном и вторым вспомнить не удавалось. Он был один посреди мрачной и суровой местности, где дул непрекращающийся ветер и до сих пор во тьме витало присутствие тех, кто проходил здесь прежде. Ему как бы слышались их голоса, а может быть, эхо этих голосов. Лежал слушал. То оказался старик, слоняющийся по двору в ночной рубашке; Джон-Грейди соскочил с койки на пол; пошарив, нашел и натянул штаны, встал, застегнул ремень, нащупал и надел сапоги. На выходе из конюшни оказался Билли – стоял в трусах, заслоняя дверной проем.
– Я догоню, – сказал Джон-Грейди.
– Жалко старика, – сказал Билли.
Догнать его удалось, когда, завернув за угол конюшни, он направился бог знает куда. В шляпе, в сапогах и белом исподнем комбинезоне похожий на призрака, будто по усадьбе бродит ковбой из каких-то старых-старых времен.
Джон-Грейди взял его за локоть и повел к дому.
– Ну-ну, мистер Джонсон, – сказал он. – Вам совершенно нечего сейчас здесь делать.
В кухне зажегся свет, в дверях ее, одетая в халат, стояла Сокорро. Старик во дворе снова остановился, повернулся и устремил взгляд во тьму. Джон-Грейди стоял, держа его под локоток. Постояли и пошли к дому.
Сокорро широко распахнула сетчатую створку. Посмотрела на Джона-Грейди. Найдя рукой дверную ручку, старик обрел равновесие и вошел в кухню. Спросил Сокорро, есть ли кофе. Как будто именно за этим он и ходил, искал.
– Да, – сказала она. – Я вам сейчас сварю.
– С ним все нормально, – сказал Джон-Грейди.
– ¿Quieres un cafecito? [134]134
Кофе хочешь? (исп.)
[Закрыть]
– No gracias [135]135
Нет, спасибо (исп.).
[Закрыть].
– Pásale, – сказала она. – Pásale. ¿Puedes encontrar sus pantalones? [136]136
Входи… Входи. Ты его брюки найти сможешь? (исп.)
[Закрыть]
– Sí. Sí.
Он довел старика до стола, усадил на стул и пошел по коридору дальше. У Мэка горел свет, а сам он стоял в дверях:
– Он в порядке?
– Да, сэр. Он в норме.
В конце коридора он свернул в комнату налево, там снял со спинки кровати штаны старика. С карманами, тяжелыми от мелочи, складного ножа, бумажника. О, там еще и ключи от дверей, давным-давно позабытых. Держа штаны за шлевки пояса, вернулся. Мэк все стоял в дверях. Курил сигарету.
– Он что, вышел не одевшись?
– В одних кальсонах.
– Так он и вовсе скоро гол как сокол на двор выскочит. Тогда Сокорро как пить дать от нас сбежит.
– Не сбежит.
– Я знаю.
– Который теперь час, сэр?
– Да уж шестой пошел. Так и так уже почти пора вставать.
– Да, сэр.
– Ты не можешь посидеть с ним немножко?
– Хорошо, сэр.
– Как-нибудь этак успокой его. Пусть думает, что он просто встал чуть пораньше.
– Да, сэр. Сделаю.
– Вот: ты, поди, не знал, что нанялся на ранчо при дурдоме, не знал, а?
– Ну, он не сумасшедший. Просто старый.
– Знаю. Давай двигай. Пока он не простудился. Его исподнее, поди, такое старое и дырявое, что ночью в нем одном холодновато.
– Да, сэр.
Он сидел со стариком и пил кофе, пока не подоспел Орен. Орен окинул их обоих взглядом, но ничего не сказал. Сокорро приготовила завтрак, подала яичницу с гренками и колбасками чоризо, все поели. Когда Джон-Грейди поставил вымытую тарелку в сервант и вышел, уже занимался день. Старик все еще сидел за столом, по-прежнему в шляпе. Выходец из Восточного Техаса, он родился в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом, но смолоду жил в здешних местах. На его веку страна перешла от керосиновой лампы и лошади с телегой к реактивным самолетам и атомной бомбе, но не это его удручало. А вот с тем, что умерла его дочь, он так и не смог свыкнуться.
Они сидели в первом ряду, у самого стола аукциониста, и Орен время от времени вытягивал шею, чтобы аккуратно, через верхнюю доску ограды, сплюнуть в пыль площадки для торгов. У Мэка в нагрудном кармане рубашки была маленькая записная книжечка, которую он иногда доставал, сверялся с записями и совал обратно, потом снова доставал и уже не убирал, а так и сидел, держа в руке.
– Мы эту мелкую лошаденку уже смотрели? – спросил он.
– Да, сэр, – подтвердил Джон-Грейди.
Тот снова вынул записную книжку:
– Он говорит, она Дэвиса, а она ж не Дэвиса!
– Нет, сэр.
– Бина, – сказал Орен. – Это лошадь Бина.
– Да знаю я, что это за лошадь, – отмахнулся Мэк.
Аукционист дунул в микрофон. В огромном аукционном ангаре динамики висели высоко в разных его концах, и его голос квакал и крякал, сам себя перебивая.
– Поправочка, леди и джентльмены, поправочка. Эту лошадь выставляет мистер Райл Бин.
Начали с пятисот. Кто-то у дальнего конца торговой площадки коснулся поля шляпы, помощник аукциониста сразу повернулся к нему и поднял руку, а аукционист возгласил:
– Теперь шестьсот, шестьсот теперь, предложено шестьсот, имеем шесть сотен, кто даст семь? Ну-ка, семь давайте.
Вытянув шею, Орен задумчиво сплюнул в пыль.
– Ты глянь-кася, который там сидит, – то ж твой знакомец! – сказал он.
– Я узнал его, – сказал Джон-Грейди.
– А кто это? – спросил Мэк.
– Вольфенбаргер.
– А нас он узнал?
– А то! – сказал Орен. – Еще как узнал.
– Так ты, что ли, тоже его знаешь, Джон-Грейди?
– Да, сэр. Однажды он заезжал к нам.
– Я думал, ты с ним не говорил.
– А я и не говорил.
– Делай вид, будто его тут нет вовсе.
– Слушаюсь, сэр.
– А когда это он заезжал?
– На прошлой неделе. Не помню. В среду, кажется.
– Просто не обращай на него внимания.
– Да, сэр. Я и не обращаю.
– Больше мне делать нечего, еще за него волноваться!
– Да, сэр.
– Восемьдесят! Семьсот восемьдесят! – взывал аукционист. – Ну-ка, кто больше? Ведь меньше-то уж никак.
Жокей проехался на лошади вокруг площадки. Потом пересек ее наискось, остановился, сдал назад.
– Лошадь хороша и как тягловая, и как рабочая ковбойская, – продолжал нахваливать товар аукционист. – За такую тысячи долларов не жалко! А, вот, хорошо. Имеем восемь, восемь, восемь… А ну-ка, восемь с половиной! Кто даст восемьсот пятьдесят, восемьсот пятьдесят, восемьсот пятьдесят…
В итоге лошадь ушла за восемьсот двадцать пять, а на торг вывели кобылу арабских кровей, которую продали за семнадцать сотен. Мэк наблюдал, как ее уводят.
– Вот никогда бы я не стал такую суку сумасшедшую у себя держать, – сказал он.
Потом выставили очень броского на вид пегого с белой гривой мерина, который принес хозяину тысячу триста долларов. Мэк сверился с записями, поднял взгляд.
– Откуда, к черту, у людей такие деньги? – пробормотал он.
Орен покачал головой.
– Что Вольфенбаргер? Бился за него?
– Вы же сказали не смотреть туда.
– Знаю. Так бился он или нет?
– Ну, как бы да.
– Но все же не купил, скажи?
– Не-а.
– Я думал, ты зарекался смотреть туда.
– А мне и не требовалось. Он так махал руками, будто пожар кругом.
Мэк покачал головой и опять уставился в свои записи.
– Через минуту-другую должны начать торговать стринг из тех полудиких, – сказал Орен.
– И как считаешь, о каких деньгах пойдет речь?
– Те лошадки, думаю, пойдут не больше чем по сотне долларов за голову.
– А что будем делать с остальными тремя? Выставим их сразу тут же на продажу?
– Выставим тут же на продажу.
– Или, может быть, лучше продать у себя, прямо на месте.
Мэк кивнул.
– Может быть, – сказал он. И бросил косой взгляд в сторону трибун напротив. – Этот сукин сын, похоже, решил все слизывать с меня. Ненавижу такие вещи.
– Понимаю.
Он прикурил сигарету. Помощник конюха вывел следующую лошадь.
– По-моему, он и впрямь пришел покупать, – сказал Орен.
– По-моему, тоже.
– Спорим, он будет делать ставки на каждую из лошадей с Ред-Ранчо. Вот увидишь.
– Это без сомнения. Надо бы нам какую-нибудь подставу ему сделать.
Орен не ответил.
– Дурак – он собственному кошельку враг, – сказал Мэк. – Ну-ка, Джон-Грейди, что не так с той лошадью?
– Да ничего. Вроде все так.
– А что-то ты как будто говорил, что это какая-то жуткая помесь. Чуть ли не с марсианской лошадью.
– Ну, лошадь тоже может быть немного холодновата.
Орен сплюнул через доску ограды и осклабился.
– Холодновата? – переспросил Мэк.
– Да, сэр.
Начальной ставкой за эту лошадь объявили триста долларов.
– А сколько лет-то ей? Ты не помнишь?
– Сказали, одиннадцать.
– Ага, – хмыкнул Орен. – Шесть лет назад ей было одиннадцать.
В ходе торгов цена выросла до четырехсот пятидесяти. Мэк тронул себя за мочку уха.
– А сам-то я! – сказал он. – Тоже мне, барышник. Дубина стоеросовая.
Помощник указал на него аукционисту.
– А здесь у нас пятьсот, теперь пятьсот у нас, имеем пятьсот, – завел свою песнь аукционист.
– Я думал, вы не склонны к таким проделкам, – сказал Орен.
– К каким? – поднял брови Мэк.
Цена выросла до шестисот, потом до шестисот пятидесяти.
Больше он не проронил ни слова, ни руками не водил, ни головой не качал – вообще застыл.
– Имейте в виду, ребята: эт-та лошадь стоит малость дороже! – сказал аукционист.
В итоге лошадь ушла за семь сотен. В борьбу за нее Вольфенбаргер ни разу даже не вступил.
– А наш мудак-то не такой уж и мудак, скажи? – заметил Мэк.
– Что я должен на это сказать?
– Ну что-нибудь скажи уж.
– Ведь договорились же: действовать так, будто его здесь нет. А мы все делаем наоборот. Почему?
– Ну, это уж ты слишком. Что ты на человека ополчился? Требуешь, чтобы он следовал своим же собственным зарокам.








