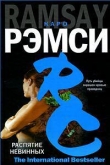Текст книги "Молот ведьм"
Автор книги: Константин Образцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Я достаю из бокового отделения ящика несколько небольших мешочков на длинной тесьме: в них освященная соль, травы и воск. Такие же точно висят сейчас у меня под одеждой. Она отчаянно мотает головой, но я надеваю все это ей на шею. Зашитые в ткань святыни болтаются на голой груди. Я беру в правую руку молоток, присаживаюсь на корточки у ее ног и смотрю на прекрасные стопы, на испачканные разводами талой грязи красивые пальцы с темно-красным лаком, и мне хочется прикоснуться к ним губами. Или провести языком.
Она перестает хохотать и сейчас слышно только хриплое, прерывистое дыхание. Я зажмуриваюсь и стискиваю святыни под водолазкой. Потом открываю глаза и заношу молоток.
– Нет, нет, нет, нет… – раздается шепот, но в тот же момент я бью что есть силы.
Удар выходит неудачным: железо скользит по мизинцу, срывая кожу и мясо и обнажая ярко-белую кость. Раздается пронзительный вопль, темная, как лак на ногтях, темно-красная кровь мгновенно наполняет рану, и тут я бью второй раз. Глухой стук и треск, как будто раздавили крупный орех. Молоток дробит кость, расплющивая мизинец так, что тот вытягивается вперед, превратившись в красно-белую мешанину, из которой вверх торчит маленький вишневый ноготь.
Оксана кричит и с силой откидывается назад на трещащем стуле. Груди подпрыгивают, мускулы ног напрягаются под белой кожей, затылок ударяется в стену. Крик глохнет среди рыхлых стен, сырых обоев и тряпок. Снаружи его можно было бы услышать, только проходя рядом с домом, но я уверен, что никто сейчас не пройдет мимо и не станет прислушиваться к звукам в глубокой ненастной ночи.
– Признаешь ли ты себя виновной в отречении от Бога, в попрании веры и союзе с дьяволом?
Она не отвечает, только извивается на шатающемся стуле и кричит. Я вновь размахиваюсь молотком, и на этот раз удар получается точным с первого раза: второй палец с хрустом ломается, неестественно изогнувшись. Кровь летит брызгами, а потом проливается на пол густой тягучей волной. Оксана вопит и на этот раз подается вперед, так сильно, что едва не выдирает из стены гвозди, которыми приколочена спинка. Я бью третий раз.
Когда я заканчиваю с левой ногой, двумя последними ударами не без труда раздробив сустав большого пальца, она уже не кричит, а только издает какое-то хриплое карканье. Голова болтается, длинная тягучая нитка кровавой слюны свешивается на грудь. Пальцы страшно изувеченной стопы слиплись и похожи на кусок фарша, перемолотый нерадивой хозяйкой вместе с костями. Весь пол залит кровью, но в пальцах конечностей человека проходят только малые сосуды, поэтому умереть от кровопотери ей не грозит. В тяжелой влажной духоте комнаты раздается запах мочи: прозрачная лужица собирается у нее между ног и тонкой струйкой стекает на пол. Оксана по-прежнему ничего не говорит, и я прерываюсь, не желая, чтобы от боли она окончательно впала в беспамятство. Я подношу к ее ноздрям пузырек с нашатырным спиртом, она дергается, но не поднимает головы.
Нужен отдых.
Мне становится жарко. Я делаю несколько глотков воды из бутылки. Тело под защитным костюмом кажется раскаленным, по спине стекают капли пота, холодный влажный воздух касается разгоряченного лица, как ледяная вода после парной. Я смотрю на мягкие изгибы полного, зрелого женского тела, на широкие бедра, большие мягкие груди, на белую кожу, покрытую испариной, поблескивающей в свете фонаря, и думаю, что еще могу с ней сделать. В низу живота разливается жидкое пламя, член набухает и ноет, подсказывая невыносимые ответы. Мне хочется встать у нее перед лицом и расстегнуть ставшие тесными брюки, стиснуть грудь или отвязать ее руки от спинки стула, поставить на колени, повалив лицом на кровать, раздвинуть крупные ягодицы, и…
Я провожу рукой по лицу, прогоняя наваждение. С двумя страстями приходится бороться во время дознания – гневом и похотью, и нельзя позволять им взять верх над собой. Пытка должна быть функциональной и эффективной, и служить достижению целей допроса, а ни в коем случае не услаждению страстей палача.
Переведя дух, я снова сажусь на колени и кладу ладони на ее бедра. Даже сквозь перчатки я чувствую, что они холодные и влажные, как лед.
– Оксана, – зову я.
Она смотрит на меня мутным взглядом и кривит рот, желая заплакать.
– Оксана, я прошу тебя во имя братской любви и грядущего спасения души сказать все, что мне нужно. Это ведь не сложно, правда?
Оксана прикусывает губу, в ее глазах страх, и она отчаянно мотает головой. Ее лицо рядом с моим, и мне хочется поцеловать ее покрасневшие припухлые губы.
– Послушай, – снова увещеваю я. – Мне придется пытать тебя до тех пор, пока ты не признаешься. Видит Бог, я не хочу этого делать. Правда, не хочу.
Она отводит глаза и молчит.
– Признаешь ли ты себя виновной в попрании веры и союзе с дьяволом?
Только хриплое дыхание в ответ. Я со вздохом беру молоток, заношу его для удара, и тут она вдруг кричит:
– Да! Да! Да! Да…
Я встаю, беру бутылку с водой и прикладываю к ее губам. Оксана делает несколько жадных глотков, вода течет у нее по лицу и груди. Я стараюсь не смотреть. Голова ее запрокидывается, глаза закатываются, и я едва успеваю убрать бутылку, чтобы вода не залила горло. Мне приходится снова давать нашатырь, а потом вылить почти всю воду ей на голову.
Через несколько минут она начинает говорить. Речь путается от боли и страха, и мне приходится подсказывать ответы, иногда помогая себе молотком.
– Признаешь ли ты себя виновной в союзе с дьяволом?
– Да!
– Признаешь ли ты, что топтала и попирала крест в знак отречения от веры?
– Да!
– Признаешь ли, что попирала Святые Дары и богохульствовала?
– Да!
– Признаешь ли, что давала клятву дьяволу слушаться его, служить ему и во всем подчиняться?
– Да!
– Признаешь, что участвовала в шабашах, черных мессах и сатанинских ритуалах?
– Да!
– Есть ли на тебе отметина, оставленная дьяволом в знак того, что ты принадлежишь ему не только душой, но и телом?
– У меня есть татуировка…
Я замахиваюсь.
– Это отметина дьявола?
– Да!
– Где?
Она резко наклоняет голову, откидывая волосы вперед. Я беру фонарь и свечу: сзади на шее, под самыми волосами, виден небольшой синеватый рисунок, схематичное изображение перевернутого трезубца. Во всяком случае, не пришлось искать самому.
– Признаешь ли, что на шабашах приносила в жертву некрещеных младенцев и пила их кровь?
Оксана не отвечает, плачет, трясется, и я без замаха, но с силой бью молотком по изувеченной левой стопе.
Она воет.
– Да! Да! Да!!!
Она подтверждает все, что касается деталей проведения дьявольских ассамблей и есбатов, известных мне по книгам. Признается в святотатстве, похищении детей, в кошмарных жертвоприношениях и разнузданных оргиях. Она рыдает, срываясь на крик, захлебывается словами и плачем, и я решаю сделать еще один перерыв. Сейчас, когда тело ее истерзано, а дух сломлен и подчинен моей воле, между нами устанавливается особая близость, сродни интимной. Все ее существо в моей власти, и она чувствует это. Я сажусь на пол, прислонившись спиной к кровати, прикрываю глаза, как вдруг слышу дрожащий голос:
– Я раскаиваюсь…
Она смотрит на меня: глаза покраснели от боли и слез, и я думаю о распространенном мнении, что ведьма не может плакать. С другой стороны, «свойство женщин – это плакать, ткать и обманывать. Нет ничего удивительного в том, что вследствие лукавых происков дьявола, с божьего попущения, даже и ведьма заплачет»[5]5
Якоб Шпренгер, Генрих Инститорис, «Молот ведьм»
[Закрыть].
– Что ты сказала?
– Я раскаиваюсь…
– В чем же?
– Во всем…в чем нужно…про что говорила… Пожалуйста, можно мне еще попить?
Я даю ей остатки воды и строго говорю:
– Покаяние должно быть деятельным. Расскажи то, что мне нужно знать, и я приму его.
– Что еще мне надо рассказать?
– Расскажи все, что знаешь про других ведьм.
Лицо ее искривляется совсем как у ребенка, и она снова начинает плакать, тихо, жалобно и обреченно.
– Но я ничего не знаю…ничего…
– Оксана, – говорю я мягко, – есть правила, понимаешь? Раскаяние нужно доказать. И если ты сможешь сообщить мне что-то, что угодно, что поможет найти остальных, я оставлю тебя в живых.
В ее глазах недоверие и надежда.
– Обещаете?
Я нежно провожу рукой по ее волосам, убираю свисающие мокрые пряди.
– Разумеется, обещаю. Зачем мне тебя убивать? Я даже отвезу тебя в больницу, которая сейчас будет весьма кстати. Попробуй вспомнить все с самого начала, а там посмотрим, может быть, что-то окажется полезным.
Я глажу ее по голове, целую в лоб. Она прерывисто вздыхает и начинает говорить, время от времени посматривая на меня, словно ожидая подсказки или одобрения, совсем как примерная школьница, отвечающая урок строгому учителю.
Три месяца назад Оксана пошла к одной колдунье – гадалке, ворожее – чтобы сделать заговор на богатство. Нашла ее по объявлению в газете. Отчаянное материальное положение довело несчастную женщину до мысли о том, что иного средства для поправки дел уже не осталось. Колдунья несколько раз что-то ворожила, благополучно забрав за свои сомнительные услуги немногие последние деньги, а потом предложила более сильное и по-настоящему действенное средство, если, конечно, Оксана решится. И та решилась. Во время посвящения на первом шабаше, когда дело дошло до принесения жертвы, она едва не сбежала, но осталась. Ради дочери. Потом ей вручили талисман, старинную монетку, которую она с тех пор постоянно носит с собой, в сумочке: гадалка сказала, что так надо, и что теперь все будет хорошо. И действительно: почти сразу она получила два отличных заказа от стрип-клубов на пошив платьев, а потом позвонили и из Москвы – тоже клуб, и тоже солидные деньги. Все происходящее казалось ей счастьем и чудом. Все, кроме необходимости каждый месяц участвовать в ассамблее ковена и чудовищных ритуалах шабаша.
Монотонный дождь тихо шуршит по старой шиферной крыше, в комнате становится как будто теплее и даже уютнее, а я сижу на полу, рядом с растекшейся лужей мочи и крови, и думаю, что пользы от ее откровений немного. Где проходили ассамблеи ковена, она не знает: та самая старуха, гадалка, заезжала за ней и отвозила с завязанными глазами в какой-то заброшенный дом, в подвале которого были организованы сборища, а потом точно так же увозила обратно. Имен она тоже не знает, точнее, настоящих имен, только те, которыми они называли друг друга на шабаше: Прима, Княгиня Ковена; Альтера и Терция, старшие ведьмы; Кера, Лисса… Ее саму при посвящении назвали Шанель – наверное, из-за профессии. Она не может описать даже лица, потому что на тех двух есбатах, где пришлось побывать, все были в масках – но она, наверное, смогла бы узнать голоса. Конечно, она может рассказать про старуху-гадалку: есть и номер телефона, и адрес, и имя…
– Нет, – говорю я. – Про нее я и так все знаю. Может быть, что-то еще?..
Она делает вид, что задумалась. Я тянусь к молотку, Оксана замечает это и кричит:
– Я вспомнила, вспомнила!
Одна из ведьм, которую называли Белладонна, узнав о ремесле Шанель, попросила сшить ей костюм несколько специфического свойства: платье из полупрозрачной ткани, очень короткое и полностью открытое на груди.
– Понимаете, не просто вырез, а чтобы грудь совсем была открыта. Я спросила, зачем, а она засмеялась и сказала, что это профессиональная одежда…
– Она тоже танцует стриптиз?
– Я спросила об этом, а она сказала, что нет, но больше ничего…
– Можешь описать эту Белладонну? Если не лицо, то, может быть, рост, фигура? Оксана, ты же швея, я верю, ты сможешь! – подбадриваю я.
Оксана задумывается, а потом выдает: светлые волосы, рост примерно 168 сантиметров, размер одежды 44-й, высокая талия…ну, и все, наверное.
– А возраст?
– Чуть младше меня…может быть, лет двадцать пять…но не старше, чем я, это точно.
– А какие-то особые приметы? Татуировки, шрамы? Тип внешности какой-то особый?
Она снова думает и говорит:
– Не помню…глаза, кажется, зеленые… – и жалобно смотрит на меня.
Под такое описание подходят сотни, если не тысячи женщин в городе. Я думаю, не продолжить ли пытку, но останавливаюсь. Известно, что «некоторые из пытаемых обладают столь слабым характером, что они подтверждают все, что им говорят; и даже ложные сведения подтверждаются ими»[6]6
Якоб Шпренгер, Генрих Инститорис, «Молот ведьм»
[Закрыть]. А мне не нужно, чтобы она начала фантазировать.
Пора заканчивать. Я поднимаюсь и говорю:
– Оксана, спасибо тебе, ты все сделала правильно. Мы закончили.
Она смотрит на меня и лепечет:
– Вы же обещали отпустить, помните? Вы обещали… у меня мама с дочкой сидит…я должна…дочка…
Лицо ее опять кривится в гримасе плача. Я снова глажу ее по голове, прижимаю к себе и шепчу на ухо:
– Конечно, конечно, все будет хорошо. Подожди минуту, пожалуйста.
С ножом и фонарем я иду вглубь дома. В одной из комнат нахожу старинный приемник: огромный деревянный сундук на ножках, с проигрывателем под верхней откидной крышкой. Отрезаю от него электрический шнур, засовываю в карман и возвращаюсь обратно. Все авторитетные ученые сходятся во мнении, что обещание сохранить жизнь нужно держать только до окончания процесса, и некоторые полагают, что потом сознавшуюся ведьму все же следует сжечь живой. Но я считаю, что кроме правосудия есть еще и традиции милосердия в отношении тех, кто принес покаяние.
– Сейчас я разверну стул, чтобы развязать руки. Сиди спокойно.
Клещами вытаскиваю вбитые в стену гвозди, с усилием разворачиваю Оксану на стуле спиной к себе и достаю из кармана провод.
– Прости меня. Мне правда очень жаль.
Я быстро накидываю удавку ей на шею и с силой затягиваю. Оксана дергается и отталкивается ногами так, что стул подпрыгивает, врезается спинкой мне в живот и едва не опрокидывается, из ее груди вырывается сдавленный судорожный звук, так и не ставший криком, а я быстро делаю еще одну петлю и тяну сильнее. Она хрипит. Внезапно пальцы ее рук, связанных за спиной, впиваются ногтями мне в ногу повыше колена. От резкой боли я чуть не выпускаю провод, но продолжаю тянуть, чувствуя, как ее ногти рвут защитный костюм, вонзаются в кожу сквозь ткань брюк, а кисти рук, невероятно выгибаясь, подбираются к паху. Я наваливаюсь вперед, чтобы подключить мышцы груди, как при упражнении с эспандером, и растягиваю провод, словно хочу его разорвать. Удавка впивается ей в шею так глубоко, что исчезает в складках побагровевшей кожи. Хрип прерывается, отчаянная хватка пальцев на моем бедре слабеет, но я продолжаю тянуть что есть сил, и стою, вцепившись в концы провода, еще минуты две после того, как ее тело расслабилось и обвисло на стуле.
«Ворожей не оставляй в живых»[7]7
Исход, 22.18
[Закрыть].
Выпускаю удавку из онемевших пальцев, устало присаживаюсь на кровать, стараясь не смотреть на лицо. Я чувствую себя совершенно измотанным и усталым, но все же нахожу в себе силы, чтобы прочитать отходную молитву.
«Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis…»[8]8
** Начальные слова католической заупокойной молитвы: «Покой вечный даруй им, Господи, и свет вечный да светит им» (лат.)
[Закрыть]
Ночь уже прошла, утро еще не наступило. Мир как будто застыл вне времени и вне пространства. Только мрак вокруг, и небесная влага с недобрым шепотом оседает во тьме на невидимый лес, дремлющий в ожидании настоящей весны.
Я ставлю ящик с инструментами рядом с машиной, прислоняю ружье к багажнику, и с ножом в руках снова возвращаюсь в дом. Разрезаю скотч, удерживающий недвижное тело на стуле, и оно грузно валится на пол. Потом беру труп за ледяные лодыжки и выволакиваю наружу. Голова с глухим стуком бьется о деревянные пороги и низкую ступеньку крыльца. Я тащу тяжелое тело за ноги, слышу шорох, с которым оно скользит по гниющей мокрой листве и чувствую, как еще теплая кожа цепляется, а потом рвется об острую проволоку поникшей изгороди. Когда я кое-как усаживаю ее, прислонив спиной к замшелому бетонному столбу, мне все-таки приходится взглянуть ей в лицо: оно сине-багровое, все в темных отметинах полопавшихся сосудов, безобразно одутловатое, как будто покойница обиженно надула щеки перед смертью. Ниже впившейся в шею удавки тело белое, как бумага, и округлившаяся темная голова с чудовищным колтуном спутавшихся длинных и грязных волос, в которых застряли листья и мелкий сор, кажется головой огородного пугала, приставленной к женскому телу.
Крепко привязывать труп нет смысла, но я все же для порядка прихватываю тело к столбу проволокой за шею и под грудью и последний раз возвращаюсь в пустой дом, чтобы забрать пальто, шляпу и разрезанные тряпки.
Вытряхиваю на колени покойнице содержимое большого красного чемодана: туфли, одежда, большая косметичка, флакон с шампунем, куски каких-то тканей вываливаются бесформенным ворохом. Последней выпадает кукла «Monster High» в картонной упаковке: гротескная большеголовая девица с тонкими ручками и ножками, выглядящая, как проститутка, накрасившаяся к Хэллоуину.
Какое время, такие и игрушки. Сейчас весь мир похож на размалеванную для Хэллоуина шлюху.
Бросаю на куклу пустой чемодан, на него летят сапоги, которые я достал из багажника, и куски искромсанной одежды. Потом при свете фонаря изучаю содержимое сумочки: вынимаю из внутреннего кармашка на «молнии» паспорт в яркой обложке, конверт с небольшой пачкой пятитысячных купюр, который прячу во внутренний карман пиджака; в него же засовываю еще один конверт, маленький, из плотной желтой бумаги, в котором лежит старинная медная монета. Остальное добавляю к куче других вещей. Последними туда отправляются мой разобранный мобильный телефон, испачканный защитный костюм и резиновые перчатки. Святыни на шее покойницы я не трогаю: хотя на этот счет и нет никаких прямых указаний, мне почему-то кажется, что так будет правильно.
Я завожу двигатель, зажигаю фары, разворачиваю машину и выхожу для свершения последнего акта. В мертвом электрическом свете, среди тьмы молчаливого леса, засыпанное пестрыми тряпками мертвое белое тело с темно-багровой головой и истрепанной паклей грязно-светлых волос, выглядит, как работа сумасшедшего бутафора.
«Книга, как здорово! Я обязательно куплю! Дадите мне автограф?»
Я вытаскиваю из багажника канистру с бензином и короткую деревянную рейку с прибитой фанерной табличкой. На табличке краской по трафарету выведено: «ВЕДЬМА». Я втыкаю табличку в песок на дороге, кладу рядом найденный в сумочке паспорт, а потом поливаю бензином рассыпанные вещи, одежду, лью на голову и голые плечи. Убираю канистру обратно, вынимаю из кармана спички, потом случайно бросаю взгляд в сторону и вздрагиваю так, что роняю коробок. На фоне темного силуэта дома чернеет, как провал в непроглядную потустороннюю тьму, нечеткое очертание высокой человеческой фигуры. Я отворачиваюсь, медленно поднимаю упавший коробок, а когда снова поднимаю глаза на дом, фантом уже исчез. Я перевожу дыхание и чиркаю спичкой.
Огонь вспыхивает мгновенно, с ровным, опасным гудением. Пламя такое яркое, что резью бьет по глазам. Я вижу, как вспыхивают волосы, как быстро чернеет и лопается кожа, и тело едва заметно ерзает в пламени, словно пытаясь встать. Когда большая грудь чуть поднимается, сжимаясь, обугливаясь, и покрывается трещинами, из которых сочится наружу моментально закипающий в пламени жир, я отворачиваюсь и иду к машине.
«Ведьмы заслуживают наказаний, превышающих все существующие наказания. Поэтому, если даже они раскаются и обратятся к вере, они не заточаются в пожизненную тюрьму, а предаются смерти»[9]9
* Якоб Шпренгер, Генрих Инститорис, «Молот ведьм»
[Закрыть].
Я долго кружу по проселочным дорогам, вдали от трасс с их постами полиции и камерами видеонаблюдения, пока не выезжаю на шоссе по направлению в город. Дождь перестал, и темно-серое небо начинает нехотя светлеть на востоке. Справа меж редких деревьев сначала мелькает, а потом раскрывается вдаль и вширь гладь огромного озера. Я останавливаю машину на обочине и выхожу.
Вокруг ни души. Над озером купол торжественной предутренней тишины. Наступает Лэтаре – четвертое воскресенье Великого Поста. Я глубоко вдыхаю холодный чистый воздух и смотрю в небо. Там пусто.
«Laetare Jerusalem: et conventum facite, omnes qui diligitis eam…» [10]10
** Исаия, 66.10: «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нём, все любящие его» (лат.)
[Закрыть]
У берега еще держится грязный лед, но уже в нескольких метрах за ним неподвижно чернеет маслянистая поверхность воды. Я лезу в карман, достаю оттуда конверт с медной монеткой и некоторое время смотрю на нее, держа на ладони: старая копейка, с полустертым изображением царского герба и двумя различимыми цифрами: 18… Я широко размахиваюсь и с силой бросаю ее в озеро. Монета описывает широкую дугу и с едва заметным плеском исчезает в темной воде.
Из нагрудного кармана пиджака вытаскиваю мобильник Оксаны, включаю его и набираю короткий номер полиции.
– Я хочу сообщить о местонахождении трупа с признаками насильственной смерти.
Меня не перебивают, пока я рассказываю, где они могут найти тело, но потом обязательно начнутся вопросы, на которые я не буду отвечать. Поэтому я просто говорю на прощание:
– Я снова сделал вашу работу.
Глава 2
– Вам еще повторить?
Бармен Дэн, большой добродушный парень в бейсболке и черной футболке с изображением какого-то персонажа комиксов. Дэн – настоящий бармен, и прекрасно чувствует, каким должен быть для каждого гостя за стойкой в любой момент времени: молчаливой тенью или веселым шутником, другом для разговора по душам или просто собутыльником, рассказчиком или внимательным слушателем. С Алиной он всегда безупречно вежлив, предупредителен и держит почтительную дистанцию, что лишний раз подтверждает: Дэн – настоящий бармен.
– Да, повторить то же самое. И посчитать.
Дэн аккуратно наливает порцию виски, ловко бросает туда два кубика льда, несколько церемонно кивает и идет за счетом. Алина поднимает бокал, вдыхая праздничный карамельный аромат «Джек Дэниэлс». Если прикрыть глаза, то можно представить, что за окном все тот же ноябрь: та же хмарь из снега с дождем, угрюмое небо, холодный ветер, мокрые крыши, тот же город, похожий на ветшающий склеп, та же работа – жизнь застыла в сером промозглом безвременье. Даже тот же паб – «Френсис Дрейк», в котором осенью Алина переступила порог, навсегда разделивший ее жизнь на до и после. Наверное, потому она и бывает тут так часто: люди всегда приходят туда, где чувствуют связь с прошлым, до тех пор, пока это прошлое им дорого.
Из колонок звучит разудалый кельтский рок, и ирландские парни хрипло поют про пушки и барабаны, барабаны и пушки. Алина делает глоток, и добрый друг Джек согревает мысли и чувства ласковым жидким огнем. Она встряхивает золотисто-рыжими волосами, ставит стакан на темное дерево стойки и смотрит вокруг. Сейчас суббота, но людей меньше, чем можно было бы ожидать в ненастную ночь, когда многие стремятся укрыться от тревожной тоски в желтоватом теплом сумраке паба. Несколько пар расположились за длинными высокими столами у окон, на низком кожаном диване у дальней стены пристроился маленький индус, из второго зала временами доносится многоголосый густой мужской смех.
Может быть, они пьют как раз за тем столиком у окна, думает Алина. И ставят пивные кружки туда, где полгода назад лежали папки с фотографиями растерзанных девичьих трупов.
Вдоль длинной барной стойки, блестящей в полумраке полированным деревом и латунными поручнями, на высоких табуретах чинно сидят постоянные гости, почетные члены клуба полуночных пьяниц. Перед каждым стакан с любимым напитком; иногда они перебрасываются репликами друг с другом или вступают в беседу с барменом, но чаще просто сидят и молча пьют, глядя перед собой, как будто ожидая чего-то. Некоторых Алина знает по именам, но большинство просто в лицо. Они ее тоже знают, и когда Алина приходит и садится на свое место у правого края стойки, ей кивают, и она кивает в ответ. За те три месяца, что Алина появляется здесь, все уже выучили, что к ней не нужно приставать с разговорами, не говоря уже о том, чтобы просто приставать. У Алины свои привилегии этого сообщества ночных одиночек, и остальные его члены воспринимают ее как часть здешнего мира: невысокая молчаливая молодая женщина с золотистыми волосами и строгим лицом, заглядывающая на пару часов вечерами и скрашивающая пустоту пьяной ночи возможностью строить предположения о загадке ее одиночества. Интересно было бы послушать их версии, думает Алина и усмехается. Насколько близко они оказались бы к истине? Хотя, если опустить некоторые обстоятельства ее жизни, истина очень проста: ей, как и всем остальным, просто некуда идти и не хочется возвращаться в то место, которое, за неимением более точного слова, называется домом. И, как и все, она ждет, только в отличие от других, знает, чего именно.
Иногда, обычно перед тем, как наступает пора уходить, ей кажется, что сейчас откроется дверь, и вместе с дуновением холода сюда войдет Гронский, в черном костюме, пальто, в белой рубашке, по обыкновению бледный, небритый, высокий и прямой, как палка. Он сядет рядом, закурит, возьмет себе виски и снова позовет за собой, туда, за порог, который она переступила когда-то. В такие минуты Алина с радостью согласилась бы снова терпеть его раздражающую манеру общаться, привычку скрывать и недоговаривать, высокомерие и категоричность, была готова простить ему то, что он показал ей другую, яркую и насыщенную жизнь, а потом пропал, оставив ее здесь, в омуте остановившегося времени. Конечно, она знала, что он не придет и не позовет, но думать об этом было и больно, и приятно одновременно, словно сами мысли позволяли ей сохранить связь с теми шестью неделями, изменившими все.
Кадровые потрясения, которое испытало в ноябре Бюро судебно-медицинской экспертизы, обернулись для Алины во благо: она заняла должность начальника отдела экспертизы трупов, что давало больше возможностей для ее излюбленной формы эскапизма – полного погружения в работу. Закончился ледяными дождями темный ноябрь, под стенания жителей города о так и не наступившей толком зиме прошел и невразумительный декабрь. За три дня до Нового года Алина отметила свой тридцатый день рождения. Вдвоем с отцом они посидели в гостиной его загородного дома, помолчали о разном, а потом папа сделал ей неожиданный подарок – маленький золотой крестик на цепочке, точную копию того, что был у ее мамы. Годом раньше Алину такой подарок тронул бы до глубины души; впрочем, он тронул и сейчас, но несколько иным образом, вызвав воспоминания об эксгумации, потемневших останках, а еще о тех обстоятельствах, которые привели к гибели мамы много лет назад. Крестик Алина с благодарностью приняла, надела его на шею и засобиралась домой.
Новый год она встретила в одиночестве.
К счастью, ее работа позволяла игнорировать Рождественские каникулы с их изнуряющим бездельем и какой-то ритуальной раблезианской невоздержанностью. Алина каждый день приезжала в Бюро, сама проводила экспертизы, писала заключения и с удовольствием подменяла своих счастливых коллег, которые уезжали в отпуск и на страницах Социальной сети радостно выставляли напоказ голые ноги на фоне пляжей и моря. Но работа не приносила былого удовлетворения. Все чаще Алиной овладевало странное беспокойство, словно все, чем она занималась, не имело никакого смысла, будто жизнь мелькнула на миг, и прошла стороной. Алине не хватало ощущения настоящего дела, и то, что когда-то пугало и вызывало у нее отторжение, сейчас казалось захватывающим и ярким приключением. Ей стали сниться тревожные сны: в них она пробиралась по сумрачным подвалам, карабкалась по крышам, стреляла из дробовика по неясным теням в лабиринтах дворов, перескакивала на машине через разводящийся мост, и постоянно то ли гналась за кем-то, то ли пыталась убежать.
Ее состояние начали замечать на работе. Коллеги и подчиненные уважали и даже любили ее, несмотря на подчеркнуто отстраненный деловой стиль общения, и теперь все как один пытались завести разговоры. Хуже всего были беседы о личном: Алине зачем-то рассказывали о перипетиях любовных историй, семейных проблемах и всякий раз ей казалось, что от нее ждут ответных откровений. Что она могла им сказать? «Знаете, мне уже тридцать, а лучшие воспоминания жизни связаны с событиями, которые вам показались бы сущим кошмаром?» Или все ждали, что она наконец откроет им тайну, почему красивая, успешная, умная женщина до сих пор не устроила свою личную жизнь?
Дэн принес счет. Алина сделала еще один глоток, и взялась за увесистую сумочку – увесистую потому, что в ней рядом с бумажником лежал небольшой травматический пистолет. Его она тоже купила тогда, в ноябре, после исчезновения Гронского. Купила не потому, что стала бояться чего-то, нет – наоборот, ей казалось, что уже ничто в жизни не сможет напугать ее по-настоящему. Просто ей нравилось ощущать вес пистолета. Чувствовать себя вооруженной. И знать, что в любой момент может пустить оружие в ход.
В пабе становилось душно и громко. Хриплых ирландских ребят сменили гитарные аккорды хард-рока, утробный хохот во втором зале разбавили пьяные бравые выкрики, и оттуда мимо барной стойки периодически стали ходить в сторону туалета и обратно осоловелые красноглазые мужчины. Один из них, пузатый крепыш в туго натянутой на животе полосатой рубашке, проходя мимо, взглянул на Алину и попытался улыбнуться. Расслабленные алкоголем мимические мышцы провалили эту попытку, и смогли только растянуть вкривь и вкось лоснящиеся красные губы. Алина посмотрела ему в глаза. Мужчина отвернулся и поспешно скрылся в сортире. Она внезапно поймала себя на чувстве, что хотела бы, чтобы этот пузатый тип попытался завязать с ней знакомство, и чем навязчивее и бесцеремоннее, тем лучше. Потому что это дало бы ей основания тоже с ним не церемониться.
«Вот поэтому у меня нет личной жизни».
Конечно, как и у каждой женщины у нее было какое-то подспудное желание детей, семейного счастья, существующее где-то глубоко внутри, на уровне биологического кода. Но реально Алина никогда об этом не думала, не стремилась, и спокойно прожила всю жизнь, занимаясь тем, что было для нее действительно важным и интересным: учебой в Медицинской Академии и интернатуре, кандидатской диссертацией, преподаванием, спортом, чтением, любимой работой, в которой находилось множество возможностей и для приложения интеллектуальных способностей и для профессионального роста. Семья и дети должны были случиться когда-то потом, в будущем. И вот теперь ей тридцать, и она незаметно попала в то самое будущее, которое оказалось совсем не таким, как она себе представляла.
Да и представляла ли вообще? Какое оно, семейное счастье? Картинка из телевизионной рекламы? Улыбающиеся отбеленными зубами муж, жена, двое детей, и такая же белозубая собака? От этого веяло столь невыразимой тоской, что Алина скорее готова была согласиться прожить всю оставшуюся жизнь в одиночестве, чем увидеть себя на зеленой лужайке в окружении глянцевых домочадцев или на кухне, непременно огромной и светлой, в процессе приготовления обеда с использованием «Магги на второе». Немногочисленные случавшиеся у нее романы и унылые повести о семейной жизни коллег по работе убедили Алину в простой истине: если ты что-то из себя представляешь, одной быть лучше, проще и комфортнее. Единственный пример счастливой семьи, который она знала – ее собственной семьи – научил двум вещам: она никогда не сможет стать такой, какой была ее мама, а главное, если даже у нее это получится, то даже идеальная и счастливая по всем принятым меркам жизнь не гарантирует того, что муж не увлечется неожиданно какой-то девицей, случайно встреченной в ночном баре. Маниакальное женское желание выйти замуж и родить казалось просто навязанной кем-то обязанностью, причем навязанной настолько давно, что выполнение ее уже потеряло свой смысл. Единственное, что пугало в картине одиночества, так это альтернатива обнаружить себя через десять лет здесь же, в пабе, со стаканом виски в руке. Перспектива так себе, но уж точно лучше, чем прожить жизнь с по сути чужим человеком и еще нарожать детей лишь потому, что так надо. Но с такой перспективой, видимо, придется смириться, потому что единственный человек в жизни Алины, который был ей интересен, о котором она хотела заботиться, помогать, быть ему напарником и партнером, просто исчез, потому что у него нашлись дела поважнее.