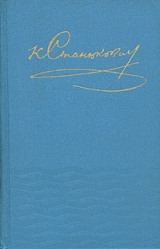
Текст книги "Том 3. Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
XIV
Никандр только что помолился и собирался лечь спать в своей тесной каморке, рядом с кухней, как вдруг среди тишины, нарушаемой лишь по временам храпом повара Лариона, на кухне звякнул чей-то нетерпеливый звонок.
Никандр, со свечой в руке, пошел отворять двери и был изумлен, увидав перед собой Леонида Ветлугина. Он был, видимо, смущен и расстроен, этот блестящий красавец, высокий и статный блондин с большими черными, несколько наглыми, глазами, сводивший с ума немало женщин своею ослепительною красотой. Всегда веселый и смеющийся, он был теперь подавлен.
– Отец спит? – спросил он, входя на кухню.
– Недавно легли. Теперь, верно, почивают, Леонид Алексеич! – отвечал Никандр с какою-то особенной почтительной нежностью.
– А маменька?
– Барыня, верно, еще не спят…
– Ну, и отлично… Мне надо маменьку видеть.
– Пожалуйте… Я вам посвечу… Только дозвольте сюртук надеть…
Через минуту Никандр вернулся из каморки и сказал:
– А вам, Леонид Алексеич, барин час тому назад телеграмму послали.
– Телеграмму?
– Точно так-с… Просят завтра с первым поездом пожаловать.
Леонид как-то весь съежился и прошептал:
– Узнал уж?.. Ну, да все равно… Что, он очень сердит?
– Сердитые вернулись из клуба… и не сразу легли… В очень угрюмой задумчивости сидели… Да что такое случилось, Леонид Алексеич?
– Скверные, брат Никандр, дела!
– Бог даст, лучше будут, Леонид Алексеич!.. А я вот к вам с покорнейшей просьбой… Не откажите, Леонид Алексеич!.. – прибавил Никандр с почтительным поклоном.
– Какая просьба, Никандр?.. – удивился молодой Ветлугин.
– Быть может, вы временно в денежном затруднении-с, Леонид Алексеич… Так удостойте принять от слуги… Разживетесь, отдадите… У меня есть четыреста рублей… Скопил-с за время службы в вашем доме…
Леонид был обрадован.
– Спасибо, голубчик Никандр. Деньги мне до зарезу нужны… И завтра непременно, иначе беда… Я затем и к маменьке приехал… Мне много денег нужно… Попрошу ее где-нибудь достать… И у тебя возьму… Скоро возвращу…
– Об этом не извольте беспокоиться… Как будете от маменьки возвращаться, я вам их приготовлю… Искренне признателен, что приняли… и дай вам бог из беды выпутаться, Леонид Алексеич! – горячо проговорил Никандр.
– Беды-то много, Никандр… Много, братец!
Когда адмиральша увидала в этот поздний час своего любимца Леню, бледного и убитого, сердце матери екнуло от страха.
– Спасите, маменька! – проговорил Леонид.
И он стал объяснять, что ему нужно завтра же тысячу двести рублей: иначе он может попасть под суд.
– Ах, Леня, – произнесла только адмиральша и залилась слезами.
– Маменька! Слезы не помогут. Можете ли вы меня спасти? И без того мне плохо… Я должен выйти из полка и уже подал в отставку.
– В отставку?.. За что?..
– За что?.. За долги… На меня жаловались!.. – как-то неопределенно отвечал Леонид.
– Но что скажет отец?
– Что скажет? Он уже знает и завтра приказал явиться. Будет ругаться, как матрос, я знаю, и прикажет не являться на глаза. Так разве можно служить в нашем полку на жалованье да с теми несчастными сорока рублями в месяц, которые он мне давал?.. Посудите сами… К чему же отец разрешил мне служить в кавалерии?.. Ну, я и наделал долгов, думал попытать счастия в игре, не повезло, и у меня на шее пятнадцать тысяч долга.
Адмиральша ахнула при этой цифре.
– Кто ж их заплатит?..
– Разумеется, не отец… Он ведь предпочтет видеть меня скорей в гробу, чем заплатить за сына. Скаред он… Но у меня есть выход… Я женюсь на богатой.
– На ком?
– На одной вдове… купчихе… И старше меня.
– Фи, Леня! Купчиха! Какой mauvais genre… [36]36
Дурной тон (франц.).
[Закрыть]Ветлугин – на купчихе! Отец не позволит!
– Разбирать нечего, маменька. Или пулю в лоб, или женитьба. Я предпочитаю последнее… Позволит ли отец, или нет, мне теперь все равно… Мне надо выпутаться… Но пока я еще не богат, выручите меня. Понимаете ли, мне нужно тысячу двести рублей не позже завтрашнего дня… Я бросался повсюду и наконец приехал к вам. На вас, маменька, последняя надежда… Дайте ваш фермуар [37]37
Ожерелье с застежкой (от франц. fermoir – застежка).
[Закрыть], я его заложу… После свадьбы выкуплю.
– Леня, голубчик. А если отец узнает?
– Отец узнает? Что ж, вам лучше видеть меня под судом за растрату?
– Что ты, что ты, Леня?.. Как тебе не стыдно так говорить? Бери фермуар, если он может спасти тебя от позора, мои мальчик!
Сын бросился целовать руки матери и через четверть часа ушел, оставив мать в смятении и горе.
Никандр проводил молодого Ветлугина и почтительно вручил ему все свои сбережения.
– Завтра буду в одиннадцать часов! – проговорил Леонид, уходя.
– Слушаю-с, Леонид Алексеич… Быть может, папенька за ночь и «отойдут»! – прибавил Никандр, желая подбодрить молодого Ветлугина.
Но эти ободряющие слова не утешили Леонида. Он с каким-то тупым страхом виноватого животного думал о завтрашнем объяснении с грозным адмиралом.
XV
За ночь адмирал «не отошел» и вышел к кофе мрачный и суровый. Выражение какой-то спокойной жестокости не сходило с его лица.
Отправляясь на обычную прогулку, адмирал сказал Никандру:
– Если без меня приедет Леонид Алексеич – пусть подождет.
Он вернулся ранее обыкновенного и тотчас же спросил:
– Он здесь?
– Никак нет. Еще не приезжали!
Все в доме уже знали, что с Леонидом случилась большая беда и что он выходит из полка. Адмиральша с трепетом ожидала свидания Леонида с отцом. Анна не смыкала всю ночь глаз и теперь сидела у себя в комнате, печальная, предчувствуя нечто страшное. Она знала непомерное самолюбие отца и понимала, как должен быть он оскорблен и отставкой сына и, главное, этой невозможной, позорной женитьбой. Одна только Вера, по-видимому, довольно равнодушно относилась ко всей этой истории и думала, что жениться на богатой купчихе далеко не преступление.
Наконец, в одиннадцать часов приехал Леонид. Он был в своем блестящем мундире очень красив. Лицо его, бледное и взволнованное, выражало испуг. Глаза глядели растерянно.
– Ну, докладывай, Никандр, – проговорил он и хотел было улыбнуться, но вместо улыбки лицо его как-то болезненно искривилось.
Через минуту он входил в кабинет. Адмиральша в слезах послала ему из столовой благословение. Мрачный Никандр перекрестился.
При виде этого красавца сына адмирал вздрогнул и побледнел. Ненавистью и презрением дышало его жестокое лицо.
Он не обратил внимания на поклон сына и сказал:
– Затвори двери на ключ!
Когда Леонид затворил, адмирал глухим голосом, точно что-то перехватывало ему горло, продолжал:
– Подойди ближе.
Леонид приблизился.
– Остановись и отвечай на вопросы.
Он примолк на минуту и спросил:
– Правда, что тебя выгоняют из полка за долги?
– Правда, папенька.
– Только за это?
– За это.
– Лжешь, подлец! Вчера мне все рассказал твои полковой командир.
Леонид в ужасе замер.
Адмирал продолжал допрос.
– Правда ли, что ты, носящий фамилию Ветлугина, взял деньги у бедной швеи, с которой был в связи, и не отдал ей денег, так что она принуждена была жаловаться командиру полка?
– Правда, – чуть слышно прошептал Леонид.
– Правда ли, что ты дал подложный вексель, подписанный чужим именем?
– Правда! – прошептал Леонид. – Но я уплатил по этому векселю.
– Правда ли, наконец, что ты собираешься жениться на богатой вдове купца Поликарпова, бывшей содержанке князя Андросова?
– Да! – отвечал бледный как смерть Леонид.
– И после всего этого ты еще живешь на свете, – ты, опозоривший честное имя Ветлугиных? – продолжал адмирал хриплым шепотом.
Леонид молчал в тупом отчаянии.
– Послушай… Мертвые срама не имут. Если ты боишься, я тебе помогу… Хочешь? Пиши записку, что ты застрелился… Смерть лучше позорной жизни… Пистолет у меня есть…
Адмирал проговорил эти слова с ужасающим спокойствием, и в тоне его голоса как будто даже звучала примирительная нота.
Панический страх обуял Леонида при этом жестоком предложении. Он бросился к ногам отца и стал молить о пощаде.
Тогда произошла ужасная сцена. Адмирал моментально превратился в бешеного зверя.
– Так ты не хочешь, подлец?! – заревел он и, вскочив с кресла, стал топтать ногами распростертого сына.
И когда тот, наконец, поднялся, адмирал начал бить кулаками красивое, когда-то счастливое, смеющееся лицо Леонида. Его тупая, безответная покорность, казалось, усиливала ярость адмирала. Он был невыразимо отвратителен в эти минуты, этот деспот-зверь, не знавший пощады.
Отчаянный стук Анны в двери несколько отрезвил бешеного адмирала.
– Гадина!! Ты мне больше не сын! – крикнул он, задыхаясь.
– А вы мне больше не отец! – в каком-то отчаянии позора отвечал Леонид и выбежал из комнаты, избитый и окровавленный.
Анна рыдала, а бедная мать была в истерике.
* * *
С тех пор имя Леонида Ветлугина никогда не упоминалось при адмирале. Его как будто не существовало.
Он женился на бывшей содержанке, уехал с ней за границу, года в два промотал женино состояние и, вернувшись один в Россию, жил где-то в глуши. Мать и Анна тайком от отца помогали ему. Вскоре Леонид заболел чахоткой и, почти умирающий, написал отцу письмо с просьбой о прощении, но адмирал не ответил на письмо сына.
Месяцев шесть спустя, адмиральша однажды пришла к мужу и, рыдая, сказала, что Леонид скончался.
– И слава богу! – сурово промолвил отец.
XVI
Старый адмирал, недовольно и скептически относившийся к освободительному движению шестидесятых годов, грозившему, по его мнению, разными бедами, в то же время, по какому-то странному противоречию, не смотрел неприязненно, по примеру большинства помещиков, на крестьянскую реформу. Твердо веровавший в дворянские традиции, считавший «благородство происхождения» необходимым качеством порядочного человека, гордившийся древностью дворянского рода, Ветлугин никогда не был завзятым крепостником и, как помещик, был довольно милостивый и, по тем временам, даже представлял исключение.
Он отдал в пользование всю помещичью землю крестьянам и брал с них самый незначительный оброк, причем часто прощал недоимки, если староста, выбранный самими же крестьянами, представлял резонные к тому доводы, так что крестьянам Ветлугина, знавшим о грозном барине только по наслышке, – от тех односельцев, которые служили у адмирала в доме, – жилось спокойно и хорошо. Барина своего они почти не видали – усадьбы господской не было в имении – и только в последнее время, когда адмирал перешел из Черного моря на службу в Петербург и приезжал иногда по летам гостить к младшему своему брату в Смоленскую губернию, он заглядывал в свои Починки на час, на два, встречаемый торжественно всей деревней.
Отношения между барином и его вотчиной обыкновенно ограничивались лишь тем, что раз в год, в ноябре месяце, староста Аким, умный и степенный старик, уважаемый своими односельцами и крепко преданный интересам деревни, отсылал «сиятельному адмиралу и кавалеру», как значилось на конверте, изрядную пачку засаленных бумажек при письме, писанном каким-нибудь грамотеем под диктовку Акима. В этих письмах подробно сообщалось о всех событиях и выдающихся случаях, бывших в течение года: о рождениях и смерти, браках, очередных рекрутах, об урожае или недороде, о пожарах, падежах и т. п. Письма всегда были строго деловые, без всяких изъявлений чувств, ибо адмирал раз навсегда приказал «подобных пустяков» не писать. Адмирал немедленно же отвечал старосте о получении денег в самой лаконической форме. Иногда только в его ответных письмах прибавлялось приказание: выслать к такому-то времени на подводе с надежным человеком «расторопного мальчишку» или «девку» лет пятнадцати для службы в адмиральском доме. Относительно «девки» адмирал всегда давал некоторые пояснения, выраженные в кратких словах, а именно, чтобы выслали «почище лицом, здорового сложения, не рябую и не корявую». Приметы эти заканчивались строгим наказом своеобразного эстетика адмирала: «Тощей, безобразной и придурковатой девки отнюдь не высылать».
Надо, впрочем, сказать, что приказания о высылке «расторопных» мальчишек и «девок почище лицом» посылались не очень часто, так как штат крепостной прислуги в адмиральском доме был, для крепостного времени, не особенно велик. Во время службы адмирала в Черном море из мужской прислуги крепостными были камердинер Никандр, кучер да казачок. Обязанности лакея адмиральши и повара исполняли обыкновенно денщики из матросов. Долгое время в поварах у адмирала жил один поляк Франц из арестантских рот, особенно любимый адмиралом за его мастерское знание своего дела. И, несмотря на то, что этот Франц был отчаянный картежник и пьяница и притом буйный во хмелю, часто пугавший адмиральшу своим видом, – адмирал все-таки держал Франца, хотя и нередко приказывал «спустить ему шкуру». Бесшабашный повар всегда, бывало, грозил большим кухонным ножом тому, кто подступится к нему для исполнения адмиральского повеления, и когда, наконец, несколько человек матросов связывали его и приводили на конюшню, он и под жестокими ударами розог кричал, что не боится «пана-адмирала», что покажет ему себя, и при этом костил адмирала всякими ругательствами. Но когда Франц вытрезвлялся, он снова становился тихим и покорным человеком и проводил свободное время за чтением книг, держась особняком от прочей прислуги и взирая на нее даже с некоторым высокомерием шляхтича, каким он себя называл. Во время больших званых обедов Франц всегда отличался на славу. Он в такие дни остерегался напиваться и не пускал никого к себе на кухню, работая один, без помощников в течение ночи, так что прочая прислуга пресерьезно говорила, что «поляку помогают черти». Так Франц прожил в адмиральском доме лет шесть, почти все время своего пребывания в арестантских ротах, и затем, отбыв наказание, уехал на родину, в Польшу, о которой говорил всегда с любовью и восторгом.
Женской прислуги из крепостных бывало больше. Кроме старой Аксиньи Петровны, вынянчившей чуть ли не все поколение молодых Ветлугиных и обязательно не любившей ни одной бонны и гувернантки, которым Аксинья Петровна устраивала всякие каверзы, и прачки, в доме находилось несколько молодых горничных. У адмиральши было две (одна для шитья), и по одной у каждой из дочерей, как только последние приезжали из института. По выходе адмиральских дочерей замуж горничные эти поступали в их владение в числе приданого.
При каждом прибытии из деревни подростка девушки ее приводили на смотр адмиралу и адмиральше. Если привезенная была недурна собой, он как-то особенно выпячивал нижнюю губу и милостиво трепал по щеке оторопевшую и смущенную девушку.
– Ну, девчонка, смотри, служи хорошо! – говорил не особенно строгим тоном адмирал, приказывая Никандру отвести ее к барыне.
В таких случаях мужик, привезший девушку, получал серебряный рублевик и наказ передать старосте барское спасибо.
Но когда вновь прибывшая не отвечала почему-либо вкусам адмирала, он без всякого милостивого слова приказывал отвести ее к супруге и сердито выговаривал мужику:
– Лучше у вас в деревне девки, что ли, не было, что прислали такого одра?
– Не было, барин, не было, ваше светлейшее присходительство! Самую чистую тебе предоставили… Была у Корнея дочка, ничего, гожа, да в рябовинках малость…
– Ступай! – резко обрывал адмирал и недовольно крякал.
Адмиральша, напротив, бывала в последнем случае довольна. Зато, чем пригожее была привезенная девушка, тем более сжималось сердце ревнивой адмиральши, предвидевшей в очень близком будущем новое испытание для своей ревности и новое оскорбление своему самолюбию.
И, надо сказать правду, адмиральша редко ошибалась в своих предчувствиях.
Весьма часто, если не всегда, все эти молоденькие девушки делались жертвами похотливого адмирала. Если они готовились быть матерями, их выдавали замуж или отправляли обратно в деревню с приказом старосте: пристроить девку и прислать новую.
Таким образом адмирал женил и Никандра и кучера Якова. Никандр именно с тех пор, говорят, и сделался мрачным, и когда года через четыре овдовел, потеряв перед тем двух детей, адмиральских крестников, то не обнаружил особенного горя от этих потерь и, как огня, боялся новой женитьбы по распоряжению барина. По счастью для Никандра, адмирал более не сватал своего камердинера.
Одна из таких жертв адмиральского каприза сделалась даже настоящей фавориткой влюбившегося в нее адмирала. Он нанял для нее квартиру в отдаленной Матросской слободке, отделал квартиру не без роскоши и, накупив для своей фаворитки белья и платьев, переселил ее в устроенный им «приют любви», приставив к ней старую женщину, исполнявшую обязанности прислуги и в то же время аргуса. Нечего и говорить, что фаворитке строго запрещалось выходить куда-нибудь одной и принимать кого-нибудь. Эта связь была, конечно, известна всем, и многие молодые мичмана частенько прогуливались в слободке, пытаясь обратить на себя внимание красивой чернобровой Макриды с роскошной косой и ослепительными зубами. Но Макрида только лукаво играла глазами и держала себя неприступно, так что подозрительность адмирала была усыплена настолько, что он позволил Макриде, вместо приставленной им старухи, нанять прислугу по своему выбору.
Так продолжалось года три. Связь эта, к ужасу адмиральши, не прекращалась, и адмирал все более и более привязывался к своей Макриде, как вдруг совершенно неожиданно фавор Макриды окончился и притом весьма для нее трагически.
XVII
Однажды адмирал, вернувшийся с эскадрой на рейд поздно вечером, съехал на берег и отправился пешком в слободку.
Был двенадцатый час на исходе теплой, душистой южной ночи. Полная луна лила свой мягкий свет на маленькие белые домики тихой спящей слободки, но в «приюте любви» адмирала из-за густой листвы садика весело мигал огонек. Этот огонек возбудил в адмирале подозрительное удивление, и он тихими шагами подошел к домику. Подозрение его усилилось, когда калитка оказалась незапертой. Сердито ерзая плечами, он вошел во двор и тихо постучал в двери. За дверями послышалась беготня, и испуганный голос кухарки звал «Макриду Ивановну».
Тогда адмирал, легко гнувший подковы, рванул дверь и, грозный, с побледневшим лицом и сверкающими глазами, очутился в прихожей. Кухарка, увидевши барина, только ахнула и уронила в страхе свечку. Адмирал шагнул в комнаты и в ту же минуту услыхал стук отворенного в спальне окна и чей-то скачок в сад. В ту же секунду адмирал разбил окно в передней комнате и, заглянув вниз, увидал при нежном свете предательницы луны стройную фигуру поспешно удаляющегося знакомого молодого мичмана, на ходу натягивающего сюртук.
Адмирал молча заскрежетал зубами в бессильной ярости, видя, как молодой мичман перелез через ограду садика и был таков.
Повернув голову, он увидал в дверях Макриду в одной рубашке, с обнаженной грудью и распущенными роскошными волосами, спускавшимися до колен. Со свечой в руках, освещавшей ее красивое, бледное как смерть лицо, она глядела с безмолвным ужасом на грозного адмирала. Адмирал отвел от нее взгляд, и плечи его вздрагивали. Он молчал, и это молчание обдавало смертельным холодом несчастную девушку. И она в каком-то отчаянии опустилась на колени, с мольбой сложив свои обнаженные белые руки.
Адмирал молча вышел, через четверть часа был уже на пристани и отвалил на дожидавшейся его гичке на свой флагманский корабль.
Вахтенный офицер, встретивший его, заметил, что адмирал был чем-то очень расстроен и имел самый «освирепелый вид».
На следующий же день весь город и вся эскадра знали о вчерашнем скандале, и между молодежью было много смеха. Адмирал с утра съехал на берег, приказав двум боцманам явиться к нему с линьками к одиннадцати часам вечера.
Целый день адмирал был мрачен. Адмиральша уже узнала о вчерашнем скандале и была очень довольна, что приводило адмирала в большее бешенство. Все в доме с трепетом ждали расправы… Уже с утра Макрида была заперта в сарае, одетая в затрапезное платье. Чудные волосы ее были, по приказанию адмирала, острижены.
В одиннадцать часов вечера адмирал вместе с двумя боцманами удалился в конюшню, куда привели и Макриду. Двери были наглухо затворены, но, несмотря на это, оттуда раздавались раздирающие душу крики и стоны. Потом все затихло. Адмиральша, потрясенная, теперь жалела несчастную Макриду. Полумертвую, ее ночью отнесли в слободку и через две недели отправили, еще не совсем оправившуюся, в деревню, где она впоследствии спилась и через несколько лет умерла.
Дочь Макриды, слишком похожая на адмирала, была помещена на воспитание и затем отдана в пансион в Петербурге. Адмирал любил свою, как он называл, «воспитанницу», часто навещал ее, и она изредка, по воскресеньям, приходила в ветлугинский дом на короткое время. И добрая адмиральша ласкала эту девочку, наделяла ее лакомствами и нередко плакала, вспоминая свои обиды и жалея бедную «батардку», как адмиральша про себя называла девочку. Когда эта девочка шестнадцати лет умерла, – адмиральша искренне ее оплакивала и была вместе с мужем на ее похоронах.
XVIII
Вскоре после обнародования манифеста об освобождении крестьян адмирал однажды призвал сыновей в кабинет и сказал им:
– Наше родовое имение не велико… После надела останется всего пятьсот десятин… Делить его между вами не стоит… Как ты полагаешь, Василий? – прибавил он, обращаясь к старшему сыну, высокому, плотному моряку, лет тридцати пяти, очень похожему на адмирала лицом.
– Полагаю, что не стоит.
Не спрашивая мнения других сыновей, Николая и Гриши, адмирал продолжал:
– Мое намерение – отдать всю землю крестьянам и не брать с них ничего за надел… Им это на пользу, и они помянут добром Ветлугиных. Не правда ли?
На лице Гриши при этих словах промелькнуло невольно грустное выражение, хотя он и первый поторопился сказать:
– Конечно, папенька… Такой акт милосердия…
– Тебя пока не спрашивают! – резко перебил адмирал, заметивший печальную мину почтительного Гриши. – Как ты полагаешь, Василий?
– Доброе сделаете дело, папенька! – отвечал моряк.
– И я так думаю… Надеюсь, что и отсутствующий Сергей так же думает… А ты, Николай?
– И я нахожу, что это справедливо.
– Ну, а ты, Григорий, уже поспешил апробовать «акт милосердия», – иронически подчеркнул адмирал. – Значит, и делу конец.
Наступила короткая пауза, во время которой адмирал достал из письменного стола какой-то исписанный цифрами клочок бумаги и затем сказал:
– Взамен имения, которое должно бы быть разделено на четыре части, ибо сестер ваших я уже выделил деньгами, по три тысячи на каждую…
– На пять частей, папенька? – перебил отца старший сын. – Вы, верно, забыли, что всех нас пять братьев, – прибавил моряк, вспоминая об опальном Леониде.
– Я помню, что говорю! – крикнул, вспыхивая, адмирал и продолжал: – так вместо родового имения я выдам каждому из моих четырех сыновей (адмирал подчеркнул «четырех») деньгами, какие причитаются за выкупную ссуду и за пятьсот десятин… На каждого из вас придется по четыре тысячи… вот здесь на бумажке и расчет…
И адмирал кинул на стол бумажку, исписанную цифрами.
– Хочешь посмотреть, Григорий? – насмешливо заметил адмирал повеселевшему сыну.
Гриша покраснел как рак и не двинулся с места.
– Деньги эти предназначены из аренды, которую мне недавно пожаловал государь император на двенадцать лет по две тысячи и которые мне выдадут сразу. Других денег у меня нет… Из этой же аренды Анна и Вера получат свои приданые деньги… Согласны?
Все, конечно, согласились, после чего адмирал их отпустил, объяснив, что Василий получит деньги через месяц, а Николай, Григорий и Сергей – по достижении тридцатилетнего возраста.
– А затем ни на что не рассчитывайте! – крикнул им вдогонку адмирал.
Когда мужики через старосту Акима узнали о милости барина, они сперва не поверили, – до того это было неожиданно. Но бумага, присланная адмиралом старосте, окончательно убедила мужиков, и они благословляли барина, простив все его тяжкие вины относительно многих своих дочерей. Староста Аким приезжал потом в Петербург благодарить адмирала, и грозный адмирал, видимо, был тронут искренней и горячей благодарностью деревни в лице ветхого старика Акима, которого он не допустил к руке, а милостиво пожал ему руку и несколько минут с ним беседовал.
На другой день после разговора с сыновьями адмирал сказал рано утром Никандру:
– Люди, конечно, знают о воле, которую даровал им государь император. Объяви им, что кто не хочет у меня оставаться, может через неделю уходить.
– Слушаю, ваше высокопревосходительство!
– Иди и сейчас же принеси ответ!
Никандр и без того знал, что решительно все, за исключением Алены, горничной Анны, да Настасьи, горничной адмиральши, собирались уходить. Уже давно на кухне шли об этом разговоры, и после манифеста радости не было конца. Все осеняли себя крестными знамениями и облегченно вздыхали при мысли, что они свободны и могут избавиться от вечного трепета, который наводил на всех грозный адмирал.
Через пять минут Никандр вошел в кабинет.
– Ну, что? Кто уходит?
– Ефрем, ваше высокопревосходительство.
– И пусть. Лодырь. А Ларион?
– Тоже просится…
– А Артемий кучер?
– Хочет побывать в деревне, повидать детей.
– Гм… И Федька, пожалуй, тоже уходит? – осведомился, хмурясь все более и более, адмирал о пятнадцатилетнем казачке.
– Хочет в ученье в портные поступить, ваше высокопревосходительство! – докладывал Никандр с какою-то особенною почтительностью.
Адмирал помолчал и, сурово поводя бровями, продолжал:
– А девки?
– Олена да Настасья хотят остаться, если будет ваше желание.
Адмирал недовольно крякнул и снова помолчал.
– Нанять повара, кучера и лакея для барыни! – приказал он. – Да смотри, людей порасторопнее… Насчет жалованья сам переговорю.
– Слушаю-с, ваше высокопревосходительство! – отвечал Никандр, видимо, сам чем-то озабоченный.
– Двух девок довольно, – продолжал адмирал. – Алена может ходить за двумя барышнями, а если Настасья передумает и не останется, барыня сама найдет себе горничную… А прачки не нужно… Можно отдавать стирать белье…
– Слушаю-с!
Адмирал снова смолк и вдруг спросил:
– Ну, а ты как, Никандр? Останешься при мне или нет?
В голосе адмирала звучала беспокойная нотка.
Никандр смутился.
– Я положу десять рублей жалованья, а если тебе мало – прибавлю…
– Я, ваше высокопревосходительство, не гонюсь за жалованьем. И так, слава богу, одет и обут…
– Так остаешься?
– Я бы просил уволить меня…
Адмирал насупился и стал мрачен. Этот Никандр, к которому он так привык, и тот собирается уходить. Этого он не ожидал.
А Никандр между тем продолжал робко, точно виноватый:
– Я, ваше высокопревосходительство, имею намерение сходить на богомолье, в Иерусалим.
– В Иерусалим? – переспросил озадаченный адмирал.
– Точно так-с.
– Зачем тебе туда?
– Сподобиться видеть святые места и помолиться искупителю грехов наших… Уже давно о сем было мое мечтание, ваше высокопревосходительство.
Адмирал удивленно взглянул на Никандра, лицо которого теперь было торжественно и серьезно и не имело обычного мрачного вида.
– Ну, что ж, если ты такой дурак, ступай себе в Иерусалим! – сердито воскликнул адмирал. – Скоро собираешься? – прибавил он.
– Как разрешите, ваше высокопревосходительство!
– Мне что разрешать? Ты теперь свободный… Подыщи мне человека и уходи! – раздраженно заметил старик.
– Покорно благодарю, ваше высокопревосходительство.
Никандр удалился, а адмирал долго еще сидел в кабинете, угрюмый и озадаченный.
Тяжело было вначале адмиралу привыкать к новым лицам и, главное, не видеть вокруг себя того трепета, к которому он так привык. Приходилось сдерживаться и не давать воли рукам, которые так и чесались при виде какого-нибудь беспорядка. А угодить такому ревнителю чистоты и порядка, как адмирал, было трудно. И он иногда не сдерживался и дрался… Прислуга уходила, нередко жаловалась, и адмиралу приходилось отплачиваться деньгами… Вдобавок уже ходили слухи о мировых судьях. Все эти новые порядки все более и более раздражали адмирала, и он срывал свое сердце на жене и на детях, для которых оставался прежним грозным повелителем.
Жизнь в доме становилась адом. Адмирал все делался угрюмее и злее. Обеды, когда собиралась семья, бывали мучением для всех домашних. Вдобавок адмиральша не смела уже более принимать у себя, даже и по субботам, никого из гостей, почему-либо неприятных адмиралу. По-прежнему адмирал целые дни сидел запершись у себя в кабинете, и одно сознание его присутствия нагоняло на всех испуг… Только по вечерам все вздыхали свободнее.
Адмирал почти каждый вечер уходил к новой своей фаворитке, бывшей горничной жены, Насте.
XIX
– Обдумала, папенька!
– И он тебе больше Чернова нравится?
– Он мне нравится!
– Что ж, я согласен, коли ты так хочешь… Ступай замуж… Тебе, фуфыре, давно пора…
И, взглядывая на красавицу Веру с презрением, заметил:
– Расчетлива, сударыня. Из молодых да ранняя. Ты с Григорием в масть… Пожалуй, и он на старушке женится, коли у старушки будет состояние… Поздравляю!.. Только смотри, будь верной женой, а то и такой дохлый, как твой будущий супруг, выгонит тебя из дому как шлюху! А уж я тебя потом не приму! – сурово прибавил адмирал.
Вера расплакалась.
– Ступай к себе нюнить! – прикрикнул адмирал. – Тоже нюня! Сама выходит за расслабленного, а туда же, обижается!..
Анна не отходила от матери, которая лишилась языка и только мычала, грустно поводя своими добрыми глазами на всех скоро собравшихся у постели детей. Адмирала не было дома. Хотя все знали, что он проводит вечер у своей новой фаворитки, но не решались за ним послать туда. Наконец, в двенадцатом часу, адмирал вернулся, вошел в спальную и, увидавши жену уже в агонии, наклонился над умирающей и крепко поцеловал ее. Адмиральша, казалось, узнала мужа, как-то жалобно и грустно замычала, и крупные капли слез скатились из ее глаз. Рукой, не пораженной ударом, она взяла руку адмирала и приложила к своим запекшимся губам.
Через полчаса ее не стало, и грозный адмирал ушел из ее комнаты со слезами на глазах. Почти всю ночь он пробыл около трупа в глубокой задумчивости. О чем вспоминал он, часто взглядывая на спокойное и доброе лицо покойницы? Это было его тайной, но видно было, что совесть его переживала тяжкие испытания, потому что под утро он вышел из спальни жены совсем осунувшийся и, казалось, сразу постаревший.
Похороны были блестящие, и к весне над могилой адмиральши стоял великолепный памятник.
* * *
Первое время после смерти жены адмирал как-то притих. Он был по временам необычно ласков с Анной и за обедом не бранил сыновей и не глумился над Гришей. И со слугами был терпимее.
Но прошло полгода, и все это изменилось. Жизнь Анны стала настоящим испытанием. Адмирал точно находил удовольствие ее мучить, пользуясь ее кротостью, которая, казалось, его по временам приводила в бешенство. В минуты раздражения он корил, что она старая девка и не умела вовремя выйти замуж.








