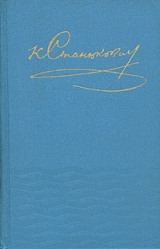
Текст книги "Том 3. Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
В эту минуту спешно подошел гарсон, вопросительно глядя, в ожидании заказа.
– Чего, Наденька, хочешь? Ведь здесь, в свободной стране, нельзя так просто посидеть. Непременно ешь или пей! – иронически прибавил Аркадий Николаевич.
– Все равно… какого-нибудь питья.
– Вы что это пьете? – обратился Орешников ко мне.
– Гренадин.
– Ну и мы, Наденька, спросим гренадину. Только не фальсификация ли это какая-нибудь, а? Ведь тут держи ухо востро… всякую дрянь дадут…
Аркадий Николаевич говорил так громко, что на него взглянули.
– Говори тише, Аркадий! – остановила его Наденька.
И почему-то особенно приветливо, даже заискивающе улыбаясь гарсону, как делают многие русские дамы, первый раз бывающие за границей и желающие перед всеми показать, что они не «варварки», – Надежда Павловна, видимо рассчитывая щегольнуть своим французским выговором, произнесла, слегка грассируя:
– Deux grenadines, s'il vous plait! [20]20
Два гренадина, пожалуйста! (франц.)
[Закрыть]
После нескольких расспросов о родных и общих знакомых, я осведомился, давно ли Орешниковы за границей.
– Месяца уже полтора… Доктора послали Наденьку в Франценсбад * , а я кстати в Мариенбаде{156} свой жир спускал… Вот сюда на десять дней приехали, да, кажется, послезавтра уедем…
– Что так?
– И по деткам соскучились, и по России… Не нравится нам вся эта прогнившая цивилизация… Ну и французы тоже… Нечего сказать, хваленый любезный народ! Просто, я вам скажу, дрянь! – со своей обычной развязной решительностью прибавил Аркадий Николаевич, возвышая голос и видимо начиная закипать.
– Аркадий! Потише… На нас обращают внимание! – снова остановила его Надежда Павловна.
В ее тихом, мягком голосе слышалось почти приказание.
– А пусть обращают. Плевать мне на них! – продолжал Орешников, значительно понижая однако свой крикливый голос. – Пора уже нам перестать раболепствовать перед иностранцами и стыдиться, что мы русские…
И, проговорив эту тираду, Орешников хлебнул питья и продолжал:
– Да, прожужжали нам уши: Европа, парламент, удивительные порядки, а как посмотришь, никакого здесь настоящего порядка нет. Один лишь показной лоск, фальшь, обман, болтовня и обирательство. Еще называется свободная страна… Хваленая французская республика. Везде: «Liberte, Fraternite, Egalite» [21]21
«Свобода, Братство, Равенство» (франц.).
[Закрыть], а с меня, подлецы, на таможне слупили шестьдесят франков за папиросы! Как вам это понравится? – прибавил Орешников, видимо раздражаясь при этом воспоминании.
– Вы, верно, не объявили, что у вас есть папиросы? – заметил я, сдерживая улыбку.
– Положим, не объявил. Так что за беда, если у путешественника папиросы… не курить же здешнюю дрянь! Кажется, можно понять, что я их везу не для продажи… Ну, я и рассовал две тысячи папирос, знаете ли, в белье и в рукава пальто… С какой стати я буду еще этим прохвостам за свои же папиросы платить пошлину, – и без того с нас, иностранцев, везде дерут… Думаю: дам таможенному французу, как давал немцу в Эйдкунене * , франк и прав! Хорошо. Приезжаем в Париж… Идем к осмотру… Подходит к нам плюгавый какой-то французишка и спрашивает: «нет ли чего?» Я по-французски не очень-то боек, так Наденька любезно так говорит, что ничего нет, объясняет, что мы русские и что я Conseillier d'Etat [22]22
Государственный советник (франц.).
[Закрыть]в отставке… Француз улыбается… А я тем временем показываю ему два франка – отпусти, мол, с богом! А он, шельма, машет с улыбкой головой и велит открыть сундуки… Стал шарить… Вытащил одну коробку, другую, третью, четвертую… Скандал! Да еще, подлец, иронизирует: «Как же вы говорили, что ничего нет? У вас, говорит, целое bureau de tabac! [23]23
табачная лавка! (франц.).
[Закрыть]». Ну хорошо, жри деньги! А то водили нас по разным мытарствам, записывали в десять книг, пока не отпустили, продержавши целые полчаса. Нечего сказать, порядки! – с торжествующей иронией заключил Аркадий Николаевич, желавший, по обычаю многих россиян, надуть таможню.
Я, разумеется, не стал объяснять ему всей наивности этих специально русских жалоб и дипломатически молчал, не без интереса ожидая, как еще Аркадий Николаевич будет бранить европейские порядки. Поначалу, характер его брани обещал быть любопытным.
– Или, например, здешние извозчики… Я ему заплати по таксе да еще, кроме того, обязан давать на водку… Так и в гидах сказано. А если не дашь, он тебя обругает… Это, видите ли, цивилизация!.. Да тут везде обман, наглый обман… Слава богу, мы до такой цивилизации не дошли… У нас, у русских, еще совесть есть. Вчера, например, идем мы с Наденькой по Севастопольскому бульвару, видим вывеска: Cafe-Concert, entree libre… [24]24
вход бесплатный (франц.).
[Закрыть]Думаю: зайдем, взглянем. Входим, садимся, а уж гарсон подлетает: «Что, говорит, угодно?» – «А ничего не угодно!» – «Так, говорит, monsieur et madame [25]25
господин и дама (франц.).
[Закрыть], нельзя!» Это, видите ли, entree libre… Да ты лучше за вход бери, а не обманывай… А европейское скаредство!.. В Австрии, например, считают, сколько ты булочек съел… Просто мерзость!
– А в Берлине с нас взяли по 50 пфеннигов за то, что мы за обедом в гостинице вина не пили! – пожаловалась Надежда Павловна. – Конечно, не в 50 пфеннигах дело (хотя для экономной Наденьки именно в них-то и было дело), а в наглом обирательстве…
– А хваленая французская вежливость, про которую протрубили на весь мир! – заговорил снова Аркадий Николаевич. – Едем мы вчера утром в конке. Я, признаться, несколько свободно уселся – у них такие крошечные места! Так кондуктор-каналья, вместо того, чтобы подойти и вежливо попросить, крикнул на весь вагон, чтобы я дал другим место, да еще, обращаясь к кому-то, прошелся на мой счет и назвал меня «grov monsieur» [26]26
«важный господин» (франц.).
[Закрыть]. Скотина этакая! А на железной дороге тоже! Один француз вошел в вагон первого класса, приложился к шляпе, без церемонии снял мои вещи, положил их на сетку и уселся на свободное место, да еще ехидно объясняет, что места в вагоне не для вещей, а для сиденья, точно я этого и без него не понимаю! Нечего сказать, любезность! Вот, спросите Наденьку, какая у них и любезность-то пакостная, как с ней приказчики в магазинах говорили!
– Не стоит об этом рассказывать! – заметила Надежда Павловна с видом оскорбленной скромности.
– Нет, ты расскажи, Наденька, какие двусмысленные комплименты отпускали тебе эти бесстыдники в Лувре.
Признаться, я удивился, ибо никогда не слыхал подобных нареканий на французских приказчиков, и еще в таких магазинах, как Лувр; да, по совести говоря, никак не мог даже и предположить, чтобы у них явилось особенное желание говорить Надежде Павловне, несмотря на ее моложавость, комплименты, да еще «двусмысленные».
– Что же они говорили вам? – спросил я Орешникову.
– По-видимому, как будто ничего особенного… Обыкновенная приказчичья любезность… французская манера говорить комплименты, но они при этом смотрели так нагло в глаза, улыбались так двусмысленно, что я, кажется, уже не молодая женщина, а краснела, как девочка… Может быть, француженкам это и нравится, а порядочные русские женщины к этому не привыкли! – с чувством благородного негодования сказала Надежда Павловна и прибавила тоном горделивого превосходства: – Мы ведь не француженки, слава богу!
Я опять промолчал. Надежда Павловна так уверенно говорила, что возражать было и напрасно, и нелюбезно. Мало ли есть дам – и преимущественно не из особенно красивых – умеющих в самых обыкновенных взглядах видеть покушение на роман.
– А едят-то как! – заговорил Аркадий Николаевич, – одна слава, что подают много кушаний, а их обед не стоит наших двух блюд. У нас встал из-за стола – и вполне доволен, даже пуговицу штанов хочется расстегнуть, а здесь? Отобедал и хоть снова садись за стол! Супы – вода… Мясо – не знаешь сам, какое… может быть, и настоящее, а может быть, ты собаку или кошку ешь… Еще бы! Мясо-то у них полтора франка фунт… и приходится изворачиваться.
– А эти неприличные сцены на улицах?.. Эти бесстыдные продажные женщины на бульварах… Их костюмы!? – вставила Надежда Павловна.
– Открытый разврат! – подтвердил и Орешников.
– И хоть бы красивые! Говорили: француженки привлекательны… Быть может, мужчины и находят в них привлекательность, но я не нахожу… Я и хорошеньких здесь почти не видала…
– А квартиры здешние?.. Комнаты крошечные… Темнота… Зимой холод… Какой-то «Chouberski» * , вместо нашей православной печки… А эти ночные крики на улицах!..
– Какие крики? – спросил я.
– Да как же! Горланят себе ночью марсельезу или другое что-нибудь, и горя мало… Идет компания и орет… Или студентов орава с гамом, криком на днях неслась по улице… У нас давно бы в участок взяли за беспорядок, а здесь ори себе, ходи скопом, сделай одолжение! Мешай спать добрым людям, мешай прохожим… Это называется свободой… Благодарю покорно!
Я слушал Орешникова, слушал, с каким развязным апломбом он обобщал свои пятидневные наблюдения и критиковал то, о чем имел смутные понятия, и невольно припомнил те времена, когда он с такою же развязностью восхищался французами, стремился «поцеловать камни Парижа», открывал перед барышнями широкие горизонты будущего или энергично требовал Царьграда и проливов.
И, глядя на это добродушное, пышущее здоровьем лицо, я задал себе вопрос: «Что будет повторять этот типичный представитель „улицы“ еще лет через пять?»
А Аркадий Николаевич между тем спешил сообщить свои впечатления и продолжал:
– А газеты здешние каковы! Так-таки и называют своих министров мошенниками и без церемонии изображают их в невозможных карикатурах. Самого президента Карно * честят чуть ли не идиотом… И все это они называют свободой прессы… Да скажите на милость, как после этого власть может иметь необходимый престиж?.. Оттого-то они и не уважают правительства и меняют министров, как перчатки… Да что и говорить… Просто прогнившая нация…
В тот же день мы обедали вместе. За обедом Орешниковы не переставали фыркать на «заграницу». Особенно досталось палате депутатов. Несколько дней тому назад они попали на заседание (хозяин гостиницы достал им билет), и Аркадий Николаевич так передавал свои впечатления:
– Одеты все, я вам скажу, как сапожники… Такое место – палата, а они в пиджаках, да вестончиках * , точно у себя дома… У нас и на службе надень вицмундир, а здесь приходи, в чем тебе угодно… Шум, гам, точно в кабаке… Говорит оратор, и, если он не нравится, никто его и не слушает… Ходят, разговаривают, смеются… Кричат потом: «Voter, voter!» [27]27
«Голосовать, голосовать!» (франц.)
[Закрыть], а о чем «voter» и сами, я думаю, не знают… Безобразное зрелище! Да у нас в любом департаменте, ей-богу, больше порядка и смысла, чем здесь в парламенте. Тихо, мирно, благородно все, как следует, по порядку… Написал доклад, вовремя рассмотрят, утвердят и делу конец… Да, батюшка, эти «говорильни» отживают свой век… Все начинают понимать – даже и лучшие умы в Европе, – что при одном короле больше и счастья, и порядка, чем при пятистах королях-депутатах! Недалеко время, когда Европа придет к этому, и парламенты побоку. Обязательно! И без того повсюду безбожие, сомнение, отсутствие устоев… Одни только мы, русские, еще не забыли бога и совести… Да, не забыли! Как истинно русский человек говорю! – прибавил Аркадий Николаевич и, прослезившись, хлопнул кулаком себе в грудь.
Он выпил почти один две бутылки хорошего «помара» и был несколько возбужден. Покончив с «Европой», он заговорил о великой будущности России и размяк… Он расхваливал и добрый, способный русский народ, оговорившись однако, что его все-таки надо отечески пороть (мужичок сам этого желает), хвалил чудную русскую жену и мать, хвалил теперешнюю трезвую молодежь, нашу широкую натуру, выносливость, гостеприимство, говорил, что мы, слава богу, теперь на настоящей дороге, что всякому порядочному человеку легко дышать, и, заключив свою речь уверением, что нам отнюдь не надо походить на подлый Запад с его развратом, – совсем неожиданно предложил ехать в «Bouffes Parisiennes».
– Хочешь, Наденька? – заискивающе-умильно спросил он жену.
Но Надежда Павловна, все время слушавшая мужа с сочувствием и даже с некоторой гордостью, ответила, что устала. «У нее и голова болит, да и вообще она не охотница до таких представлений!» – прибавила Надежда Павловна, чуть-чуть кривя свои тонкие губы и чуть-чуть подчеркивая слово: «такие».
– Не пойти ли нам вдвоем? – нерешительно обратился ко мне Орешников, взглядывая искоса на жену.
– Да ведь и ты, Аркадий, устал. Лучше пораньше ляжем спать, да хорошо выспимся… А, впрочем, как тебе угодно. Мною, пожалуйста, не стесняйся!
Аркадий Николаевич тотчас же согласился, что оно, пожалуй, и лучше лечь пораньше спать, и скоро мы распростились. Орешниковы просили не забывать их в Петербурге. Они собирались уезжать в Россию через два-три дня.
На другой же день мне пришлось еще раз встретиться в Париже с Аркадием Николаевичем.
Это было поздно вечером. Я возвращался из театра по большим бульварам и столкнулся нос к носу с Орешниковым, выходящим из ресторана с отдельными кабинетами под руку с молодой, подмалеванной кокоткой. Он был весел, игрив и громко смеялся. Вертлявая француженка ласково назвала его «mon petit cochon» [28]28
«мой маленький поросеночек» (франц.).
[Закрыть]и хлопала по животу.
В этот самый момент Аркадий Николаевич и увидал меня.
Он немного смутился и, пожав мне руку, конфиденциально проговорил:
– Нельзя, знаете ли, быть в Париже и… того… Вы смотрите, как-нибудь не проговоритесь в Петербурге Наденьке. Я ведь сказал ей, что мы с вами обедаем.
– Будьте покойны! – отвечал я, смеясь, и прибавил: – Ну, по крайней мере понравились ли вам хоть парижанки?
Он добродушно залился веселым смехом и сказал:
– Хоть французы и дрянь народ, а женщины здесь и в Вене…
Он не докончил фразы, сделал выразительный жест, причмокнул своими толстыми губами и, послав мне воздушный поцелуй, скрылся со своей дамой в карете.
Танечка
I
Профессор математики, Алексей Сергеевич Вощинин, высокий худощавый старик, с гривой волнистых седых волос, выбивавшихся из-под широкополой соломенной шляпы, окончил копаться в саду и, поднявшись на террасу своей маленькой, спрятанной в зелени дачи, уселся в плетеное кресло у большого стола, собираясь читать только что принесенные почтальоном газеты.
День стоял превосходный. Июльский зной умерялся близостью моря, с которого тянуло приятной свежестью. На небе ни облачка. Солнце ярко и весело глядело сверху, заливая блеском небольшой сад с липами, березами и рябинами, окруженный со всех сторон густым сочным кустарником, – чистый, посыпанный песком, пестревший массой цветов в красиво разделанных клумбах. Над ними заботливо жужжали пчелы и весело порхали бабочки, присаживаясь на цветы. В золотистой дымке воздуха кружилась мошка. Воробьи задорно чирикали, храбро подпрыгивая на ступени террасы за хлебными крошками. Кругом царила тишина.
Прежде чем приняться за газеты, старый профессор поглядел и на даль тихого моря, и на чернеющие пятна фортов кронштадтского рейда, и на дымок виднеющегося на горизонте парохода, и на белую ленту дороги внизу, вдоль берега, и весь этот давно знакомый ему пейзаж, видимо, производил на старика тихое, радостное впечатление, словно при встрече с испытанным старым другом.
Вощинин любил эту местность, эти три, четыре десятка домиков немецкой кронштадтской колонии, ютившихся в садах, на небольшой возвышенности, над берегом Финского залива, в пяти верстах от Ораниенбаума. Эта окрестность Петербурга, относительно довольно глухая, не отравленная еще железной дорогой, музыкой, театром, многолюдством, разряженными дачницами и тщеславной суетой модных дачных мест, нравилась Вощинину своей тишиной и близостью моря, и он, вот уж пятое лето, проводил в этом месте вакации вместе с Танечкой, своей единственной дочерью, от недолгого и не особенно счастливого брака с ее покойной красавицей матерью.
Здесь профессор отдыхал от Петербурга: копался в саду, с любовью ухаживал за цветами, бродил в ближнем лесу, сиживал на берегу моря, писал, не торопясь, давно начатый мемуар о бесконечно малых величинах, читал журналы и удил окуней на ряжах, забывая на все лето столичную сутолоку, университетские дрязги и свой профессорский, подчас тесный хомут.
– А ведь хорошо! – невольно сорвалось с губ старого профессора.
И на его хорошо сохранившемся лице, вдумчивом и добром, опушенном большой седой бородою, придававшей профессору вид патриарха, засветилась тихая довольная улыбка, полная чарующей прелести кроткого, детски-наивного выражения.
Он повернул голову к открытому окну, выходившему на террасу, и громко проговорил:
– Не правда ли, чудный сегодня день, Танечка?
– Да, папа. Отличный день! – отвечал из глубины комнаты твердый молодой серебристый голосок.
– Что ж ты сидишь в комнате?
– Платье оканчиваю, папочка. Ведь ты обещал в воскресенье идти со мной в Ораниенбаум на музыку. Мы пойдем, не правда ли? – прибавила Танечка с нежной, ласкающей интонацией.
– Конечно, конечно, если тебе хочется! – ласково отвечал старик и в то же время подумал: «Что интересного находит Танечка на этой глупейшей музыке?»
«А впрочем, ей ведь скучно без развлечений… Молодость!» – тотчас же оправдал он Танечку.
– А ты что делаешь, папа?
– Сейчас буду газеты читать.
– Смотри, только не возмущайся!
– Постараюсь, Танечка! – весело сказал старик и прибавил: – Да что это Петра Александровича нет, Танечка?
– А не знаю.
– Уж не поссорились ли вы вчера?
– Я вообще не ссорюсь. Да и не из-за чего с ним ссориться!
– Обещал быть к часу и не приехал. Пожалуй, и совсем не приедет.
– Приедет! – произнесла Танечка с небрежной уверенностью.
Наступило молчание. Старик стал было читать телеграммы, но, не дочитав их, снова заметил:
– А славный человек этот Петр Александрович! Не правда ли, Танечка?
– Отличный, папочка. Такая же Эолова арфа, как и ты.
В молодом веселом голоске прозвучала едва заметная ироническая нотка.
Но старый профессор этой нотки не уловил и оживленно продолжал:
– И главное, Танечка, с сердцем человек. Нет в нем этого противного нынешнего индифферентизма… Искорка божия горит в Петре Александровиче, и чуткая совесть есть. Небось из него самодовольный ученый болван не вышел… Самомнением он не грешит и своего бога не продаст… Это, Танечка, дорогая черта.
– Влюблен ты в своего доцента! – со смехом проговорила Танечка… – Послушать тебя, так он совершенство…
– Совершенства нет, девочка, а что человек он хороший – это вне сомнения. И голова светлая!.. Работал-то он как, если бы ты знала!.. И всем обязан себе одному… Перед нашим братом профессором не юлил… Ни к кому не забегал… За все это я его и люблю. И он нас любит.
– Тебя в особенности, папа, – вставила Танечка.
– И тебя не меньше, я думаю. Пожалуй, и больше… Как ты думаешь, Танечка?
– Думаю, что ты ошибаешься. Со мной он больше бранится, папочка, и постоянно спорит.
– Горячий он, потому и спорит. А он привязан к тебе… А ты? – неожиданно спросил старый профессор шутливым тоном.
– К чему ты спрашиваешь? Точно не знаешь, что и очень расположена к Петру Александровичу! – спокойно ответила Танечка.
Старик профессор сконфузился и торопливо проговорил:
– К чему спрашиваю? Так, к слову пришлось, ну… ну и спросил.
И он решительно принялся за газеты.
Но читал он их сегодня рассеянно и, не докончив чтения, задумался.
II
– Ну, что нового в газетах, папочка?
С этими словами Танечка вошла на террасу и, приблизившись твердой, уверенной походкой к отцу, поцеловала его в лоб.
При виде своей Танечки старик весь просветлел. Во взгляде его светилось столько любви, восторга и умиления, что сразу было видно, что отец боготворил свою дочь.
Она вся сияла блеском молодости, свежести и красоты, эта невысокого роста, отлично сложенная, с пышными формами блондинка, лет двадцати двух, с красиво посаженной головкой на молочной, словно выточенной шее, с большими серо-зелеными глазами и роскошными золотистыми, зачесанными назад волосами, вившимися на висках. На ней было летнее голубое платье с прошивками на груди и рукавах, сквозь которые виднелось ослепительной белизны тело. На мизинцах маленьких холеных рук блестели кольца.
Наружностью своей она нисколько не походила на отца.
У профессора было сухощавое, продолговатое, смугловатое лицо с высоким лбом, из-под которого кротко и вдумчиво глядели темные, еще сохранившие блеск глаза, и вся его интеллигентная физиономия дышала выражением той одухотворенности, которая бывает у людей мысли.
Чем-то слишком трезвым и житейским, законченным и определенным веяло, напротив, от всей крепкой, грациозной фигурки Танечки, от ее круглого хорошенького личика с родимыми пятнышками на пышных щеках, с задорно приподнятым носом и алыми тонкими губами, – от ее больших глаз, ясных и уверенных, во взгляде которых светился ум практической натуры.
Она стояла перед отцом свежая, блестящая, спокойно улыбающаяся, показывая ряд красивых мелких белых зубов, видимо привыкшая, что ею любуются, и сознающая свою власть над любящим сердцем старика. Что-то грациозно-кошачье было и в ее позе и в ее улыбке.
– Так что же нового в газетах, папа? – повторила она свой вопрос.
– Да ничего нового… Все одно и то же…
Присев к столу, Танечка взяла газету и с видимым удовольствием стала читать фельетон. По временам на ее лице появлялась улыбка.
– Нравится? – спросил профессор, не спускавший глаз с Танечки.
– Ничего себе… забавно!.. – ответила Танечка.
– Однако я тебе мешаю… Читай, а я пойду к себе… позаймусь немного и сосну часок перед обедом…
И старик удалился, ласково погладив свою любимицу по ее золотистым волосам.
Оставшись одна, Танечка впилась в фельетон. Веселая, довольная улыбка не сходила с ее личика.
В саду раздались торопливые шаги. Танечка их услыхала и отлично знала, чьи это шаги, но головы не повернула и еще более углубилась в газету.
– Здравствуйте, Татьяна Алексеевна, – раздался около нее радостный, несколько взволнованный мужской голос.
– Ах, это вы, Петр Александрович? – как будто удивилась она. – Здравствуйте! – любезно промолвила Танечка и, отложив газету, протянула свою маленькую белую ручку Поморцеву. Тот крепко сжал ее в своей широкой мясистой руке.
Поморцев был молодой, недурной собою брюнет лет тридцати. Свежее, румяное лицо его, с мягкими чертами, было опушено вьющейся черной бородкой. Он выпустил руку хорошенькой Танечки и смотрел на нее через очки своими черными, бархатными глазами, словно очарованный. Восторг влюбленного сиял у него на лбу.
– Что так поздно?
– Задержали меня в городе, Татьяна Алексеевна! А то бы я, разумеется, поспешил надоесть вам! – говорил он мягким приятным тенорком, благоговейно любуясь Санечкой и нервно пощипывая дрожащими пальцами свою шелковистую бородку.
И, присаживаясь около Танечки, прибавил пониженным тоном:
– Если б вы знали, как вам идет это платье, Татьяна Алексеевна!
А его лицо как будто договаривало: «И как я вас люблю, милая девушка!»
– А вы думаете, я не знаю, что идет? Отлично знаю! – засмеялась Танечка.
– Не сомневаюсь.
– А папа вас ждал к завтраку – и уж думал, что вы не приедете.
– А вы, конечно, не ждали? – шутливо промолвил Поморцев.
– Конечно, нет! – ответила она, вздергивая кверху капризно головку. Этот надменный жест очень шел к ней.
На лицо Поморцева набежала тень. Он внезапно сделался мрачен и как-то весь съежился. Еще вчера ему сказали, что будут ждать его, а сегодня… «Нет, это невозможно… надо выяснить!» – подумал он и вдруг почувствовал себя глубоко несчастным.
А Танечка через минуту уже говорила:
– К чему мне было ждать? Я и так была уверена, что вы приедете… навестить папу! – лукаво прибавила она.
И, словно пробуя свою власть менять состояние духа Поморцева по своему желанию, – власть, которою Танечка пользовалась широко, – она так ласково, так нежно взглянула на Поморцева, чуть-чуть щуря свои глаза, что Петр Александрович снова просиял, и снова надежда согрела его сердце.
Он помолчал и спросил:
– А вы не сердитесь на меня?
– Я? За что?
– За вчерашний спор… Я всегда наговорю лишнего.
– И не думала. Я в эти два года нашего знакомства привыкла к вашим обвинениям и знаю, что вам во мне все не нравится.
– Что вы, что вы, Татьяна Алексеевна!
И голос и лицо Поморцева протестовали против этих слов.
Но Танечка, как будто не замечая этого, продолжала:
– Я и слишком трезвая, холодная натура, я и кокетка… одним словом, я…
– Побойтесь бога!.. – воскликнул Поморцев, перебивая. – Ничего подобного я никогда не думал… Иногда, в минуту раздражения, срывались едкие слова, но разве их можно ставить в упрек?.. Я говорил и повторяю опять, что вы часто клевещете на себя, представляясь не той, какая вы на самом деле…
– А какая я на самом деле? – спросила Танечка, поднимая на Поморцева свои ясные большие улыбающиеся глаза.
В качестве влюбленного Поморцев по отношению к Танечке совсем не пользовался высшим анализом и был слеп, как все влюбленные идеалисты, а потому восторженно прошептал, словно изрекая неоспоримую математическую формулу:
– Вы?.. Вы прелестное существо, лучше которого я не видал, Татьяна Алексеевна!
Танечка усмехнулась.
– Вот и пойми вас: то – прелестное существо, то… бессердечная кокетка!
– А, кажется, понять не трудно. Как вы думаете, Татьяна Алексеевна? – чуть слышно проронил Поморцев.
Ответа не было. Поморцев заволновался и совсем затеребил свою бородку.
«Необходимо теперь же все выяснить!» – думал он. Эта мысль не давала ему покоя и страшно пугала его. Как ответит Танечка? По временам ему казалось, что она более чем расположена к нему; по временам он думал, что она к нему равнодушна и только кокетничает с ним. Целый год он испытывает подобную каторгу: то верит, то сомневается. Надо покончить.
И он решительно сказал:
– Пойдемте гулять, Татьяна Алексеевна!
– Жарко! – лениво протянула Танечка.
– Недалеко, к морю… Там не жарко.
В голосе его звучала мольба. Лицо было серьезно.
– Пожалуй, пойдемте.
Танечка сходила за зонтиком, и молодые люди спустились к дороге, пересекли ее и пошли по густой, прохладной аллее к морю.
III
Сперва оба молчали. Поморцев шел, низко опустив голову, как человек, подавленный думами, или подсудимый в ожидании приговора. Танечка шла своей твердой, ровной походкой, чуть-чуть покачиваясь, и временами взглядывала из-под зонтика на Поморцева. Сегодня он был какой-то странный, не такой, как всегда. Танечка чувствовала по всему, что он позвал ее гулять для объяснения, и ждала его с любопытством. Ее интересовало, как он объяснится.
Это ожидание слегка взволновало и Танечку. Она стала напряженнее. Ясные и спокойные глаза ее оживились.
Поморцев поднял голову и взглянул на девушку. Ее сияющая красота словно ослепила его. Он отвернулся, стараясь пересилить овладевшее им волнение.
– Так вы не понимаете, Татьяна Алексеевна? А ведь, кажется, понять так легко! – вдруг заговорил он и стал как-то особенно внимательно смотреть себе под ноги. Голос его слегка дрожал.
– Чего не понимаю?
– Что я безумно вас люблю! – медленно, с трудом выговаривая слова, произнес Поморцев, не поднимая головы.
Прошло несколько мгновений, показавшихся молодому доценту бесконечными.
И наконец, точно поддразнивая его, Танечка сказала:
– Вы слишком впечатлительны, Петр Александрович, и любите страшные слова. А я им не верю.
Поморцев поднял голову и, недоумевая, смотрел на профиль Танечки. Казалось, он не понимал смысла ее слов.
А она, поникнув головкой, продолжала спокойно-ироническим тоном:
– Вы немножко увлеклись мною… Это я знаю и этому верю… А вам кажется, будто уж вы безумно любите… Это мираж или, как вы выражаетесь, аффект, возведенный в куб… Лучше останемтесь по-прежнему добрыми приятелями.
– К чему вы так говорите? К чему? – воскликнул, точно ужаленный, весь закипая, Поморцев. – Зачем вы рисуетесь напускным скептицизмом? Вы, в двадцать два года, не верите в любовь и называете ее аффектом? Вы просто издеваетесь надо мной. Как вам не стыдно, Татьяна Алексеевна!
Поморцев вдруг остановился, взял Танечкину руку и, придерживая ее, продолжал страстным шепотом, порывисто и торопливо бросая слова, словно боясь, что не успеет сказать всего, чем было переполнено его сердце:
– Слушайте, милая девушка… Это не увлечение, не аффект… Я не юноша… Я проверял себя, и у меня не легкомысленный характер… Я люблю вас второй год… За что? Почему? Я не знаю, но чувствую, что люблю, что без вас жизнь теряет свою прелесть, и других женщин для меня не существует… Вы, одна вы, всегда и везде… О вас все думы… Люблю вас, какая вы есть… И ваш характер, и ваше дьявольское спокойствие, и ваши глаза, и ваши крошки руки, и ваш голос… Люблю и за то, что вы мучаете меня, вечно оставляя в сомнении… Люблю вас всю, всю люблю с макушки до пяток и не верю вашему безотрадному скептицизму, вашим взглядам на жизнь… Понимаете ли, не верю… Вы клевещете на себя… Вы добрая, чудная, и я не могу вас не любить!.. – говорил он, и слезы стояли у него в глазах.
Нет такой женщины, которая не слушала бы с радостным чувством удовлетворенного самолюбия любовного признания даже от человека, к которому равнодушна, если только он не очень стар, не очень безобразен и не слишком глуп.
И Танечка, вся торжествующая и тронутая, с удовольствием внимала этой искренней и горячей песне любви. Каждое слово Поморцева ласкало ее, пробираясь к сердцу и волнуя молодую кровь. Глаза ее блестели. Она вся притихла, словно очарованная.
– Теперь вы верите? Верите, что я вас безумно люблю? – допрашивал Поморцев, заглядывая Танечке в глаза.
– Верю! – проронила Танечка и пожала Поморцеву руку.
– А вы? Вы любите ли меня? Хотите ли быть моей женой?
Танечка тихо высвободила свою руку из горячей руки Поморцева и сказала:
– Я очень расположена к вам… Вы мне нравитесь, Петр Александрович, но я отказываюсь от чести быть вашей женой.
Поморцев безнадежно опустил голову.
– Решительно? – глухо промолвил он.
– Решительно! – твердо ответила Танечка.
Они повернули назад к дому.
– Вы не сердитесь на меня, Петр Александрович, – заговорила Танечка через минуту, увидав убитое лицо Поморцева.
– За что сердиться? – угрюмо вставил он.
– Надо быть благоразумным…
– Еще бы!
– Подумайте: у меня ничего нет и у вас ничего нет.
Молодой человек с изумлением взглянул на Танечку и, весь вспыхивая, проговорил:
– Как ничего?.. У меня уроки… Сколько угодно будет уроков, и наконец, не вечно же я буду доцентом…
– Меня не удовлетворит эта серенькая, полубедная жизнь, эти вечные заботы о завтрашнем дне… Довольно их… Я хочу спокойной, обеспеченной жизни… Я люблю блеск и роскошь… Вот какая я…
– Вы опять лжете на себя, Татьяна Алексеевна.
– Как видите, не лгу! Я выйду замуж только за богатого человека!
– Даже не любя его?
– Любовь понятие относительное… Я не такая идеалистка, как папа и вы! – прибавила Танечка. – Любовь проходит, а жизнь вся впереди…
– Да понимаете ли вы, что говорите! – воскликнул Поморцев, задыхаясь. – Вы собираетесь продать себя?








