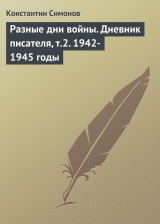
Текст книги "Разные дни войны (Дневник писателя)"
Автор книги: Константин Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 84 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]
Аккуратный Боровков, идя купаться, накрыл "пикап" брезентом, и когда мы поднялись на берег, то увидели, что наш "пикап" окружило целое стадо коров. Они приподняли брезент и мордами тыкались в наши винтовки и каски. А одна пролезла головой в кабину и интересовалась баранкой.
Мы проехали дальше и слева от дороги увидели снижающийся за лесом ТБ-3. Где-то в этом районе был аэродром полка ночных бомбардировщиков. Еще до отъезда в Могилев мы слышали о нем в штабе фронта. Говорили, что этот полк в последнее время великолепно работал по ночам, почти не имея потерь. Секрет успеха, если верить истребителям, подшучивавшим над "ночниками", заключался в том, что немецкие зенитки с их автоматическим опережением были рассчитаны на более скоростные типы самолетов, а ТБ-3 со своей тихоходностью ночью становился как бы на якорь над целью. Стоял на якоре и плевался бомбами. Отплюется и уйдет. А зенитки все время бьют не по нему, а впереди него.
Увидев над лесом ТБ-3, мы сразу вспомнили об этих разговорах. Разговоры были веселые, но у меня, как и всегда, когда я снова где-нибудь вижу эти большие, тяжелые, очень надежные и очень тихоходные машины, мелькнуло щемящее воспоминание о Бобруйском шоссе.
Мы ехали мимо лесных деревень. На улицах было много народу. Женщины провожали уходивших на войну парней. Мы сначала думали сразу же в этот день доехать до Касни, где, по нашим сведениям, стоял штаб фронта, но, пока добирались проселками, уже стемнело, и мы, благоразумно решив, что ночью в лесу, тем более без штабного пропуска, все равно ничего не найдем, Двинулись прямо на Вязьму.
Наш маленький опыт уже подсказал нам, что след фронтовой или армейской газеты почти всегда можно найти в ближайшей типографии, и мы разыскали ее на ночных, абсолютно черных вяземских улицах. Действительно, наша "Красноармейская правда" печаталась здесь. Но в типографии ночью был только один человек – дежурный, которого мы почти не знали. Перекинувшись с ним несколькими словами, мы, усталые, повалились там же, в наборном цеху, на пол и проспали как убитые до шести утра...
На этом месте, на приезде в Вязьму, которым закончилась наша командировка под Могилев, остановлюсь, чтобы рассказать, как выглядела в действительности обстановка, в которой нам так трудно было тогда разобраться.
Во второй половине дня 14 июля, когда под Могилевом мы еще раз встретились с комиссаром 61-го корпуса, посоветовавшим нам ехать в Чаусы, 29-я мотодивизия немцев после прорыва северней Могилева уже подошла передовыми частями к Смоленску, а их 10-я танковая дивизия, повернув на юго-восток, была не только в тылу штаба корпуса, но уже глубоко обошла находившийся в Чаусах штаб нашей 13-й армии.
Немецкие части, прорвавшиеся южнее Могилева, тоже продвигались вперед, и дорога Могилев – Чаусы была уже перехвачена частями 3-й танковой дивизии немцев.
Полной ясности, что происходит в этом районе, не было ни у нас, ни у немцев. Во всяком случае, на отчетной карте немецкого генерального штаба с вечерней обстановкой на 13 июля Могилев показан уже захваченным немцами. То есть, когда мы приехали в Могилев в полк Кутепова, в немецкой ставке уже считали, что с Могилевом покончено.
В наших переговорных лентах за тот же день – 13 июля – сохранился текст сообщения, полученного штабом фронта: "...район Могилев. Положение не совсем ясное, делегат еще не прибыл... Могилев в наших руках..."
В сохранившейся оперативной сводке штаба 13-й армии за 14-е число сказано: "Армия продолжала упорные бои на Шкловско-Быховском направлении по уничтожению противника и восстановлению положения на восточном берегу реки Днепр... 61-й корпус продолжает бой..."
В немецкой сводке группы армий "Центр" за то же 14-е число указывается, что в то время, как "29-я дивизия в 10.00 достигла западной окраины Смоленска", "45-й армейский корпус продолжает бои с упорно сопротивляющимся противником в районе Могилев".
Очень показательна одна фраза в этой же сводке: "Упадка боевого духа в русской армии пока еще не наблюдается".
Если местность под Могилевом, где мы были в полку Кутепова, запомнилась мне во всех подробностях и я точно восстановил в памяти, где что было, не могу сказать этого о Чаусах. Попав в эти места теперь, я долго не мог разобраться, откуда мы тогда, в сорок нервом, приехали в Чаусы. С той стороны, с какой, Мне по памяти казалось, тогда был мост через реку, его теперь не было, а с той стороны Чаус, где теперь стоял мост, мы вроде бы тогда не могли приехать – получался уж слишком кружной путь! Впрочем, возможно, именно так оно и было: по дороге из Могилева мы от деревни к деревне забирали все больше в объезд и в конце концов подъехали к Чаусам совсем с другой стороны.
По архивным данным видно, что немецкие танки неожиданно подошли к Чаусам и к штабу армии 15-го в 5 часов вечера. В документах штаба Западного фронта есть записка, посланная из 13-й армии: "На подступах к Чаусы завязался бой с танками. 17 часов 17.VII с. г. Связь с корпусом прервана. Начальник штаба Петрушевский".
Примерно в это время или чуть раньше я и прибежал, запыхавшись, на командный пункт 13-й армии и доложил о том, что видел, генерал-лейтенанту Герасименко, который лишь накануне вступил в командование армией.
Надо сказать, что 13-й армии в те дни вообще не везло: 8 июля, возвращаясь к себе из штаба фронта, командующий 13-й армией генерал-лейтенант Филатов был обстрелян на дороге "мессершмиттами" и смертельно ранен. В командование армией вступил генерал-лейтенант Ремезов, Выехав вперед в войска, он по дороге наскочил на прорвавшихся немцев, тоже был тяжело ранен, и 14 июля его сменил Герасименко. В разгар немецкого наступления он оказался третьим командующим за неделю.
Коротко скажу о судьбах некоторых участников событий тех дней под Чаусами.
Генерал-лейтенант Федор Никитович Ремезов, который еще командовал 13-й армией, когда мы ехали в нее, уже был ранен, когда мы приехали. Не успев долечиться после тяжелых ранений, он вышел из госпиталя и принял войска Северо-Кавказского военного округа. С его именем было связано одно из первых в истории воины сообщений: "В последний час" за 28 ноября 1941 года. "Части Ростовского фронта наших войск под командованием генерала Ремезова, переправившись через Дон, ворвались на южную окраину Ростова" – первое известие о нашем первом контрударе под Ростовом.
Интересное совпадение: генерал-лейтенант Василий Филиппович Герасименко, сменивший тогда, в июле сорок первого года, раненого Ремезова на посту командующего 13-й армией, упоминается в сводках Информбюро тоже в связи с освобождением нами Ростова, но уже в 1943 году: "Сегодня, 14 февраля, сломав упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону. В боях за Ростов отличились войска генерал-лейтенанта товарища Герасименко В. Ф.".
Член Военного совета 13-й армии бригадный комиссар Порфирий Сергеевич Фурт, с которым мы встретились в лесу под Чаусами, впоследствии, когда был отменен институт комиссаров, перешел на строевую работу и воевал, командуя сначала 112-й, а затем 4-й стрелковой дивизией.
Александр Васильевич Петрушевский, начальник штаба 13-й армии в июле 1941 года, по-прежнему оставался на этой должности и в июле 1943-го, когда 13-я армия сыграла главную роль в отражении удара немцев на северном участке Курской дуги, под Понырями и Малоархангельском. К тому времени армией командовал генерал-полковник Николай Павлович Пухов. Во главе с ним она и закончила войну 9 мая 1945 года, вслед за танкистами Рыбалко и Лелюшенко ворвавшись в Прагу.
* * *
Возвращаюсь к дневнику.
...В шесть утра вместе с отдежурившим выпускающим мы поехали из типографии в редакцию, в Касню. Там нас уже считали в нетях, в окружении и тревожились. А в Москве, в "Известиях", как я уже потом узнал, кто-то даже додумался сказать моей матери, пришедшей туда спросить, нет ли чего-нибудь от меня, чтобы она готовилась к худшему.
Вместо двух-трех суток, как мы собирались, мы отсутствовали втрое больше, а такая задержка в те времена могла означать что угодно.
Как только мы приехали в Касню, я немедленно сел, а верней, лег за работу и к шести часам вечера сделал две статьи – для фронтовой газеты и для "Известий".
Наш "пикап" едва дышал после этой поездки и нуждался в ремонте, так что ехать в Москву была двойная причина – и пригнать мою машину, и отремонтировать за сутки "пикап". Трошкин решил тоже поехать со мной, чтобы там, в Москве, самому проявить и напечатать свои снимки.
Редактор подтвердил свое разрешение и приказал выписать документы. Мы с Трошкиным решили, не откладывая в долгий ящик, ехать в Москву немедленно вечером. До полной темноты выбраться на Минское шоссе, гнать всю ночь, к утру быть в Москве, пробыть там день и ночь и на следующее утро выехать обратно в Вязьму.
Вечером мы с Трошкиным и Боровковым двинулись; наши полевые сумки были набиты несколькими десятками писем...
Из Касни мы выбрались на шоссе какими-то долгими объездами. Всюду стояли сигнальщики. Во многих местах не пускали, потому что окрестности Вязьмы и подходы к шоссе минировались. По всему было заметно, что здесь считаются с возможностью приближения немцев.
Когда мы выехали на Минское шоссе, я вдруг почувствовал, как близко от фронта, прямо за плечами Москва, как нас крепко и тесно прижало к ней: всего один ночной перегон на старой, разболтанной машине – и мы будем в Москве.
Минское шоссе, широкое и прямое, за этот месяц оказалось уже довольно сильно разбитым и местами было просто в ухабах. Была абсолютно черная, безлунная ночь. Боровков, измучившийся за предыдущую поездку, почти не успел поспать днем – приводил в порядок "пикап", чтобы дотянул до Москвы. А навстречу нам неслись без фар черные, видные только за десять шагов, бесконечные грузовики со снарядными ящиками. То и дело казалось, что они налетят на нас и сшибут. Мы с Трошкиным решили, сменяясь, всю дорогу стоять, открыв дверцу, на крыле "пикапа". Через ветровое стекло совсем ничего не было видно, а так можно было хоть что-то разобрать метров за двадцать.
Еще не так давно мы ночью проезжали по Минскому шоссе с подфарниками и маскировочными сетками на них и считали это вполне нормальным. Но сейчас на шоссе была другая атмосфера, да и у нас самих было другое отношение к этому. Увидев впереди на шоссе слабые отблески света, мы догнали и остановили какую-то машину, ехавшую с подфарниками и сеткой, и, угрожая пистолетами, заставили ехавших в машине людей развинтить фары и вынуть лампочки. В обстановке этой тревожной, совершенно черной дороги нам искренне казалось, что каждый мелькнувший кусочек света может вызвать бомбежку. Это было, конечно, неверно, но и неудивительно" – слишком много за этот месяц все хлебнули горя от беспрерывно летавшей над дорогами немецкой авиации. Так мы и ехали, пока не начало светать, сменяя друг друга на подножке "пикапа"...
* * *
Несколько слов о Павле Ивановиче Боровкове.
Поездка под Могилев была моим последним совместным фронтовым путешествием с водителем нашего "пикапа". Пожалуй, в дневнике я был не совсем справедлив к нему. По молодости лет мне тогда больше бросались в глаза его недостатки – некоторая опасливость при движении по неизвестной дороге, особенно в сторону противника, и порой излишняя быстрота реакций при гуле самолетов. В общем, Павел Иванович, несомненно, был человеком более осмотрительным и осторожным, чем некоторые из нас, и это казалось мне тогда его большим грехом. Но я не написал в дневнике о другой, куда более важной стороне характера нашего водителя. Он нервничал при бомбежках и обстрелах, по был непоколебим в своем отношении к вверенной ему машине. Он считал, что, раз он за рулем, машина должна нас вывезти откуда угодно. И хотя в последние дни машина ломалась, скрипела и корежилась, хотя то одно, то другое выходило из строя и ему пришлось подпирать сосновым колом готовый вывалиться мотор и привязывать на крышку "пикапа" банку с бензином, чтоб он шел самотеком, Боровков ни на минуту не допускал мысли, что можно оставить где-то эту еле дышавшую машину и добираться пешком. Он был великолепным шофером, непоколебимо верившим в себя и в доверенную ему технику, и кто знает, может быть, именно это в конце концов и дало возможность Трошкину сказать: "Ребята, а ведь выбрались, а?"
Не так давно я видел Павла Ивановича Боровкова, сейчас уже немолодого и больного человека – война недешево досталась ему. В разговоре со мной он вспоминал о гибели своего тезки Павла Трошкина, нашего попутчика по могилевской поездке. Трошкин погиб в 1944 году по дороге ко Львову от руки нападавших на машины бандеровцев. Проскочить не удалось – в машине что-то заело; Трошкин вылез из нее и отстреливался из автомата, лежа рядом на шоссе. Об этом потом рассказывал один его спасшийся спутник. И когда Боровков вспоминал о гибели Трошкина и словно искал при этом, что можно было бы сделать, чтобы Трошкин не погиб, я чувствовал за всем этим явно подуманное, хотя и не высказанное словами: "Со мной бы ехал – не заело бы..."
Командировочное удостоверение, которое мне выдал тогда, в июле, для поездки в Москву полковой комиссар Миронов, у меня не сохранилось. Но в старом блокноте, в том же, где все записи о Могилеве, есть написанный моей рукой черновик: "Тов. Симонов К. М. и тов. Трошкин П. А. командируются в Москву для выполнения срочного задания редакции "Красноармейской правды". Срок командировки с 18 по 20 июля 1941 г.". И еще черновик другой бумаги: "Редакция фронтовой газеты "Красноармейская правда" поручает тов. Симонову К. М. доставку поступающей в распоряжение редакции автомашины №... из Москвы в адрес редакции "Красноармейской правды".
В этом же блокноте на последней странице обрывочные записи, свидетельствующие о количестве поручений, которые я должен был выполнить в Москве:
"Все в порядке. Пусть сообщат Нине и передадут мне, как и что".
"Алеша был болен, сейчас здоров".
"Писем пока не будет. Переходит в другую газету".
"Вручить письмо, и чтобы дали адрес семьи. Если есть связь с женой, переслать ей побольше денег".
"Едем в Калугу, а дальше не знаю куда".
"Марк жив. Все в порядке".
"Рассказать происшедшую историю, пусть пере дадут письма".
"Узнать но всем отделам, нет ли корреспонденции".
Такому-то – папиросы.
Такому-то – табак.
Такому-то – тоже табак.
Такому-то – привезти конверты и марки.
Такому-то – заверить доверенность.
Зайти в партком и сказать о таком-то...
В блокноте фамилии, имена и отчества, адреса, телефоны – десятки телефонов. Может быть, покажется странным, что я вдруг решил напомнить об этих записях, но в них тоже частица времени. Я ведь первым из всех моих товарищей ехал в Москву. Письма на фронт еще не доходили. Полевая почта не то еще не работала, не то мы еще не привыкли ею пользоваться...
Глава седьмая
Сурков дал нам с Трошкиным поручение: по дороге в Москву заехать на минуту во Внуково, завезти жившим там на даче родителям его жены письмо и сказать, что видели его живым и здоровым.
Как мы ни торопились в Москву, но во Внуково все-таки заехали. Было раннее утро. Тихая дача в лесу. Старики притащили нам таз с крупной клубникой и просили нас, если мы сумеем, заехать на обратном пути и отвезти зятю в Касню плетеночку этой клубники. Посидев у них пять минут, мы поехали дальше, в Москву.
Было раннее утро, и Москва казалась опустевшей. Мы с Трошкиным проехали прямо в редакцию "Известий". Я оставил там статью, пообещав привезти еще одну, а Трошкин пошел проявлять пленки. Едва ли ошибусь, если скажу, что мы с ним, пожалуй, были первыми газетчиками, приехавшими с Западного фронта в Москву.
В эти сутки, что мы пробыли в Москве, нам выпала трудная задача отвечать на десятки вопросов, на которые мы иногда не знали, что отвечать, а иногда знали, но не имели права, потому что здесь все-таки совсем не представляли себе того, что делалось на фронте. Даже отдаленно не представляли. Нас спрашивали, взят ли Минск, взят ли Борисов, правда ли, что немцы с налета взяли Смоленск и в нескольких местах переправились через Днепр и продолжают наступать. Но, еще подъезжая к Москве, мы дали друг другу слово держать язык за зубами, не говорить лишнего и, кажется, сдержали это слово.
Ответив в редакции на первые поспешные вопросы и пробыв там минут двадцать, я поехал повидаться с близкими.
День был сумасшедший. Я отвечал на бесчисленные вопросы, писал для "Известий" еще одну статью, потом дописывал что-то, сидя в редакции, был у родителей, ездил договариваться насчет машины. В "Известиях" решили, что лучше будет, если я сдам им свой "фордик", а они вместо него в дополнение к "пикапу" дадут в наше пользование редакционную "эмку". К завтрашнему утру она должна была быть подготовлена и выкрашена в маскировочные цвета. Кроме того, было решено для пользы дела вырезать у нее середину крыши и вместо нее на барашках закрепить скатывающийся в трубку брезент. Учитывая предыдущий опыт, решили сделать это, чтобы быстрее передвигаться, не чувствовать себя в мышеловке и не выскакивать каждый раз, услышав самолеты, а, скатав этот брезент, на ходу наблюдать за воздухом.
Я узнал, что Ортенберг назначен редактором "Красной звезды". Накануне своего отъезда на фронт я встретил его в коридоре ПУРа, когда шел за командировочным предписанием, и сказал ему, что если его назначат в одну из военных газет, чтобы он забрал меня к себе. По старой памяти о Халхин-Голе, где он редактировал нашу "Героическую Красноармейскую", мне хотелось работать с ним и в эту войну.
В "Красную звезду" к нему я попал вечером. Когда я вошел, он встал из-за стола и сказал:
– А, Симонов! – таким тоном, словно он именно меня сейчас и ждал. – Ты получил мои телеграммы?
Я спросил какие.
– Я послал тебе две телеграммы в "Боевое знамя".
Я сказал ему, что хотя и был первоначально назначен в эту армейскую газету, но так и не знаю, где она находится, и никаких его телеграмм не получал.
– А чего ты приехал с фронта? Я объяснил.
– Хорошо, – сказал он. – А я тебе уже третью телеграмму собирался посылать от имени Мехлиса. Теперь у нас в "Звезде" будешь работать.
Я сказал ему – и вполне искренне, – что был бы рад работать с ним, но я работаю во фронтовой газете и в "Известиях".
– Ничего, – сказал он. – Из фронтовой мы переведем тебя к нам приказом, а "Известия"... Я тебе позвоню ночью. Давай телефон.
Я не дал ему телефона, по которому он мог бы мне позвонить ночью, и сказал, что лучше сам позвоню утром.
Я вышел от него в большом сомнении. Была уже заварена каша с "Известиями", получено от них постоянное корреспондентское удостоверение на Западный фронт, и уходить оттуда было не совсем удобно...
Я так и не решился в тот вечер и в ту ночь рассказать близким мне людям всю правду о пережитом на фронте.
Заснул поздно ночью, и, как мне показалось, всего через несколько минут меня разбудили. Звонил телефон. Оказывается, была уже не ночь, а половина седьмого утра.
– С вамп говорит заместитель редактора "Красной звезды"полковой комиссар Шифрин. Выслушайте приказ заместителя народного комиссара: "Интендант второго ранга писатель Симонов К. М. 20.VII.41 назначается специальным корреспондентом газеты "Красная звезда". А теперь, – продолжал Шифрин, – бригадный комиссар Ортенберг приказал вам спать, сегодня никуда не ехать, а завтра, в понедельник, к одиннадцати часам явиться в редакцию.
Я так ничего и не успел сказать, не успел даже удивиться, как меня разыскали, трубка была уже повешена.
Я оделся, сел на трамвай и поехал в "Красную звезду". Оказалось, что Ортенберг еще у Мехлиса. Значит, он приказал разыскивать меня, еще сидя там, в ПУРе.
Вскоре он явился и сказал, что первые две недели я буду сидеть в Москве, что я нужен пока здесь, в редакции, а потом поеду на фронт по его усмотрению. Тщетно я старался объяснить ему всю невозможность для меня остаться сейчас в Москве, несмотря на все мое желание работать в "Красной звезде".
– Ничего, – сказал он, – теперь ты наш работник. С "Известиями" мы уладим, а с "Красноармейской правдой" уже все сделано. Я дал в политуправление фронта телеграмму, что ты работаешь у нас, а не у них.
В общем, я в душе был рад переходу в "Красную звезду", но у меня все равно оставалось чувство, что я не могу сейчас задержаться в Москве и должен возвратиться в Вязьму именно сегодня, как обещал. Зная характер Ортенберга, я использовал единственный козырь: попросту сказал ему, что если я сегодня же не вернусь на фронт, то меня сочтут за труса. Он полминуты подумал и сказал:
– Хорошо, поезжай. И чтобы тебе не было неудобно с"Известиями", в эту поездку можешь так: мне делай стихи, а им прозу. Срок поездки – неделя, а потом целиком наш и никаких поблажек!
Мне оставалось подчиниться. Предписание было выписано немедленно.
Поскольку мне в эту поездку еще дано было право писать в "Известия", я смалодушничал и ничего не сказал там, решив отложить этот неприятный для меня разговор до возвращения.
Машина была готова. В газете был напечатан мой подвал о полке Кутепова "Горячий день" и во всю полосу – панорама разбитых танков, снятых Трошкиным. Это были первые материалы такого типа, и я испытал удовлетворение начинающего газетчика, видя, как у витрин с газетами стояли толпы народа... Здесь я снова оторвусь от текста дневника.
Судя по нему, выходит, что мы с Трошкиным приехали в Москву 19-го и уехали обратно в Вязьму 20 июля. Всюду, где это возможно, восстанавливая по документам даты, я вижу, что на самом деле наш приезд в Москву и возвращение в Вязьму в точности совпадает с тем черновиком командировочного предписания, который я нашел в своем блокноте: "С 18 по 20 июля". Сэкономив полсуток, мы выехали из Вязьмы с этой командировкой на руках в ночь с 17-го на 18-е. 18-го утром были в Москве и, проведя там два дня, вернулись в Вязьму 20-го.
В дневнике эти двое суток, проведенных в Москве, превратились в одни. Все это было так скоротечно, что, Очевидно, уже через полгода показалось всего-навсего одними сутками.
Очевидно, в "Красную звезду" к Ортенбергу я пришел не в первый вечер своего приезда в Москву, а на второй, уже когда в "Известиях" появились две мои первые корреспонденции и первые снимки Трошкина. Наверное, это и подогрело решимость редактора "Красной звезды" забрать меня к себе.
Свою третью корреспонденцию, "Горячий день", я написал уже в Москве 19-го, и она появилась в "Известиях" 20-го, в день нашего возвращения на фронт. Под первыми двумя стояло: "Действующая армия, 18 июля"; под третьей: "Действующая армия, 19 июля", – хотя на самом деле, как это видно из дневника, события, описанные в этих корреспонденциях, происходили 13 и 14 июля. Но в то время такая максимально приближенная к дню публикации датировка была общим явлением. Я проверил это, прочитав номера всех центральных газет за 19 июля 1941 года. Буквально всюду под всеми корреспонденциями из действующей армии стоит дата: 18 июля.
Можно понять положение редакций в те дни: материалы поступали скупо, доставлялись с великим трудом, порой с риском для жизни, а сам характер материалов с пометкой "Действующая армия", как правило, был таков, что смещение дат не играло особой роли. В корреспонденциях с фронта не было попыток изобразить общий ход событий, а рассказы о боях не были связаны с конкретными географическими пунктами. Наоборот, при публикации в целях сохранения военной тайны изымалось все, что хоть ненароком могло бы дать представление о том, где что происходило.
В моей корреспонденции "Горячий день", к примеру, было сказано, что "полк, которым командует полковник Кутепов, уже много дней обороняет город Д.". Перечитывая ее сейчас, я вижу, что ни одна деталь не указывала в ней на то, что речь идет о боях за Могилев.
А в опубликованном в тот же день в "Красной звезде" "Письме с фронта", присланном корреспондентами "Красной звезды" писателями Борисом Лапиным и Захаром Хацревиным, называвшемся "На N-ском направлении", не было и намека на то, что речь идет об одной из наших контратак на дальних подступах к Киеву.
Из корреспонденции, напечатанных в наших газетах 19 июля с пометкой "Действующая армия", было видно, что мы на всех фронтах обороняемся, что оборона носит упорный характер и сопровождается контратаками. Естественное в ту тяжелую пору стремление каждого из нас не пропустить ни одной попытки контрудара, когда на газетных листах все наши материалы сходились вместе, создавало у читателей ощущение куда большего числа наносимых нами контрударов, чем было на деле. И все же в этих корреспонденциях содержалась та объективная истина, что активность нашей обороны вопреки ожиданиям немцев не падает, а растет.
Наиболее далекие от реальности выводы могли в те дни связываться у читателей газет с материалами, посвященными нашей авиации. Из всех родов войск наша авиация в начале войны оказалась в наиболее тяжелом положении, и рассказать в Москве о том, что я видел в воздухе над Бобруйским шоссе, я не мог даже самым близким людям, даже матери, сознавая, какой силы душевное потрясение я обрушу на нее, все еще продолжавшую жить довоенными представлениями.
Для того чтобы понять всю трудность нашего с Трошкиным положения первых военных корреспондентов, приехавших в Москву и вынужденных отвечать на сотни вопросов, надо сопоставить некоторые документы того времени.
В сообщении Информбюро, опубликованном 19 июля, было среди прочего сказано о продолжающихся оборонительных боях на Смоленском и Бобруйском направлениях. В общей форме это соответствовало истине, особенно в отношении Смоленска. Наши войска именно в это время пытались отбить город у немцев.
Но в представлении тех, кто расспрашивал нас в Москве, все это выглядело совсем по-другому, чем было в действительности. И я не мог рассказать им ни того, что мы еще два дня назад не попали в Смоленск, потому что в него уже ворвались немцы, ни тем более того, что еще двадцать дней назад немцы переправились у Бобруйска через Березину.
В "Журнале боевых действий войск Западного фронта" за 19 июля говорилось, что 172-я дивизия, о действиях которой я в этот день писал в Москве свой очерк, продолжает удерживать Могилев и "плацдарм западнее Могилева... ведя бои в окружении". Полковник Кутепов продолжал драться там же, где я был у него пять дней назад. Но я не имел права рассказывать родным и знакомым ни о форсировании немцами верхнего течения Днепра, о котором еще не было сказано в газетах, ни о немецких танках, прорвавшихся к штабу нашей армии в Чаусах, в пятидесяти километрах восточней Могилева.
Почти все, чему мы были свидетелями, так или иначе еще считалось к 19 июля военной тайной, и я не берусь теперь судить, где тут в каждом отдельном случае была тогда грань между верными и запоздалыми представлениями о том, что действительно являлось и что уже не являлось тайной.
Если взять для примера Смоленск, то при тех военно-исторических аналогиях, которые были связаны со Смоленском как ключом к Москве, задним числом можно понять нежелание широко публиковать сообщение о его потере в те дни, когда мы еще надеялись его вернуть.
А такая надежда и в Ставке, и на Западном фронте продолжала существовать. Как свидетельствуют документы, части 16-й армии, которой тогда командовал генерал М. Ф. Лукин, как раз в эти дни выбили немцев из северной части города и только 28 июля окончательно оставили окраину Смоленска. Известие о потере нами Смоленска было опубликовано в сообщении Информбюро только 13 августа. Но следует помнить, что почти весь этот последующий период был связан с ожесточенными боями в районе Смоленска, конец которых и немецкие военные историки датируют только пятым – восьмым числами августа.
Не только мы, но и немцы называют этот период Смоленским сражением, подчеркивая его важное значение в ходе всей летней кампании 1941 года. "Журнал боевых действий войск Западного фронта" за 19 июля дает полную реальных противоречий картину того, как в этот день выглядело начавшееся несколькими сутками раньше Смоленское сражение. В записях за этот день мы видим и меру наших неудач, и меру наших упорных и яростных усилий остановить и отбросить немцев – словом, все то, о чем Сталин за день до этого, 18 июля, счел нужным написать в своем первом личном послании Черчиллю: "Может быть, нелишне будет сообщить Вам, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным".
Из экономии места, не прибегая в данном случае к прямому цитированию "Журнала боевых действий", я попробую дать обзор содержащихся в нем наиболее характерных данных за 19 июля.
В "Журнале" сказано, что в районе Невеля и Великих Лук немцы ведут бои на окружение правофланговых частей нашей 22-й армии и что, успешно обороняясь на своем правом фланге, 22-я армия в центре и на левом фланге уже ведет бои в окружении, прорываясь на Невель.
О 51-м стрелковом корпусе этой армии сказано, что он ведет бои в окружении с превосходящими силами противника.
О 19-й армии сказано, что в течение дня отдельные ее части продол/кают вести бои в районе Смоленска и что одновременно продолжается сбор одиночных людей и подразделений армии в районе Дорогобужа и Вязьмы.
О 20-й армии сказано, что она произвела перегруппировку и отход частей на новый оборонительный рубеж.
О 5-м механизированном корпусе, входившем в состав 20-й армии, сказано, что он отошел и сосредоточился на северном берегу Днепра.
О 13-й и 4-й армиях сказано что они ведут бои на Могилевском направлении отдельными очагами в окружении, стремясь на некоторых участках восстановить положение.
О 45-м стрелковом корпусе 13-й армии сказано, что сохранившееся управление этого корпуса и рота охраны штаба брошены на розыск и формирование отходящих с запада частей.
Так выглядят сгруппированные вместе сведения с разных участков Западного фронта, говорящие о прорывах и выходах из окружений, о розыске, сборе и формировании заново частей и о прочих невеселых вещах.
Но "Журнал боевых действий" за 19 июля состоит отнюдь не только из этого. В нем есть и другие сведения, носящие иной характер.
Остатки 179-й стрелковой дивизии западнее Великих Лук подбили пятнадцать немецких танков.
3-я и 4-я танковые дивизии Гудериана, действующие на Могилевском направлении, приостановили свое продвижение вследствие сопротивления наших войск.
73-я немецкая танковая дивизия, понеся большие потери во время боя под Ярцевом, перешла к обороне.
18-я немецкая танковая дивизия приостановила свое продвижение, наткнувшись в районе Ельни на противотанковый район.
129-я дивизия 16-й армии в течение ночи вела бой за Смоленск и к 8 часам утра овладела северо-западной частью города и аэродрома.








