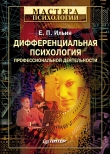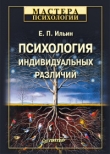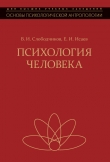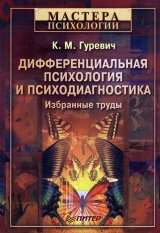
Текст книги "Дифференциальная психология и психодиагностика. Избранные труды"
Автор книги: Константин Гуревич
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
* * *
В этой главе речь шла о профессиональной пригодности к одному из видов операторской деятельности – оператора-руководителя. Требования к этой деятельности вытекают из ее существа: сила нервной системы в отношении возбуждения и баланс процессов возбуждения и торможения нужны оператору потому, что он сталкивается с экстренными сильными воздействиями.
Понятно, при иной деятельности требования к работнику были бы другими. Так, профессия оператора-наблюдателя связана с монотонностью и однообразием заданий, поступающих обычно в принудительном темпе. Успешность зависит от сосредоточения внимания, чтобы не смешивать сигналы с шумами и не оставить сигналы незамеченными. Такая сосредоточенность внимания нередко проходит либо на фоне полного отсутствия всяких раздражителей, либо на фоне постоянных шумов. Задания, где нужно путем последовательного прослеживания выделить раздражители, которым придано сигнальное значение, называют заданиями на бдительность. В опытах П. Бэкэна (Bakan P., Belton J., Toth J. С., 1963) были даны подобные задания, только его испытуемые находились в несколько иных условиях. Раздражители поступали в строго определенном темпе, по одному в секунду.
Данный тип деятельности, в его лабораторной моде, предъявляет к человеку не совсем те требования, чем производство к оператору-руководителю.
Согласившись с тем, что задания, выполняемые испытуемыми в экспериментах П. Бэкэна, В. И. Рождественской с соавторами, воспроизводят в главных чертах деятельность оператора-наблюдателя, представим себе психологическую природу возникших перед ним трудностей.
Видимо, они обусловлены поддержанием бдительности при монотонной и пассивной деятельности – пассивной потому, что она возникает не по внутренней спонтанной необходимости, а только как ответ на сигнал. Судя по некоторым исследованиям, на успешность работы оператора-наблюдателя влияет ритм (и аритмия) подачи сигналов, их сгущение и разрежение (экстремумы), но и в опытах П. Бэкэна эти факторы не рассматривались.
Задания, предлагавшиеся в опытах П. Бэкэна, успешнее выполняли интроверты.
Имеются основания считать, что «слабые» в нашем понимании и интроверты в понимании Г. Айзенка, на взгляды которого ориентировался П. Бэкэн, имеют много общего. В частности, так смотрит и Д. Грэй, специально разрабатывавший этот вопрос (Грэй Д. А., 1968). Представляют интерес продуктивные исследования Д. Бродбента: он также пришел к выводу, что интроверты при выполнении заданий, моделирующих деятельность оператора-наблюдателя, работают лучше, чем экстраверты. Он ссылается на других авторов, получивших сходные результаты. Нужно отметить, что Д. Бродбент пытался установить связь между типологическими особенностями высшей нервной деятельности испытуемых по Павлову и их успешностью в заданиях на бдительность. К сожалению, он использовал раннюю павловскую классификацию 1927 года (Broadbent D. Е., 1961).
Однако нельзя забывать, что в упоминавшихся исследованиях речь идет не о самой деятельности оператора-наблюдателя на производстве, а лишь о ее лабораторной модели. Поэтому не следует торопиться с заключениями, будто «слабые» всегда покажут себя лучше и в профессиональном труде. Производственная деятельность может предъявить такие требования к человеку, которые не обнаруживаются в лабораторных условиях. Психофизиологический критерий (слабость нервной системы относительно процесса возбуждения) не сопоставлялся с «внешним критерием», и его валидность пока не установлена.
При недостаточной изученности различных вариантов труда оператора-наблюдателя остаются нерешенными многие важные вопросы, непосредственно связанные с проблемой профессиональной пригодности, в том числе и такой: какие требования предъявляются тем или другим видом этой профессии – абсолютные или относительные?
Все это говорит о том, как много нужно сделать для изучения профессиональной пригодности к разным видам и типам операторской деятельности.
1.5. Относительная профессиональная пригодность (профессии второго типа)
1.5.1. Профессиональная пригодность и индивидуальный стиль
Большая часть профессий не предъявляет абсолютных требований к человеку. Формирование профессиональной пригодности к этим профессиям во многом совпадает с выработкой индивидуального стиля трудовой деятельности, но отождествить то и другое нельзя. Индивидуальный стиль – это признак личности, не ограниченный определенными ситуациями; один и тот же стиль может быть у человека в разных видах деятельности, а профессиональная пригодность – свойство личности, отчетливо проявляющееся в трудовой деятельности в конкретной профессии.
Процесс формирования пригодности облегчается и ускоряется, когда учителя или руководители, а также товарищи помогают ученику или начинающему профессионалу найти свой путь решения профессиональных задач. Человек ищет и то более, то менее успешно находит оптимальный способ деятельности, который лучше всего соответствует его природным данным и уже сложившимся у него формам поведения.
Речь идет не о знаниях и умениях, составляющих содержание профессиональной квалификации, а сначала о способах получения знаний и умений, а затем и о способах их применения в практической деятельности. Если начинающему трудовую деятельность не удается в его стихийном поиске найти такие способы, то формирование профессиональной пригодности затягивается и либо человек, продолжая заниматься своей профессией, останется навсегда ей чуждым, разобщенным с ней, либо будет вынужден оставить ее как профессионально непригодный. Однако это может быть не подлинная, а мнимая непригодность. Причины ее объясняются не каким-то неблагоприятным для профессии сочетанием психологических особенностей человека, а другими обстоятельствами.
Формирование пригодности часто протекает как субъективно трудный и противоречивый процесс, сопровождающийся подъемами и спадами, и на это есть много причин, не только психологических, но и социально-экономических. Как правило, профессии неоднородны по своей психофизиологической характеристике. Задачи, составляющие профессиональную деятельность, требуют мобилизации различных психологических функций, и для их успешного решения нужны различные индивидуальные особенности. Чем больше таких задач входит в профессиональную деятельность и чем они разнообразнее, тем труднее овладение профессией.
В процессе обучения это разнообразие задач, вводимых постепенно в деятельность учащегося, сказывается в том, что успешность овладения ими неодинакова.
В процессе обучения некоторые новые по своей психофизиологической сущности навыки не возникают, а появляются только в последующей практической деятельности в связи с ее специфическими чертами. Так, во многих профессиях успех работника определяется не одним уровнем специальной квалификации, но и умением установить нужные формы общения с другими участниками трудового процесса. Неумение наладить такое общение может резко снизить профессиональную успешность. В то же время сама по себе профессиональная деятельность и общение различны по своим психологическим предпосылкам, и пригодность к ним формируется по-разному.
Субъект остается самим собой во всех видах и формах деятельности. Если он не отыщет способов действий, соответствующих его индивидуальности в каждом виде деятельности, то ему грозит опасность остаться «ограниченно годным» профессионалом. Чтобы это избежать, ему нужно определить для себя лишь такой круг профессиональных задач, который ему близок по его психофизиологическим особенностям и их привычным проявлениям.
С этими обстоятельствами связана дифференциация заданий внутри профессии. Складываются рабочие посты, объединяющие группы производственных задач, близких по своим психофизиологическим характеристикам и отвечающих более резко выраженным сочетаниям индивидуальных особенностей.
И общество, и каждый трудящийся заинтересованы в том, чтобы происходило правильное распределение по таким рабочим постам. Как уже указывалось, в высококвалифицированных профессиях специалист иногда сам формирует для себя свой рабочий пост. Так, ученый сам определяет свои функции. Во многих профессиях выбор трудового поста зависит от непосредственного руководителя и начальника и, в частности, от его психологического такта, его умения разобраться в людях.
Е. А. Климов, первый систематически изучивший проявление основных свойств нервной системы в производственном труде (его работой руководил В. С. Мерлин), придавал большое значение совершенствованию обучения путем формирования индивидуального трудового стиля. Стихийный поиск своего стиля не всегда успешен. «По-видимому, – писал Е. А. Климов, – эти поиски далеко не всегда приводят к успеху. Об этом косвенно свидетельствует и то, что в течение всего периода сбора нашего материала процент “инертных” среди четырехстаночниц держался на заметно более низком уровне, чем среди трехстаночниц, где работа являлась относительно менее напряженной… Таким образом, в тех случаях, когда мы сознательно не вмешиваемся в дело производственного обучения с целью сформировать у каждого человека надлежащий стиль работы, мы вынуждены констатировать факт стихийного естественного отбора рабочих для многостаночного обслуживания. Очевидно, главная задача… психологии труда состоит не столько в профотборе, сколько в том, чтобы путем рационализации обучения устранить самый факт отбора» (Климов Е. А., 1960, с. 75).
Впоследствии В. С. Мерлин и Е. А. Климов признали, что в некоторых профессиях (по нашей терминологии, в профессиях «первого типа») остается необходимость отбора (Климов Е. А., Мерлин В. С., 1966).
Итак, речь должна идти о совершенствовании обучения. В этом направлении проведено несколько весьма плодотворных исследований под руководством Е. А. Климова и руководителя его первого исследования В. С. Мерлина.
Попробуем, хотя бы без детализации, представить себе круг вопросов, возникающих перед психологами, желающими вести исследования по совершенствованию обучения путем формирования индивидуального стиля трудовой деятельности. Сюда войдут решения таких задач: 1) установление в данной профессии таких заданий, которые могут выявить реальные различия между лицами (или группами лиц), имеющими индивидуальные, присущие им особенности в сочетании свойств нервной системы; 2) выявление того, как эти различия обнаруживаются на разных по своим психофизиологическим характеристикам профессиональных заданиях в различных производственных условиях; 3) нахождение путей обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 4) нахождение способов формирования индивидуального стиля (то, что сказано в этом пункте, не совпадает с тем, о чем шла речь в предыдущем пункте; там речь шла об усвоении учебного материала, а в данном пункте говорится о стиле профессиональной деятельности в целом); 5) решение, хотя бы в каком-то приближении, социально-психологической задачи; ориентировать начинающего профессионала и тех, от кого зависит его судьба, на подыскание рабочего поста (в рамках избранной им профессии), соответствующего его особенностям.
Судя по литературе, усилия исследователей концентрировались на решении первой и третьей задач, в меньшей степени – второй и четвертой; задача пятая как будто совсем не затрагивалась.
Все перечисленные здесь задачи, которые не исчерпывают, разумеется, всего круга возникающих здесь вопросов, взаимосвязаны и должны быть решены дифференциальной психологией. Изучение индивидуального стиля не может превратиться в сумму научных примеров и иллюстраций [4] .
В упоминавшихся выше работах главное внимание было уделено изучению и доказательству того, что испытуемые, распределенные по группам в зависимости от преобладания определенного свойства нервной системы, отличаются в своей учебно-производственной деятельности. Выводы Е. А. Климова о сложившихся профессиональных чертах ткачих-многостаночниц были подтверждены убедительными исследованиями многих авторов. Правда, за исключением Б. И. Якубчика, о котором придется сказать особо, они ограничивались изучением одного периода обучения. Если, что чаще всего бывало, испытуемых делили по подвижности, то и в их учебно-производственной деятельности обнаруживали различия, которые естественно и логично истолковывались как проявления присущих им особенностей по подвижности.
Эти авторы специально не разрабатывали методов формирования индивидуального стиля и не ставили вопрос о соответствии индивидуального стиля тому или другому рабочему посту.
В таких исследованиях групповых различий, как у М. Р. Щукина, В. М. Шадрина и М. Г. Субханкулова, вообще трудно ставить задачу по формированию индивидуального стиля, которое вряд ли можно вести по коллективному методу. Ведь обучающиеся объединяются психологом в группу по признаку одного какого-то свойства нервной системы, но совсем не исключено, как показано, например, у В. М. Шадрина, что по другим свойствам они могут отличаться.
При формировании стиля приходится считаться с некоторыми другими чертами обучающегося, выявляющими индивидуальность, – различиями по упрочившимся проявлениям свойств нервной системы, тренированностью, воспитанием и пр. Нужно провести в исследовании сложную работу для составления однородной группы, различающейся от другой столь же однородной группы только по одному лишь признаку. Формирование стиля в принципе должно протекать как индивидуальный процесс. Далее, те или иные проявления стиля неизбежно зависят от сущности профессиональных задач. Так, монотонная работа, если она составляет какую-то даже незначительную часть профессиональной деятельности, вызовет различные формы активности у субъектов с сильной и слабой нервной системой.
М. Р. Щукин и М. Г. Субханкулов изучали индивидуальные различия по подвижности нервных процессов в начальные периоды обучения. Нет причин сомневаться в том, что подвижность и ее жизненные проявления играют существенную роль в любой, а значит, и в учебно-профессиональной и спортивной деятельности индивида. Но функция этого свойства нервной системы состоит в том, что нервные процессы быстро уступают требованию новых внешних условий; по самому определению это свойство должно наиболее проявиться тогда, когда индивид приобщается к новой для него сфере деятельности.
Различия по подвижности нервных процессов должны, видимо, сказаться в том, что одним это приобщение дается легче, чем другим.
Нет нужды вспоминать, что при действии нового сложного комплекса раздражителей обнаруживается не только подвижность, но и сила нервной системы, а отчасти и баланс.
Но поскольку перечисленные авторы изучали группы, которые подбирались только по этим свойствам, постольку с известным допущением можно признать, что остальные свойства были элиминированы. Поэтому, признавая примерное равенство групп во всем, кроме различной подвижности, все же нельзя без специальных доказательств отказаться от того, что изучалась в большей степени реакция каждой из этих групп на «способность» быстро уступать требованию новых внешних условий, на быстрое или медленное приспособление к новому виду деятельности вообще, а не приспособления в отношении отдельных заданий.
А. И. Сухарева, выполнившая свое исследование под руководством автора этой книги, также подвергла изучению первоначальный этап учебной жизни в производственно-техническом училище у одной группы обучающихся токарной специальности. Ее интересовали природные особенности учащихся, играющие наиболее важную роль в первый период обучения.
1.5.2. Индивидуальные особенности учащихся в первом периоде учебно-трудовой деятельности
После всесторонних консультаций с мастером и педагогами А. И. Сухарева выбрала всего двух испытуемых, которые достаточно резко различались по некоторым особенностям поведения, но имели одинаковое образование, возраст, профессиональную и учебную направленность. Эти молодые люди оба окончили неполную среднюю школу, оба по своему желанию избрали и свою будущую специальность, и училище.
Ограничимся несколькими наблюдениями, характеризующими одного из юношей: «Он порывист, весел и задирист… Общительный и приветливый. Василий держится очень свободно, не скованно, но и не развязно… Он не теряется в присутствии посторонних…» и т. д. (Сухарева А. И., 1967, с. 199).
Другого юношу, Виталия, А. И. Сухарева описывает так: он сдержан, может быть, даже заторможен, теряется в непривычной и новой обстановке, не уверен в себе, когда начинает что-то новое. Другое дело, когда он занят чем-то хорошо ему знакомым; тогда в нем проявляются и решительность, и уверенность, и четкость (там же, с. 199–200).
Оба юноши прошли обследование в лаборатории психофизиологии. По пробам, диагностирующим силу нервных процессов, сколько-нибудь заметных различий между обоими испытуемыми обнаружено не было. В пределах используемых методик Василий и Виталий не отличались по этому свойству друг от друга. Следовательно, у А. И. Сухаревой не было оснований считать, что испытуемые в своем поведении обнаруживают различную силу нервной системы. Пробы на баланс показали, что Виталий несколько менее уравновешен, чем Василий, но статистически эта разница между ними оказалась несущественной.
Отчетливые различия дали экспериментальные данные по лабильности нервных процессов. Для статистической обработки результатов лабораторных проб по каждой из них было получено по 20–23 испытания. Такое число позволяло по каждой отдельной пробе сравнивать данные обоих испытуемых с применением критерия различия Стьюдента – Фишера.
Три методики, неоднократно апробированные в исследованиях лаборатории психофизиологии, дали совпадающие результаты. Василий отличается относительно высокой, а Виталий – относительно низкой лабильностью. Затем А. И. Сухарева решила попытаться установить особенности испытуемых непосредственно в их учебно-производственной работе. Здесь были известные трудности. Прежде всего, чтобы сравнивать по какому-то одному признаку учащихся, нужно, чтобы они работали в примерно равных условиях. По договоренности с мастером и учебной частью каждый из учащихся должен был выполнить на одном и том же станке и с одним набором инструментов 30 определенных деталей. Исследовательница хронометрировала весь рабочий процесс, вела записи о характерных особенностях поведения того и другого испытуемого. Главная трудность заключалась в том, чтобы, несмотря на различия по психофизиологическим показателям, найти объективный производственный критерий, который отчетливо показал бы отличие одного из них от другого, то есть выступил в качестве критерия валидности. В каких элементах, сторонах производственной деятельности нужно искать этот критерий?
Рассматривая данные своего хронометража, А. И. Сухарева обратила внимание на то, что у одного испытуемого – Виталия – время на изготовление одной детали хотя и колеблется, но отклонения невелики. Время изготовления детали у другого испытуемого – Василия – колеблется весьма резко, что особенно очевидно на графике.
Обнаружив этот факт, А. И. Сухарева попыталась найти математический прием, обнаруживающий разницу между исполнением производственной пробы тем и другим испытуемым. Была применена формула, которая в данном случае хорошо выражает зависимость между порядковым номером детали (ось абсцисс) и временем ее изготовления на станке (ось ординат). Это формула параболы второго порядка:
у = а + Ьх + сх2.
Рассматривая полученный отрезок параболы как среднюю, выражающую тенденцию всех эмпирически полученных точек, можно определить дисперсию – степень рассеяния точек относительно этой средней. Отношение дисперсий можно оценить по способу Фишера и дать статистическую оценку его вероятности. После соответствующих вычислений разница между дисперсиями кривых испытуемых Василия и Виталия оказалась значимой на уровне р < 0,01; другими словами, рассеяние точек раскрывает существенное различие между испытуемыми на первом этапе обучения.
Можно отметить, что между ними есть еще одно отличие: график работы Виталия свидетельствует о несколько более продолжительном процессе постепенного уменьшения времени на изготовление одной детали. Очевидно, эта особенность может быть истолкована как более длительный период втягивания в работу. Но для этого не удалось найти адекватного формального критерия.
Все эти факты дали основание А. И. Сухаревой утверждать, что в первом периоде обучения отчетливо обнаруживается различие между испытуемыми, имеющими противоположные психофизиологические характеристики по лабильности, что именно лабильность потребует специального внимания для формирования индивидуального трудового стиля.
Мастер совместно с психологом разработали список рекомендаций, например таких: Василию добиваться четкого постоянства движений (поскольку скачки во времени при изготовлении деталей были связаны с постоянным изменением приемов), анализировать ошибки, начинать работу небольшими темпами с постепенным последующим увеличением и т. п.; Виталию, учитывая длительный период разминки, приступать к работе несколько ранее остальных. Мастер имел в виду также, что Василий предпочитает мелкие партии деталей с переключением с одной работы на другую, а Виталий – большие партии, чтобы переключений не было.
Через три с половиной месяца оба испытуемых прошли через вторую производственную пробу. Как и в первом случае, каждый из них должен был изготовить по 30 штук деталей, работая с одним и тем же инструментом и на одном и том же станке. Также проводились хронометраж и психологические наблюдения.
Результаты изучения показали, что произошло сглаживание различий между испытуемыми. Вся математико-статистическая обработка велась теми же приемами, что и в первый раз. Кривые работы второй пробы утратили те специфические черты отличия, которые были присущи первым. Испытуемые словно утратили свои характерные особенности.
Так, у Василия значительный скачок во времени наблюдается лишь в одном случае – на изготовлении пятой детали; в остальном его график показывает почти непрерывное уменьшение времени, требуемого на изготовление изделия. В графике к концу работы (примерно с двадцатого изделия) темп работы постепенно уменьшался, видимо, сказывалось утомление. Во второй пробе такого явления практически не наблюдалось. А главное – осцилляции вокруг средней стали гораздо меньшими.
У Виталия же теперь не было заметно того длительного периода втягивания в работу, который отмечался при исполнении первой пробы. К тому же и колебания времени у него как были, так и остались небольшими. Некоторое различие между испытуемыми теперь обозначилось в другом – в крутизне падения кривой. Однако для того, чтобы отнести этот признак к числу проявлений лабильности, не было оснований.
Быть может, следовало бы объяснить изменения кривой работы воспитательными воздействиями мастера под руководством психолога. Но этому соблазну нельзя было поддаваться. Между пробами прошел небольшой срок (примерно три месяца), мастер успел осуществить далеко не все из того, что было задумано. Воспитательные воздействия требуют большей систематичности, чем удалось достигнуть. Воздавая должное воспитательной работе, нельзя, однако, приписывать ей все, что произошло за этот период. Причины изменений, по-видимому, в том, что оба мальчика привыкли к своей новой учебной деятельности. Самостоятельное изготовление деталей на станке стало более или менее привычным делом.
Поэтому те резкие перепады времени, которые отличали мальчиков, постепенно исчезли: оба стали работать спокойнее. Правда, обозначилось новое различие – по крутизне падения кривой, но его вряд ли можно интерпретировать как проявление лабильности.
Виталия и Василия можно сравнить с чувствительными индикаторами, отразившими реакцию на новое. По их работе видно, что тот признак, по которому в первый период обучения они резко различались, со временем утратил свое значение. Нужно было искать различия, соотносимые с тем или другим свойством нервной системы, но в каких-то новых производственных моментах. В этом направлении и развивалось дальше исследование А. И. Сухаревой.
В своей последующей работе в профессионально-техническом училище она применила тот же методический прием – предлагались одинаковые производственные пробы-задания, и из этого процесса нужно было вычленить объективные индивидуальные показатели. Эти последние сопоставлялись впоследствии с данными психофизиологического обследования.
Следовательно, А. И. Сухарева использовала методический опыт Крепелина и его школы по анализу кривой работы или кривой производительности (Кгаеpelin Е., 1895). Однако вместо гипотетических и субъективно выделенных Крепелином компонентов она пыталась найти объективные факторы, поддающиеся обоснованному вычленению.
В той части работы, где исследовались кривые производительности учащихся Василия и Виталия, было установлено, что в качестве показателя, сопоставимого с психофизиологическими данными, можно было считать динамику изготовления детали во времени. Эти пробы относились к начальному периоду обучения мальчиков. Учащиеся должны были выполнить постепенно усложняющиеся пробы, отражающие соответствующую ступень овладения навыками. Но как сравнивать компоненты кривой работы, например, первого и четвертого изделия, учитывая разный процесс их изготовления? В кривых отражается не только индивидуальность обучающегося, но и специфика изделия. В зависимости от состава операций по-разному должны были идти процессы упражнения и утомления. После консультации со специалистами – педагогами училища – были разработаны пробы с двумя повторяющимися операциями – протачиванием и сверлением.
Время их выполнения по каждой детали и решено было учитывать для построения кривых работы.
В течение двух лет психолог всесторонне изучал группу из девяти человек. Подбирая участников этой группы, А. И. Сухарева принимала во внимание все те данные, которые могли бы как-то сказаться на особенностях их учебно-трудовой деятельности, чтобы уравнять учащихся во всем, кроме различий по их природным особенностям. Все эти учащиеся имели одинаковое образование (восемь классов), все они успешно усваивали теоретический курс, все они пошли учиться по своему желанию и сами выбрали специальность и училище.
Так были сняты наиболее резкие влияния различной подготовки и мотивации.
За два года с каждым учащимся были проведены по четыре производственные пробы, одинаковые со всеми. Для уравнивания условий А. И. Сухарева сумела обеспечить выполнение заданий на одном и том же станке, с одним и тем же инструктажем, с одинаковым набором инструментов. По заданию каждый должен был изготовить 15 деталей определенного вида, на что требовался примерно целый учебный день – 4 часа. Сама А. И. Сухарева вела наблюдение и хронометраж. Это был естественный эксперимент со всеми его признаками. Большего приближения к лабораторным условиям достигнуть не удалось.
Рассмотрение полученных данных привело исследовательницу к выводу, что показатель, относящийся к предыдущему этапу исследования, в данном случае не выявляется. Это могло быть обусловлено случайным подбором испытуемых, спецификой заданий или, наконец, тем, что через определенное время индивидуальные различия по лабильности уже не сказываются столь непосредственно на производственной деятельности. Но это отнюдь не означает, что графики работы испытуемых были сходны между собой. Они отличались и по времени, затрачиваемому на операцию, и по общей динамике производительности в течение рабочего дня.
А. И. Сухарева применила для описания полученных кривых работы уравнение прямой (у = а + Ьх). Свободный член и коэффициент рассматриваются ею как компоненты кривой работы.
Следует отметить, что в работах крепелиновской школы вопрос о надежности не ставился; проблема надежности была не разработана, а кроме того, кривые работы не рассматривались в качестве индивидуальных характеристик. В литературе не встречается материалов о надежности кривых работы или их отдельных компонентов. А. И. Сухарева, чтобы установить надежность выделенных ею компонентов, высчитала надлежащие коэффициенты корреляции.
Кривые работы первых двух производственных проб не дали сколько-нибудь существенных корреляций. Это, вероятно, можно объяснить тем, что у учащихся еще недостаточно были отработаны производственные навыки; кривая работы в этот период обучения складывалась в значительной степени под случайными влияниями (внезапно возникшие затруднения в работе на станке, ошибочные измерения, неточное понимание чертежа или инструкции и т. п.). Но постепенно роль подобных моментов, по-видимому, уменьшалась: кривые третьей и четвертой производственных проб стали конструироваться главным образом под воздействием индивидуальных черт учащихся. Как это отразилось на коэффициентах корреляций? Для своих корреляций (по третьей и четвертой производственным пробам) А. И. Сухарева располагала четырьмя значениями а и таким же числом значений Ь, в каждом случае – два по операции сверления и два по операции протачивания.
Были получены следующие данные: свободный член а из кривой работы операции протачивания по третьей производственной пробе никаких корреляций не дал. Во всех остальных случаях компонент а обнаружил положительную связь в разных операциях и пробах – от +0,45 до +0,71. Другой компонент – коэффициент b – в кривых третьей производственной пробы не показал положительной корреляции по операциям сверления и протачивания. В остальных случаях были получены существенные корреляции от +0,68 до +0,90.
При испытании надежности в тестах пользуются поправкой Спирмена, которая повышает коэффициент корреляции. Но А. И. Сухарева к этой поправке не прибегала, коэффициенты даются, как они получены в результате вычислений.
Даже приняв во внимание, что корреляции высчитывались на небольшой группе, следует признать, что компоненты кривой работы, представленные в исследовании А. И. Сухаревой, обладают определенной степенью надежности. Как видно, с ростом квалификации и с отработкой навыков надежность повышается. Иными словами, влияние индивидуальности повышается по мере упрочения навыков.
Этот факт может показаться неожиданным и как бы противоречащим повседневным наблюдениям. Естественнее было бы ожидать, что по мере упрочения навыков индивидуальные особенности учебно-трудовой деятельности будут сглаживаться. Все дело, очевидно, в том, какие стороны этой деятельности нас интересуют. С упрочением навыков, несомненно, сглаживаются различия по производительности. Но что касается способов деятельности, динамической ее стороны, то с упрочением навыков индивидуальные различия не только не сглаживаются, наоборот, они становятся все более резкими, нужно только найти методику для их обнаружения. Анализ кривой работы дал возможность выделить компоненты, выражающие не ее результат, а ее внутреннюю динамическую сторону, связанную с личными особенностями каждого учащегося.