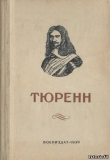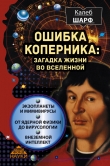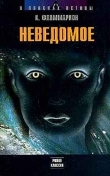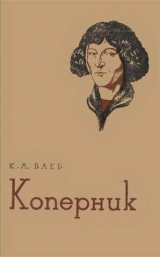
Текст книги "Коперник"
Автор книги: Константин Баев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
В следующей главе той же первой книги Коперник рассматривает вопрос о бесконечности вселенной. Этот вопрос, как мы сейчас увидим, также связан для Коперника с вопросом о движении Земли. Коперник желает доказать, что небесная сфера имеет бесконечно большие размеры по сравнению с нашей Землей. Это доказывается следующими соображениями: на поверхности Земли повсеместно горизонт делит небесный свод на две равные части. Отсюда можно заключить, – говорит Коперник, – что Земля есть точка по сравнению с небесным сводом и что эта точка может находиться «недалеко» от его «центра»
Обратим внимание на то, что для Птолемея тот факт, что горизонт разделяет небесный свод на равные части, служил одним из средств для доказательства неподвижности Земли. Коперник, таким образом, опровергает доказательство Птолемея.
Вышеуказанный факт, по его мнению, находит себе полное объяснение в малости самой Земли и ее орбиты по сравнению с вселенной. Замечательно и то, что аргументация Коперника чрезвычайно близка к рассуждениям Аристарха Самосского, защищавшего гелиоцентрическую систему в древности. Читатель, может быть, обратил внимание на то, что даже слова, которыми пользуется Коперник, совпадают со словами Аристарха (сравнение Земли с точкой).
Итак, Коперник считает, что звездная сфера «бесконечна» по сравнению с размерами Земли и ее орбиты.
Это служит для Коперника новым аргументом в пользу движения Земли: «Если справедливо, что небесная сфера бесконечна, то как понимать, что она совершает свой оборот в 24 часа? Не естественнее ли предполагать, что движение это принадлежит Земле и только ей одной? Иначе, если бы она вращалась вместе с небесной сферой, но несколько медленнее, чем последняя (по причине меньшего объема Земли), то мы не замечали бы ни малейшего изменения в положении светил на небесном своде: солнце и звезды относительно наблюдателя казались бы постоянно на одном и том же угловом расстоянии от меридиана. Поэтому естественно предполагать, что Земля обращается вокруг своей оси, а что небесная сфера неподвижна».
Так, подходя к вопросу с различных сторон, Коперник показывает, что в пользу движения Земли свидетельствует целый ряд явлений природы. Но, как мы знаем, Птолемей собрал в своем труде немало фактов, которые, как он полагал, совершенно исключают возможность движения Земли. Чтобы придать своей теории полную убедительность, Коперник должен был систематически разобрать аргументы Птолемея и Аристотеля. Это он и делает в главах седьмой и восьмой первой книги. Эти главы представляют собой, таким образом, наибольший интерес; в них революционное значение труда Коперника находит себе наиболее яркое выражение. Коперник сначала резюмирует точку зрения Аристотеля. Последний в своих физических и механических выводах исходил из такого положения (формулировку его мы берем у Коперника): «Земле и воде, – говорит Аристотель, – как телам более тяжелым, подобает стремиться вниз и занимать срединное место; воздух же и огонь, как тела легчайшие, должны находиться сверху и стремиться от средины вверх». Это положение служит основным и для Птолемея; исходя из него, Птолемей отрицает возможность вращательного движения Земли. Свою полемику с Птолемеем Коперник начинает с изложения доводов Птолемея: «Если бы Земля обращалась около своей оси, – говорит Птолемей, – то мы бы видели явление, обратное предыдущему (т. е. обратное тому, что устанавливает Аристотель); Земля распалась бы на части, ибо что могло бы противостоять страшной скорости ее вращения? Кроме того, ни одно тело, брошенное вверх, не упало бы на прежнее место по перпендикуляру; облака и все носящееся в воздухе казалось бы нам унесенным с востока к западу».
Мы уже имели случай указать, что этот довод Птолемея в эпоху Коперника, когда закон инерции не был еще известен, обладал очень большой убедительностью. Тем интереснее посмотреть, как отводит этот довод Коперник. В его рассуждениях мы, конечно, не встретим ссылки на закон инерции, но в них мы увидим одно из первых предвосхищений этого закона. Мы отметим ниже соответствующее место у Коперника. Но прежде чем возразить Птолемею по существу, Коперник разбивает доводы Птолемея его же оружием. При этом он опирается на понятия «естественного» и «насильственного» движения, различие которых характерно для физики Аристотеля. Это различие было общепринятым и в схоластической науке. Падение тела на Землю есть, по Аристотелю, движение «естественное», ибо совершается без «внешней» причины. Полет же тела кверху есть движение «насильственное», ибо «само собой» тело кверху двигаться неспособно. От этих понятий не отказался еще и Коперник, но они в его руках не подкрепляют, а, напротив, разбивают учение Птолемея.
«Если мы допустим, – говорит Коперник, – вращение Земли около оси, то мы должны также допустить, что движение это есть не насильственное, а естественное. Все принужденное, насильственное, вызванное посторонними причинами, может разрываться, разложиться; все же естественное сохраняет неизменно свой первоначальный вид. Поэтому опасение Птолемея относительно разрыва Земли и рассеяния ее в пространстве напрасно. Если действительно это может воспоследовать от вращения Земли, то тем более это могло случиться вследствие суточного вращения небесной сферы, скорость которого, по причине громадного расстояния этой сферы от Земли, должна бы быть неизмеримо больше, чем скорость вращения Земли… Неоспоримо, что Земля имеет вид шара: движение подобает этой форме; почему же нам не допустить этого движения, не заботясь о том, чего мы знать не можем?.. Люди, находящиеся на корабле, приписывают его движение внешним предметам; то же самое бывает и с нами: небо кажется нам вращающимся потому, что в действительности вращается Земля». Для вящшей убедительности Коперник цитирует стих римского поэта Виргилия:
«Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt,
«Мы удаляемся из гавани, и земли и города отступают назад».
Итак, один из сильнейших доводов Птолемея Коперник отводит с помощью «доказательства от противного». Он сознается, что объяснить,почему тяжелые тела не отрываются от Земли, он не может (мы выше указывали, что здесь нужно было бы принять во внимание силу притяжения Земли). Но зачем нам заботиться о том, «чего мы знать не можем», если аргумент, выставленный Птолемеем против движения Земли, с еще большей силой ударяет по его же, птолемеевой, теории. Так Коперник парирует одно из доказательств Птолемея, чтобы теперь перейти к разбору другого, не менее значительного.
«Что же сказать теперь об облаках и о всех телах, носящихся в воздухе, если не то, что они тоже участвуют в движении Земли? Движение это – общее всей атмосфере или, по крайней мере, ближайшей к Земле части ее; эта часть, прикасаясь к суше и воде, следует тому же движению, как и вся Земля, постоянно прикасаясь к ней и не будучи ничем удерживаема».
Далее Коперник ставит естественно возникающий вопрос: участвуют ли во вращении Земли и верхние слои атмосферы? Его ответ на этот вопрос гласит:
«Хотя казалось бы, что и верхние части атмосферы также участвуют в этом движении, подобно тому, как и кометы участвуют в суточном движении Земли, но по причине значительного расстояния от Земли верхняя часть атмосферы может быть принимаема неподвижною». Эти слова требуют некоторых пояснений. Читатели, вероятно, будут недоумевать, почему Коперник сопоставляет высшие слои атмосферы с кометами? Да потому, что, согласно Аристотелю, и сияние Млечного Пути, и кометы – явления атмосферные, происходящие где-то в высших слоях нашей земной атмосферы. Мы видим, как переплетаются элементы истины и заблуждения в рассуждениях Коперника, который далеко еще не свободен от ошибочных взглядов своей эпохи. Тем более грандиозной должна представляться нам совершенная Коперником работа, ибо трудности, стоявшие на ее путях, были гораздо более велики, чем может показаться человеку, воспитанному на современных представлениях, в создании которых Копернику принадлежит почетнейшая роль.
Наконец, Коперник рассматривает самый, пожалуй, сильный аргумент Птолемея. Птолемей, как мы помним, утверждал, что вращение Земли должно было бы повлечь за собой отклонение брошенных кверху тел, т. е. что тело, брошенное кверху, упало бы к западу от того места, из которого оно брошено.
Коперник возражает на это следующим образом:
«Что же касается тел, падающих и подымающихся вверх, то их движение, как мы предполагаем, должно быть (что следует из сравнения с мировыми движениями) двойным и, вообще говоря, составным – из прямолинейного и кругового движения. Так как они благодаря своей тяжести падают вниз, то, составляя как бы часть Земли, они, без сомнения, сохраняют ту же природу движения, как и то целое, частями которого они являются».
В этом месте Коперник подходит очень близко к закону инерции, хотя ему и не удается его сформулировать. Действительно, то второе движение (по Копернику – круговое, а на самом деле прямолинейное), которым обладают падающие тела, помимо их отвесного спуска, есть именно движение по инерции.Тело, отделившись от Земли, сохраняетскорость, которую оно имело на поверхности Земли благодаря движению последней.
Самый факт сохраненияскорости Коперником явно указывается; он только не усматривает в этом проявления общего закона инерции, а ссылается на то, что брошенное тело «составляет как бы часть Земли». Отсюда и вытекает ошибочное представление, что «второе» движение является круговым, а не прямолинейным. Но если Коперник и прошел мимо закона инерции, то он прошел так близко от него, что в ходе дальнейших исследований этот закон уже не мог быть обойденным.
Следующая, девятая, глава первой книги посвящена обсуждению такого вопроса: одарена ли Земля несколькими движениями? «Раз ничто не препятствует нам, – говорит Коперник, – допускать подвижность Земли, то следует рассмотреть, приличествует ли ей несколько движений и может ли она быть рассматриваема как одно из блуждающих светил (планет)». Вот, наконец, второе кардинальное положение коперникова учения, положение, которое совершенно видоизменяет все прежние взгляды на вселенную. Оно сразу дает, – как выражается Энгельс, – «отставку теологии», так как снижает Землю до степени маленькой, заурядной планеты!
Дальнейшие рассуждения Коперника замечательны и поучительны. Он ведет их следующим образом: «Что Земля не есть центр орбит последних (т. е. планет), доказывают нам видимые неравенства планетных движений и различие расстояний каждой планеты от Земли в разное время. Планеты не движутся по орбитам, имеющим один и тот же центр. Если же существуют разные центры, то можно сомневаться – совпадает ли центр мира с центром Земли или с центром тяжести ее. Повидимому, тяжесть есть не что иное, как естественное стремление, которым творец вселенной одарил все частицы, а именно – соединяться в одно общее целое, образуя тела шаровидной формы. Вероятно также и то, что Солнце, Луна и прочие планеты одарены таким же свойством, благодаря чему и сохраняют шаровидную свою форму, а тем не менее тела эти совершают же свои обращения по различным орбитам».
Если вдуматься в эти слова Коперника, то нам станет ясно, как близко подошел он к тому, что составляет неотъемлемую славу Ньютона, – к учению о тяготении или притяжении частиц материи. В самом деле, согласно Копернику тяжесть есть всеобщее свойство материи; он ясно говорит о том, что это свойство «простирается» до Луны, Солнца и всех планет; что только благодаря этому свойству тела стремятся принять форму шара и сохранять ее. «Исходя из этой мысли, столь же великой, сколь и совершенно новой, – говорит один из биографов Коперника Снядецкий, – оставалось сделать лишь один шаг, который и доставил бессмертие Ньютону». Но шага этого, добавим мы, Коперник еще не мог сделать, так как в его время динамика еще не сделала и первых своих шагов.
Самая замечательная глава первой книги – десятая, где сформулировано все его великое учение в окончательном виде. Но и в конце девятой книги Коперник уже подготовляет читателей к восприятию его новых гениальных идей. Он говорит: «Если же Земля имеет движение вокруг центра (т. е. вокруг центра мира), то движение это будет похоже на движение, замечаемое нами в других телах. Мы получим, таким образом, годичное вращение, и движение Солнца заменится движением Земли. Если принять Солнце за неподвижное, то восход и заход светил и все остальные явления останутся теми же; прямые и попятные движения планет будут в зависимости от движения Земли, и Солнце будет находиться в центре мира, что мы и усматриваем из гармонии мироздания, если только, как выражаются, рассмотрим это дело обоими глазами» (т. е. вполне серьезно).
В десятой главе первой книги своего гениального труда, носящей заглавие «Об обращениях небесных кругов», Коперник завершает предшествующие свои рассуждения построением картины строения «вселенной», т. е. солнечной системы. Эту глазу мы помещаем полностью в приложении.
Читатель нашей книги, ознакомившийся с этой главой, увидит, конечно, как Коперник старается убедить всякого, приступающего к изучению его объемистого трактата, в правильности своей новой системы мира. С этой точки зрения вся десятая глава первой книги его фундаментального труда является своего рода агитационной главой, сравнительно популярно написанной. Автор нарочито цитирует древнегреческих и арабских астрономов. Коперник, несомненно, нарочно мобилизует в десятой главе весь арсенал своей колоссальной эрудиции, чтобы читатели его труда поняли, что его гелиоцентрическая система не есть легкомысленная или только удобная гипотеза, как выставлял ее Осиандр, а является единственной теорией, способной вывести науку из тех затруднений, которых не преодолели великие предшественники Коперника.
В десятой главе первой книги своего труда Коперник сразу смещает Землю с ее центральной мировой позиции; он в центре мира ставит Солнце, а Землю превращает в шаровидное тело, двигающееся вокруг «светоча мира – Солнца». Это нарушение вековых традиций было уже подлинно революционным актом, подлинной революцией в астрономии.
Однако, и последняя, одиннадцатая, глава первой книги «Об обращениях» имела громадное культурно-историческое, а в то далекое от нас время и революционное значение. Она озаглавлена: «Доказательство троякого движения Земли». В ней Коперник очень подробно рассматривает влияние годичного движения на долготу дня и на смену времен года. Свои рассуждения он иллюстрирует двумя чертежами, которые теперь вошли во все школьные учебники физической географии и начальной астрономии.

Коперник объясняет смену времен года тем, что земная ось все время движется параллельно самой себе в пространстве, т. е. сохраняет один и тот же наклон в течение всего годичного обращения Земли вокруг Солнца. Это объяснение впервые предложено было Коперником. Этим он оказал громадную услугу не только астрономии, но и физической географии, метеорологии и геофизике.
В той же главе Коперник точно поясняет, какие движения Земли он допускает. Первое из этих движений есть вращательное (вокруг оси); оно совершается, – говорит Коперник, – с запада на восток и служит причиной дня и ночи. Второе движение – годовое; оно, – поясняет Коперник, – принадлежит центру Земли и совершается тоже с запада на восток.
Казалось бы, что этих двух движений уже достаточно для полного объяснения основных астрономических фактов. Однако, Коперник вводит еще третье движение. Как мы видели, для объяснения времен года Коперник принимает, что земная ось при движении Земли перемещается параллельно самой себе.
Для нас эта неизменность направления земной оси не требует участия никаких новых сил. Для Коперника же, которому законы движения тел были, как мы не раз указывали, неизвестны, это было не так: сама ось в своем «естественном» движении должна была описывать, вращаясь вокруг Солнца, коническую поверхность. Чтобы объяснить сохранение направления земной оси, Коперник и вводил «третье» движение, «компенсирующее» уклонение оси от ее первоначального направления.
Мы не будем, конечно, излагать содержания всего огромного труда Коперника, да это и не нужно, так как читателям стали уже ясны отличия системы Коперника от прежних геоцентрических систем Пифагора, Евдокса, Аристотеля и Птолемея. Но о некоторых результатах, полученных Коперником в его гениальном труде, мы все же скажем, и даже с некоторыми подробностями, имеющими весьма важное значение.
Прежде всего мы напомним читателям, что Коперник сохранил эпициклы старой теории Птолемея и эксцентрики Гиппарха. На рисунке дано изображение плана солнечной системы по Копернику (из первого издания «De Revolutionibus»). Но на этом рисунке, фигурирующем теперь неизменно во всех учебниках и популярных книгах по астрономии, эпициклы не изображены. Распространено заблуждение, что Коперник в своей книге отбросил все эпициклы прежних теорий. Это, однако, неверно: чтобы читатели хорошо себе уяснили указанное обстоятельство, мы даем здесь рисунок, поясняющий движение Земли вокруг Солнца в системе Коперника.

На этом рисунке в точке Sнаходится Солнце; вокруг него по кругу с запада на восток обращается точка Апримерно в 53000 лет, в то время как точка В– центр орбиты Земли Т,обращающейся по кругу с радиусом, равным ВТ,– в свою очередь двигается по кругу 1234вокруг точки A, но в противоположном направлении (как и указано стрелкой), совершая полный оборот в 3434 года. Таким образом, Солнце у Коперника стоит не в центре круговой орбиты Земли, а «сбоку» от этого центра.
Подобные же построения Коперник применяет и для других планет. Они были ему необходимы для того, чтобы объяснить сравнительно небольшие расхождения между данными наблюдении и теми результатами, которые могла дать общая теория Коперника, не осложненная добавочными кругами. Дело в том, что Коперник искал орбиту Земли в виде некоторого круга. На самом же деле, как мы знаем после работ Кеплера, орбиты Земли и других планет являются не круговыми, а эллиптическими. Правда, эллипсы эти мало отличаются от окружностей, но все же это отличие сказывается на характере видимого движения планет. Вот почему Коперник не мог ограничиться введением для каждой планеты одногокругового движения. Можно поставить вопрос, почему он не пошел по тому же пути, по которому, спустя более полувека, пошел Кеплер. На это нужно ответить прежде всего, что и Кеплер не сразу пришел к мысли заменить кривую орбиту эллиптической, а в течение многих лет старался освободиться от «лишних» движений, пользуясь теми же средствами, которыми пользовался и Коперник. Далее нужно принять во внимание, что отказаться от кругового характера движения еще вовсе недостаточно, чтобы притти к заключению, что орбита должна быть именно эллипсом, а не какой-нибудь другой кривой линией. Наконец, даже если бы такая мысль и возникла, то для подтверждения ее нужно было бы располагать таким материалом наблюдений, которого еще не было в эпоху Коперника; не забудем, что Кеплер опирался в своих поисках законов движения планет на превосходные новые наблюдения своего предшественника Тихо Браге.
Мы видим, таким образом, что Коперник был вынужден осложнять свою теорию введением эпициклов. Мы видим вместе с тем, как велика должна была быть уверенность Коперника в правильности его теории, если он не остановился перед тем, чтобы ввести в нее осложняющие моменты, которые, несомненно, свидетельствовали о наличии каких-то дефектов в самой теории.
Однако, как ни усложнялась теория Коперника введением добавочных движений, о которых мы говорили, она была все же значительно проще теории Птолемея. Действительно, теперь отпадали главные птолемеевские эпициклы, которые служили для объяснения основных движений планет. Все эти эпициклы сделались ненужными благодаря введению земной орбиты.
Но более того, приняв эпициклы Птолемея из его системы мира, Коперник использовал их так, как не сумел использовать сам Птолемей. Именно с помощью их он сделал попытку определить соотношение между расстояниями различных планет до Солнца и, следовательно, до Земли. До Коперника имели место только гадания по этому вопросу. Коперник же впервые стал здесь на почву научных методов. Его основная мысль гениально проста: раз смещение планет вызывается движением Земли вокруг Солнца, то различие в размерах этих смещений должно обусловливаться различием в расстояниях планет от Солнца. Отсюда решение вопроса о том, как велики эти расстояния по отношению к диаметру земной орбиты (который является, очевидно, максимальным пределом смещения Земли), сводится к решению чисто геометрической задачи; исходными данными этой задачи являются при этом именно размеры птолемеевых эпициклов:
Этим поистине гениальным приемом Коперник смог впервые в истории астрономии определить расстояния планет от Солнца; он получил:
Расстояние планеты до Солнца (в радиусах земной орбиты) / Современные значения для сравнения
Меркурий 0,3763 0,3871
Венера 0,7193 0,7233
Земля 1,0000 1,0000
Марс 1,5198 1,5237
Юпитер 5,2192 5,2028
Сатурн 9,1743 9,5389
Расстояние Земли от Солнца Коперник принимает равным 1142 земным радиусам, т. е. делает весьма грубую ошибку: истинная величина этого расстояния равна 23440 радиусам Земли (или 149504000 километрам). Эта ошибка проистекала от недостаточно хороших приемов измерений у Коперника: для определения радиуса земной орбиты нужны более тонкие измерения. Несмотря, однако, на указанный пробел, результаты Коперника поистине замечательны.
Действительно, Птолемей прямо сознается, что вопрос о взаимном расположении планет в своей системе он оставляет открытым, ибо, – говорит Птолемей, – «ни одна планета не обнаруживает ощутительного параллакса, по которому единственно только и возможно определить ее удаленность». Эта задача об определении планетных расстояний, перед которой признал свое бессилие Птолемей, была блестяще и гениально разрешена Коперником. Это, пожалуй, являлось наиболее убедительным, хотя и косвенным доводом того, что гелиоцентрическая точка зрения правильна, и в этом громадная заслуга Коперника перед наукой.
Мы изложили в основных чертах содержание книги Коперника, и читатель имел возможность сам судить, насколько велик был тот сдвиг, который произвела книга «Об обращениях небесных кругов». Мы говорили еще раньше, что и на современников книга Коперника произвела большое впечатление. Одни стали горячими сторонниками гелиоцентрической системы, другие – ее заклятыми врагами.
После смерти Коперника борьба между сторонниками старого и нового мировоззрения стала все более и более разгораться, причем позиции заинтересованных сторон, в частности церквей – католической и лютеранской, с течением времени не оставались неизменными. Проследим же вкратце основные этапы этой борьбы. Еще при жизни Коперника Лютер высказался резко отрицательно по поводу его теории, а в 1549 году на «еретическую» книгу обрушился «учитель Германии» Меланхтон в своем сочинении «Начала физики». Меланхтон объявляет себя ярым сторонником Птолемея и считает вредным и неприличным «столь безумное учение», которое, как он торжественно показывает, явно противоречит всем цитируемым им библейским текстам и, по его мнению, идет в разрез с началами физики. «Глаза, – пишет Меланхтон, – убеждают нас в том, что свод небесный вращается вокруг нас в 24 часа. Но некоторые, вероятно следуя страсти к новизне или желая показать свою гениальность, проповедуют учение о движении Земли. По их мнению, ни Солнце, ни восьмая сфера [11]11
Восьмая сфера – та, к которой считались как бы «прикрепленными» звезды.
[Закрыть]не движутся; а между тем они же остальным сферам придают движение, а также причисляют Землю к звездам. Эти пустяки, впрочем, выдуманы не недавно, ибо в сочинении Архимеда («Об исчислении песчинок») в предисловии говорится, что Аристарх Самосский придумал парадоксальное учение, будто бы Солнце стоит неподвижно, Земля же обращается вокруг него. Хотя остроумные писатели придумали многое для показания своего гения, но публичное подтверждение бессмысленных теорий неприлично и показывает вредный пример».
И это писалось в учебнике физики для университетов! Далее Меланхтон много говорит о необходимости согласовать философию (т. е. естествознание) со «священным писанием», указывая, что тексты последнего несовместимы с учением о движении Земли (приводятся несколько псалмов), равно как и физика (приводятся аргументы физики Аристотеля – Птолемея).
«Подкрепляемые сими божественными доказательствами, – пишет Меланхтон, – будем придерживаться истины и не дадим отклонять себя от нее морочением тех, которые особенное доказательство своего остроумия видят в том, чтобы вводить в науку заблуждения». На вопрос: «Каково движение мира?» Мелакхтон в своей физике отвечает: «Глаза свидетели, что небо обращается в течение 24 часов».
Против аргументации «учителя Германии», очевидно, бессильны были все остроумие и все доказательства Коперника! Устами Меланхтона, как и устами Лютера, лютеранская церковь предавала анафеме новое учение.
А между тем колоссальное значение нового учения для астрономии выяснилось в очень скором времени. Уже в 1550 году Ретик, этот первый восторженный и искренний коперниканец, опубликовал календарь, основанный всецело на принципах новой теории; еще более знаменательное событие случилось в 1551 году, когда на средства герцога Альбрехта Прусского были изданы знаменитые «Прусские таблицы», вычисленные другом Ретика, Эразмом Рейнгольдом, на основе новой гелиоцентрической теории. Автор объявлял в предисловии, что с помощью его таблиц можно вычислить места всех небесных тел даже за 3000 лет назад и что вычисленные положения будут хорошо согласовываться со всеми наблюдениями, которые за эти 3000 лет были произведены. Действительно, эти «Прусские таблицы» оказались куда лучше и точнее Альфонсовых.
Таким образом, труд Коперника знаменует собой новую эпоху в истории астрономии. Не меньшее значение он имел и для развития механики, ибо теперь, когда правильная картина движения светил стала известной, на очередь был поставлен вопрос о законах, управляющих этим движением и механическим движением вообще. Мы уже отмечали, что сам Коперник если и не разрешил задачу создания законов движения, то наметил основные вопросы, подлежащие разрешению. Но все это отнюдь не исчерпывает значения работы Коперника. Наиболее важным ее следствием был тот сдвиг, который она производила в мировоззрении людей.
Широчайшее историческое значение учения Коперника прекрасно раскрыл Энгельс в «Диалектике природы»:
«Чем в религиозной области было сожжение Лютером папской буллы, тем в естествознании было великое творение Коперника, в котором он, хотя и робко, после тридцатишестилетних колебаний и, так сказать, на смертном одре бросил церковному суеверию вызов. С этого времени исследование природы освобождается по существу от религии, хотя окончательное выяснение всех подробностей затянулось до настоящего времени».
Этот революционный характер учения Коперника, эту его антирелигиозную сущность, как мы видели с самого начала, правильно оценили столпы лютеранства. Была ли она ясна римскому папе и его клиру? Из всего того, что было выше сказано о благосклонном отношении главы католической церкви и ряда высокопоставленных ее лиц, можно было бы сделать заключение, что ревнители католицизма не замечали того, что учение Коперника есть вызов церковному суеверию. Такой вывод был бы, однако, слишком поспешным. Не нужно было обладать ни большим умом, ни большой эрудицией (а среди римских церковников были люди весьма образованные и неглупые) чтобы обнаружить прямое противоречие между учением о движении Земли и библейскими текстами. Таким образом, мы должны искать других причин того благосклонного отношения, которое до поры до времени церковь проявляла к учению Коперника.
Частично мы уже имели случай коснуться этих причин. Мы видели прежде всего, что церковь была заинтересована в исправлении календаря, так как сама являлась крупным земельным собственником, вела обширную торговлю и смещение календарных дат, с которыми были по традиции связаны хозяйственные операции, вносило много неудобств и снижало доходы церкви. Вычисления, производимые на основе теории Коперника, были ей чрезвычайно «полезны». Мы видели, с другой стороны, что отрицательная позиция лютеранской церкви по отношению к теории Коперника должна была также сыграть некоторую роль и способствовать терпимому отношению католической церкви. Мы могли бы добавить, что такому отношению могло содействовать и положение самого автора теории, каноника капитула, сохранившего верность католицизму, несмотря на то, что владения его были окружены землями примкнувшего к протестантам герцога Альбрехта.
Но все эти соображения не могли бы, конечно, иметь решающего значения, если бы католическая церковь усмотрела в книге Коперника непосредственную угрозу своему государству над умами «верующих». Конечно, папа и кардиналы видели, что учение Коперника подрывает церковное суеверие. Но ведь и сами папы не были «верующими» людьми. Религия была для них отнюдь не предметом веры, а средством эксплоатации и орудием порабощения народа. Утверждение и сохранение церковных суеверий в широких кругах народа – вот что важно было для католической церкви.
Обращалась ли книга Коперника к этим кругам? Нет, она была недоступна не только для крестьянства и пролетариата, но и для рядовых представителей родовой и денежной знати. Латинский язык, на котором она была написана, служил гарантией того, что она не попадет в руки неученого человека, а наука в то время была в значительной мере предметом монополии церкви. Не только по языку, но и по содержанию своему книга Коперника не была книгой для широкого круга читателей. Об этом можно судить, например, по образцу данной нами в приложении десятой главы, которая является наиболее популярной во всем сочинении Коперника. Недаром Коперник в своем посвящении обращает внимание папы на то, что «математические предметы пишутся для одних математиков». Это не только выражение презрения к «пустым болтунам», но вместе с тем и определенное указание на то, что книга, написанная «для одних математиков», не может принести вреда церкви.
Этими соображениями должна была руководиться и папская курия. Она не предвидела и, пожалуй, не могла предвидеть «только» одного: что учение Коперника вырастет за рамки «ученой» теории, что оно будет популяризироваться устно и письменно на живых языках, что оно станет одним из орудий борьбы против всемогущества папской церкви. Когда это произошло, отношение католической церкви к учению Коперника резко изменилось. Пока же книга Коперника не только не подверглась внесению в список запрещенных книг, но и была беспрепятственно переиздана в 1566 году в Базеле.