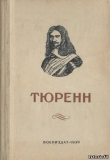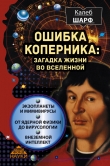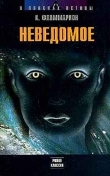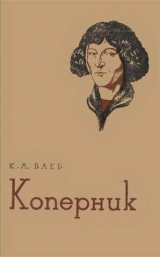
Текст книги "Коперник"
Автор книги: Константин Баев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Хотя Коперник тщательно прятал свое великое творение от чужих глаз, но наблюдений он, конечно, не мог делать тайно. И все члены капитула, жившие во Фрауенбурге, знали, что он занимается астрономией, что он большой знаток ее. И постепенно слава о новом замечательном астрономе распространилась далеко за пределы Вармии.
В 1514 году должен был состояться Латеранский собор, созванный папой Львом X. На этом соборе должны были коснуться и календарного вопроса, историю которого мы выше вкратце рассказали. И к Копернику, хотя и скромному канонику Эрмеландского капитула, но уже осененному славой большого специалиста и знатока астрономии, обратились с просьбой принять участие в предстоящей календарной реформе. Подобная же просьба была адресована и ряду других астрономов.
Из-за краткости времени, отведенного на рассмотрение предполагаемой календарной реформы, на Латеранском соборе могли быть подвергнуты обсуждению только основные положения реформы; они были переданы на обсуждение комиссии, заседавшей под председательством епископа Павла из Миддельбурга, инициатора этой работы. Комиссия в результате своей работы выставила 13 тезисов, касавшихся предстоявшей календарной реформы; эти тезисы были разосланы на предмет их обсуждения различным академиям (т. е. университетам).
Однако, несмотря на большую работу, проведенную комиссией Павла Миддельбургского, все пожелания ее остались на бумаге: и на сей раз календарная реформа проведена не была.
Среди ученых, которых епископ Павел привлек к участию в работе календарной комиссии, фигурировало и имя Николая Коперника. Это была большая честь для скромного каноника дальней епархии. Но его ученые друзья и другие знатоки астрономии из среды католического духовенства знали, что Коперник уже с давних пор занимается определением длины тропического года, т. е. той исходной единицы летосчисления, которая и должна быть положена в основу всякого солнечного календаря: а таким календарем и пользовалась для установления своих подвижных праздников (в том числе и пасхи) католическая церковь.
Среди прелатов на Латеранском соборе присутствовал декан Вармийского кафедрального собора, Бернгард Скультети. Этот последний к официальному приглашению, посланному Копернику от имени календарной комиссии, присоединил свое личное приглашение – прибыть на Латеранский собор для работ в упомянутой комиссии. Но Коперник не поехал и, хотя комиссия обратилась к нему с просьбой изложить свое мнение по вопросу о календарной реформе, никакого определенного предложения по поводу этой реформы в своем ответном письме не высказал. Зато он без обиняков указывал, что движение Солнца и Луны по небу еще далеко не достаточно изучено, вследствие чего делать какие-либо исправления в календаре несколько преждевременно.
В самом деле, при исправлении календаря могли быть допущены еще новые ошибки, так как длина тропического года в то время точно не была известна. Собственные исследования Коперника о длине тропического года в 1514 году еще не были закончены: да к тому же он и не считал их особенно точными. Поэтому Николай Коперник и воздержался от каких-либо предложений календарной комиссии, заседавшей при Латеранском соборе, он справедливо полагал, что с неточными исходными данными реформу проводить не следует.
Спокойные научные занятия Коперника во Фргуенбурге продолжались до осени 1516 года. 3 ноября 1516 года Коперник был избран Эрмеландским капитулом на должность администратора «общих владений» капитула. Земли капитула, расположенные вблизи Фрауенбурга, управлялись непосредственно капитулом; но отдаленные владения, расположенные около замка Алленштейна и городка Мельзака, были выделены и управлялись специально назначенным на эту должность «администратором» (управляющим) – «каноником, который имел местопребывание в Алленштейне.
Отказаться от такой важной административной должности Коперник, повидимому, не мог. И в конце 1516 года он уже уехал в замок Алленштейн, где с перерывом в один год прожил почти четыре года: с ноября 1516 года до ноября 1519 года и с ноября 1520 года по июнь 1521 года. Новая его резиденция была небольшой крепостью: замок стоял на краю города Алленштейна, расположенного на реке Алле; он был обнесен стенами и представлял собою внушительную твердыню. Его считали самым укрепленным местом во всей Вармии.
«Администратор» капитула имел в своем ведении большой и разнообразный круг дел: он наблюдал за деятельностью городских чиновников и сельских старост, назначал налоги и подати; разбирал судебные дела и дела по наследству; заботился о сдаче в аренду различных принадлежащих капитулу угодий и т. д. Сверх того он обязан был надзирать и за деятельностью и поведением духовенства во всех городах и селах подчиненных ему, как «администратору» капитула, владений. Копернику стало уже некогда заниматься научной работой.
И время было очень тяжелое: отношения между Польшей и тевтонским орденом снова сильно ухудшились, и Вармийской епархии пришлось трудно: орден опять стал стремиться присоединить Вармию к своим владениям. Это обстоятельство побудило Эрмеландский капитул искать защиты и помощи у польского короля Сигизмунда. Но, обратившись за помощью к нему, члены капитула побаивались, как бы и он со своей стороны не лишил капитул его феодальных прав. Поэтому переговоры о помощи Польши тянулись долго, а пока шли переговоры, вооруженные отряды ордена вторглись в Вармию и произвели большие грабежи и опустошения. И Польша, и орден готовились к войне, причем орден обратился за помощью к Германии и к Московскому великому княжеству.
На грабежи и опустошения, чинимые орденскими отрядами, капитул жаловался гохмейстеру ордена Альбрехту, ссылаясь на то, что капитул не находится в войне с орденом, но это нисколько не помогло. Кнехты (солдаты) гохмейстера Альбрехта врывались в Вармию, грабили и жгли деревни, села и даже города: в городе Мельзаке, находившемся в ведении Коперника, они, например, выжгли предместье; на жалобы же капитула гохмейстеру последний отвечал, что грабежи производятся «никому неведомыми людишками» и орден в них нисколько не повинен.
В конце-концов напряженное положение разразилось настоящей войной. Войска Альбрехта наводнили Вармию пользуясь тем, что своего войска Вармия почти не имела; польских же войск там сначала совсем не было. Война велась жестокая: опустошались поля, вырубались и истреблялись сады, выжигались целые селения, избивались и уводились в плен жители. Население Вармии укрывалось в лесах.
Надо, однако, сказать, что не одни рыцари грабили вармийских крестьян. Союзники капитула – польские войска – тоже вели себя с населением не стесняясь. Дело в том, что король Сигизмунд послал, наконец, некоторое количество войск для защиты Вармии от тевтонских рыцарей, и на границах орденских владений все время происходили жестокие стычки. Но затем король польский вынужден был для отражения нашествия крымских татар отозвать почти все свои войска обратно. И только в 1519 году, в начале декабря, Сигизмунд вступил со своей армией в пределы Пруссии. К этому времени тевтонские рыцыри уже занимали часть Вармии.
Николай Коперник в это напряженное и беспокойное время продолжал жить в Алленштейне, и только в ноябре 1519 года выехал из Алленштейнского замка и отправился во Фрауенбург. Как раз в дороге застигла его весть о том, что польский король перешел границу Пруссии. Это означало беспощадную войну с орденом, и надо было к ней готовиться.
Война между орденом и Сигизмундом тянулась почти 15 месяцев с переменным успехом. Рыцарские войска, заняв большую часть Вармии, в начале 1520 года стали подходить к Фрауенбургу. Коперник в то время был уже во Фрауенбурге; в Алленштейнском замке заменял его временно другой «администратор», каноник Иоганн Крапитц.
Находясь во Фрауенбурге, Коперник, конечно, ощущал, как и другие, всю тягость войны. Некоторые каноники и прелаты Вармийского капитула при приближении рыцарей и их жестоких кнехтов к Фрауенбургу позорно бежали: одни – в Данциг, а некоторые – подальше, в другие города Германии, спасаясь от военной грозы и неурядицы. Коперник остался во Фрауенбурге. Более того, он как раз в это тревожное время все-таки находил возможность заниматься научной работой и производил нужные ему наблюдения со своим излюбленным параллактическим инструментом и квадрантом.
Во время нападения рыцарей на Фрауенбург Коперник проявил большую энергию и распорядительность. Рыцарские войска не смогли взять города и, наконец, сняв осаду, ушли. Вообще война сравнительно мало отразилась на городах и крепостях Вармии, где отсиживались привилегированные; вся тяжесть войны пала на крестьянское население, беззащитное перед закованными в латы рыцарями.
Епископ Фабиан, как мы говорили, вел политику нейтралитета. Поэтому оба противника – и король польский, и гохмейстер ордена – считали его своим тайным врагом, и оба брали всякого рода контрибуции с Вармийской епархии.
Значительным событием во время описываемой войны было взятие войсками Альбрехта самого большого и богатого города Вармии – Браунсберга в новогоднюю ночь 1520 года. Альбрехт взял этот богатый город военной хитростью. Епископ Фабиан находился в это время в городе Эльбинге; узнав, что Браунсберг взят, он спешно выехал в Гейльсберг, свою резиденцию. Там он нашел ожидавшие его письма от великого магистра Альбрехта, приглашавшие его прибыть в Браунсберг для переговоров Епископ Фабиан сам ехать не решился, но послал для переговоров с Альбрехтом двух наиболее способных из оставшихся в Вармии каноников. Одним из этих каноников, посланных для переговоров с грозным Альбрехтом, был Николай Коперник.
Сохранилась охранная грамота, присланная на имя Николая Коперника из только-что взятого орденскими войсками Браунсберга. С этой охранной грамотой Коперник ездил на свидание с гохмейстером Альбрехтом. Переговоры с Альбрехтом ни к чему не привели, ибо последний требовал, чтобы епископ и капитул присягнули ему в верности.
После неудачной попытки взять Фрауенбург этот город больше не подвергался военным набегам, так как гохмейстер Альбрехт свои главные силы направил в восточные и южные части Эрмеланда. Когда же король Сигизмунд послал большие силы навстречу и в обход орденских войск, причем польские войска проникли не только к Браунсбергу, но и достигли даже Кенигсберга, войскам Альбрехта пришлось уже обратиться к обороне и прекратить свои набеги и экспедиции. К тому же и великий князь московский заключил мир с королем польским, а у ордена стало нехватать денежных средств на военные действия. Все это привело к тому, что великий магистр Альбрехт вынужден был просить перемирия. Переговоры о перемирии начались в Торне в июне месяце, но были прекращены после прибытия новых свежих войск из Германии на помощь ордену.
Военные действия снова начались; Альбрехт двинулся со своими войсками к замку Гейльсбергу и в течение нескольких недель своей артиллерией обстреливал резиденцию епископа.
Но Гейльсберга он не взял и вынужден был снять осаду. Зато, отступив от Гейльсберга, великий магистр занялся завоеванием маленьких беззащитных неукрепленных городков и местечек Вармийской епархии, и это завоевательное шествие «огнем и мечом» тевтонского воинства наносило, конечно, страшный ущерб владениям капитула.
Весь почти 1520 год, вплоть до ноября, Коперник находился во Фрауенбурге. Большая часть административных дел, ввиду бегства многих членов капитула, лежала на нем.
В конце 1520 года Коперник во второй раз вернулся в Алленштейн, так как срок его пребывания в должности управителя имениями капитула еще не окончился. К этому времени большая часть имений капитула была занята войсками ордена, многие селения были сожжены или разрушены, а крестьяне убиты, взяты в плен или где-нибудь укрывались от жестокостей рыцарей и их кнехтов. В начале 1521 года орденские войска окружили Алленштейн со всех сторон, намереваясь подвергнуть крепкий замок осаде. Коперник стал готовиться к защите крепости. Но к этому времени война стала постепенно затихать, и, наконец, в апреле 1521 года в городе Торне было заключено перемирие на четыре года. Начались и длительные переговоры о мире. В этих переговорах принимал участие и Николай Коперник. Ему же капитул поручил составить жалобу против тевтонского ордена, не исполнявшего условий перемирия. Коперник составил обширную записку об убытках, причиненных войсками ордена имениям капитула.
После торнского перемирия Коперник находился до конца 1521 года в Алленштейне. В конце 1521 года Коперника на посту управляющего имениями ордена в южной части Эрмеландии сменил его друг Тидеман Гизе, после чего Коперник получил возможность снова вернуться во Фрауенбург – город, из которого он уже не выезжал до конца своей жизни: почти целых двадцать два года он прожил во Фрауенбурге, «в отдаленнейшем уголке Земли», покидая его лишь на малое время.
В 1521 году в Грауденце собрался польский сейм, где, между прочим, заслушана была записка Коперника об убытках и разрушениях, причиненных Вармии орденскими войсками. Коперник и Гизе представляли на сейме Вармийский капитул. На этом же сейме обсуждалась и другая записка, составленная Коперником еще в 1519 году; она касалась вопроса об упорядочении монетного обращения в Пруссии и соприкасающихся с нею областях.
После войны, когда прежние экономические отношения еще не были вполне восстановлены, этот вопрос имел первостепенную важность. Дело в том, что достоинство монет, выпускаемых в Польше, Пруссии и Литве, было различное: всем было известно, что тевтонский орден, например, чеканил серебряные монеты, в которых количество меди превосходило количество серебра. Города Данциг, Эльбинг и Торн также имели право чеканить собственную монету и этим правом всегда широко пользовались. Благодаря этому в Пруссии имели хождение монеты различной чеканки, причем стоимость одноименных монет не была одинаковой. Вследствие этого хорошая монета в обращении почти не появлялась, так как отправлялась за границу.
Записка Коперника о монетном обращении носит заглавие: «Соображения о чеканке монеты». Она разделяется на три части: в первой – говорится о монетном обращении вообще; во второй – доказывается и поясняется примерами последовательное ухудшение качества ходячей монеты в прусских провинциях; в третьей части указываются различные практические мероприятия.
Приведем небольшую выдержку из этой записки:
«Между многими бедствиями, угрожающими царствам и республикам, особенно важны четыре: раздор, смертность, неурожай и упадок стоимости монеты. Три первые причины очевидны и известны всякому; что же касается четвертой причины – упадка стоимости монеты – то многие не обращают на нее внимания именно потому, что она вредит государству не вдруг, но оказывает вредное действие мало помалу, как бы втайне.
Монета есть золото или серебро, носящее известное название, коим обусловливается цена вещей сообразно государственным постановлениям; следовательно, монета должна представлять собой общую меру ценности. Мера эта, по этому самому, должна быть постоянна и неизменна, так как в противном случае следует опасаться потрясения общественного порядка и торговых сношений… Под постоянной ценностью я разумею номинальное достоинство монеты, зависящее от действительной ценности входящих в нее металлов. Монета же может иметь ценность высшую или низшую против действительной ее ценности».
«…Существование монеты необходимо, хотя обмен мог бы производиться также с помощью известного количества золота и серебра. Но весьма неудобно было бы носить с собою постоянно весы для взвешивания металлов, тем более, что еще было бы затруднительнее удостоверяться каждый раз в чистоте последних. Вот почему во всех государствах признано необходимым ставить на монете известное клеймо, обозначающее внутреннее ее достоинство и вместе с тем отвечающее перед обществом за правильность установления этого достоинства».
«…К серебряной монете обыкновенно примешивается медь по двум причинам (я думаю): во-первых, для того, чтобы монета не подвергалась переплавке, а во-вторых, чтобы малое количество серебра, вследствие содержания меди, занимало больший объем. Сюда можно присоединить еще и третью причину: дабы монета имела способность более продолжительное время противостоять изменениям, происходящим от трения. Монета имеет настоящую свою цену и заслуживает доверие тогда, когда лишь немногим менее содержит металла, чем того требует ее нарицательная цена, вследствие издержек, потребных для ее выделывания, но, с другой стороны, государственный герб прибавляет ей ценности».
Потом Коперник излагает три главные, по его убеждению, причины, вредящие ценности монеты: 1) если к серебру прибавлено слишком много меди; 2) если монета не имеет должного веса; 3) если она не имеет в себе достаточного количества ценного металла (серебра или золота). Следовательно, – заключает Коперник, – время от времени необходимо переплавлять монету для восстановления ее истинной ценности, несколько понижающейся вследствие трения. Вывод Коперника относительно достоинства ходячей монеты, обращающейся в Пруссии, весьма неутешителен: достоинство ее, безусловно, понизилось, так как за последнее время к четырем частям меди стали примешивать только одну долю серебра.
И Коперник патетически восклицает: «Горе тебе, Пруссия! Ты гибелью своей искупаешь ошибки того государства (Польши), которое управляет тобою! А между тем, те лица, которые были бы обязаны устранить это общественное бедствие, относятся к нему равнодушно и соглашаются на гибель любезного нашего отечества, относительно которого мы обязаны исполнить святой долг свой, – если надо, даже пожертвовав за него жизнью».
Коперник предлагает в заключение довольно решительные меры для устранения главных дефектов монетного обращения: лишить города Эльбинг, Торн, Кенигсберг права чеканить собственную монету, и чеканить всю ходячую монету только в одном месте, чтобы вся находящаяся в обращении монета была «единственная» и «однообразная». Далее, по его мнению, Литва, Польша и Пруссия (как подвластные польскому королю) должны иметь единообразную государственную монету, которая должна быть гарантирована государством и пользоваться полным доверием как подданных короля польского, так и иностранных держав. В худшем случае Коперник соглашается на двоякого рода ходячую монету: одну – отчеканенную в Польше, а другую – во владениях прусского герцога.
Несмотря на то, что обширный доклад Коперника об упорядочении монетного обращения был написан (на латинском языке) очень дельно и убедительно, на сейме в Грауденце, состоявшемся в 1521 году, записке Коперника ходу не дали.
Отдельные города, как Данциг или Торн, конечно, не хотели отказаться от своей привилегии – чеканить и выпускать собственную монету. Противились также введению мер, предложенных Коперником, и те, для которых существующая монетная система давала возможность легкой наживы.
Кончилось дело тем, что по просьбе присутствовавших на сейме сенаторов Коперник передал сбою записку в архив города Грауденца, чтобы предлагаемыми им мерами могли воспользоваться хотя бы впоследствии.
Впрочем, польский король Сигизмунд вполне разделял мнение Коперника; в указе Сигизмунда, относящемся к 1526 году и устанавливающем правила введения новой монетной системы, повторяются многие мысли и даже отдельные выражения, имеющиеся в записке Коперника. Очевидно, король Сигизмунд и его советники изучали записку великого реформатора астрономии. Отметим в заключение, что, кроме Коперника, монетным делом занимался и его великий последователь и продолжатель – Исаак Ньютон.
Что касается первой записки Коперника, то сейм постановил удовлетворить претензии капитула, но это решение сейма осталось на бумаге: никаких мер для осуществления его предпринято не было. В это время возникли раздоры и среди членов самого капитула. Каноники, бежавшие во время войны за границу, вернулись в Вармию и требовали свою часть доходов за все время войны; каноники, остававшиеся во время войны на своих постах, не хотели делиться своими уменьшившимися доходами с вернувшимися только теперь собратьями. Отсюда возник, конечно, целый ряд неприятностей. Распутывать и разрешать все эти сутяжные дела должен был епископ Фабиан. Но 8 января 1523 года он умер, и его смерть еще более осложнила положение Эрмеландии и капитула: последний на время остался без главы.
И в этих трудных обстоятельствах капитул решил до избрания нового епископа возложить на Коперника обязанности правителя епархии впредь до избрания нового епископа. Время, в течение которого Копернику пришлось управлять Вармийской епархией, было очень трудное: и Польша, и орден, пользуясь смертью епископа Фабиана, стали стремиться полностью подчинить себе всю Эрмеландию.
Например, поверенный польского короля после смерти епископа Фабиана успел захватить его резиденцию, замок Гейльсберг, завладел епископскими доходами, стал даже приводить население к присяге королю Сигизмунду.
Коперник управлял епархией в общем около полугода. Он действовал настойчиво, и ему удалось вернуть во власть епископа и капитула все те города и села, которые заняли польские отряды. Но рыцарские предводители были менее сговорчивы. С ними Коперник, при всей своей энергии, ничего сделать не мог. Лишь позднее, под давлением польского правительства, орденские войска ушли из Вармии.
Как раз в то время, когда Коперник управлял епархией, до «отдаленнейшего уголка мира» докатилась мощная волна реформации.
Чтобы составить себе представление о позиции Коперника по отношению к этому движению, мы должны уяснить себе хотя бы в общих чертах социальные его корни.
В двадцатых годах XVI века почти вся Западная Европа вступает в полосу продолжительных войн, ведущихся под знаменем борьбы за религию; с одной стороны выступают защитники установившихся религиозных норм и церковного строя во главе с папой; с другой стороны – сторонники реформы церкви и религии – реформаты. В описываемое нами время во главе этого движения стоял Мартин Лютер, основоположник «лютеранства».
В основе этой по своей форме религиозной войны лежала борьба классов. Католическая церковь, возглавляемая римским папой, выражала и защищала интересы старого феодального строя. Противниками католицизма, сторонниками реформы были все те, кто имел основание быть недовольным существующими порядками.
Но недовольными были самые различные элементы: богатая буржуазия, развитие которой стесняли феодальные порядки; крестьянство, эксплоатировавшееся немилосердно и стонавшее под тяжестью феодальных повинностей; мелкое дворянство, которое разорялось и мечтало о возврате к «старому, доброму времени».
В самом начале лютеранского движения эти совершенно разнородные элементы, объединенные тем, что имели общего противника, не приходят еще в столкновение друг с другом. Но вскоре прстивопо-ложность интересов обнаружилась со всей силой: крестьянство увидело, что и мелкое дворянство, и буржуазия, и те князья, которые примкнули к движению, чтобы освободиться от зависимости по отношению к императору и обогатить свою казну церковным имуществом и доходами, – что все эти элементы враждебны ему, крестьянству. Началась борьба внутри лагеря сторонников реформы. В этой борьбе крестьянство было побеждено. Сам Лютер и его ближайшие сподвижники находились в лагере победителей. Но в свою очередь и в этом лагере разгоралась борьба, на обстоятельствах которой мы не можем останавливаться. В этой борьбе Лютер занял позицию компромисса. В результате максимальные выгоды получили не бюргерские элементы, после разрыва с крестьянством не имевшие силы, которую они могли бы противопоставить своим «союзникам», а князья, примкнувшие к лютеранскому движению.
Политическая карта Германии и соседних с ней земель представляла собой в двадцатых годах XVI века пеструю картину: целый ряд политических комбинаций заставлял одни государства примыкать к лютеранскому движению, другие – бороться с ним, третьи – сохранять нейтралитет или переходить от одной стороны к другой.
В своей борьбе с Польшей прусский герцог Альбрехт хотел опереться на лютеранских государей Германии. Поэтому он не только не боролся с протестантизмом, но, напротив, в 1523 году сделал его официальным исповеданием. Пользуясь установленным на четыре года перемирием между Польшей и Пруссией, он готовился усиленно к войне, чтобы выйти из всякого подчинения польской короне. Эту войну он не решился, правда, начать, но перспективы ее должны были учитывать руководители Вармийского капитула. Снова Вармия могла быть ареной столкновения сильных противников – католической Польши и лютеранской Пруссии.
Усвоенная капитулом политика выжидания определяла и позиции его по отношению к лютеранской ереси: это тоже была политика выжидания.
Епископ Фабиан не приказывал преследовать еретиков, но полемизировал с их проповедниками. Он даже заявил в одной из бесед со своими подчиненными: «Лютер – человек ученый и свои мнения выражает в письменной форме; пусть сразится с ним тот, у кого на это хватит смелости». Епископ Дантиск, с последующей деятельностью которого мы еще встретимся, специально заехал по пути из Испании в Пруссию к Лютеру в Виттенберг, чтобы с ним побеседовать. Рассказывая об этих беседах, он называл Лютера «человеком остроумным, ученым и обладающим Красноречием». Тидеман Гизе состоял в переписке с Меланхтоном, одним из сподвижников Лютера. Таким образом, отношение епархии к реформациончому движению было если не вполне благожелательное, то довольно терпимое, и учение Лютера быстро стало распространяться в Вармии. Очень многие горожане стали ревностными последователями Лютера; о особенности это наблюдалось в тех городах, которые были заняты орденскими войсками.
Коперник, около полугода заведуя епархией после смерти епископа Фабиана, фактически выполнял обязанности епископа и продолжал политику Фабиана; никаким преследованиям лютеране при нем не подвергались. И в то время, как польский король Сигизмунд, еще летом 1520 года, запретил под угрозой большого штрафа ввоз и распространение сочинений Лютера, Коперник, в качестве заведующего епархией, ровно ничего не сделал для пресечения распространения новой ереси.
Каковы были личные взгляды Коперника в вопросах, бывших предметом богословских споров, нам не известно. Однако, косвенно можно судить об этом по книге Тидемана Гизе, близкого друга Николая Коперника. Как раз в это время Гизе написал против лютеран целое полемическое сочинение. В нем Гизе возражает против догматической и обрядовой стороны лютеранства, но не отрицает того, что нравы католического духовенства заслуживают самого строгого порицания и нуждаются действительно в исправлении. Он говорит, что в церковные обряды католической церкви вошло много суеверий, а в церковном управлении имеется много злоупотреблений и различных недостатков. Но, – заявляет он, – ради исправления дурного не нужно ломать всего, веками установленного, церковного строя. Коперник одобрил указанное сочинение Гизе, советовал последнему всячески его распространять и настаивал на его напечатании.
Таким образом, и отношение Коперника к лютеранскому движению, и его позиция в богословских вопросах, связанных с борьбой, разыгрывавшейся на исторической арене, носят явный характер компромисса.
Коперник недолго находился во главе епархии. Его сменил епископ Маврикий Фербер. Чем более выяснялось, что силы прусского герцога уступают силам Польши, тем более определялись позиции капитула в религиозной распре. Новый епископ выступил как ревностный защитник католицизма.
Тотчас же по утверждении его в епископском сане он издал строгий приказ всему епархиальному, подчиненному ему духовенству, чтобы никаких новшеств в церковных обрядах оно не допускало и чтобы всякие церковные требы совершались, как прежде. Учение Лютера новый епископ не разрешал распространять ни частным образом, ни публично; в противном случае он грозил всем ослушникам, еретикам-лютеранам и их покровителям, изгнанием, анафемой и прочими карами.
Когда во главе епархии стал епископ Маврикий Фербер, Коперник стал принимать все меньшее и меньшее участие в делах управления епархией, тем более, что бурные времена для Вармии миновали.
Торнское перемирие, заключенное на четыре года, заканчивалось в 1525 году.
Альбрехт, напрасно старавшийся найти себе новых союзников и покровителей, следуя совету Лютера, решил уничтожить орденский устав и свои владения превратить в светское государство. Польский король согласился на этот проект, и по краковскому договору, заключенному с Польшей в 1524 году, Альбрехт сложил с себя звание гохмейстера и бывшие орденские владения принял в лен от короля польского как «светское» герцогство.
Отойдя от «большой политики», Коперник, однако, не переставал интересоваться и заниматься близкими ему вопросами и не раз выступал на сеймах докладчиком по тому вопросу, по которому его считали большим специалистом: по урегулированию монетного обращения. Например, на сейме 7 мая 1528 года, состоявшемся в Мариенбурге, Коперник был командирован с исключительной целью выступить и дать указания именно по вопросам монетного обращения, как это видно из письма епископа Маврикия Фербера от 7 апреля того же года, посланного из замка Гейльсберга.
Равным образом Коперник был делегирован (тоже по просьбе епископа Маврикия) капитулом на сейм в Мариенбурге, состоявшийся в октябре месяце того же года. Затем Коперник был на сейме в Эльбинге в 1530 году; там же обсуждались вопросы, связанные с урегулированием монетного обращения в новом прусском герцогстве и других местах. В 1524, 1526 и 1531 годах Коперник занимал должность «нунция капитула», т. е. был чем-то вроде ревизора, и ездил не один раз в замок Алленштейн и в Мельзак для ревизии различных хозяйственных и административных дел. Он также устанавливал (и неоднократно) таксу на хлеб, – тоже в связи с неупорядоченным и хаотическим состоянием монетного обращения. Однако, административные дела всякого рода перестали интересовать Коперника: он стал сам отходить от них, не добиваясь для себя никакого служебного повышения. Надо еще сказать, что в 20-х и 30-х годах Коперник использовал свои медицинские познания, начал врачебную практику и приобрел славу знаменитого доктора. Между прочим, он лечил своего друга Тидемана Гизе, епископа Маврикия, даже герцога Альбрехта; и все эти пациенты великого астронома давали хорошие отзывы о его врачебном искусстве и внимательном отношении к больным. Нам известно в настоящее время достаточно хорошо, какие медицинские книги имелись у Коперника. Главным его руководством и справочником была знаменитая в его время книга Валеска Тарентского: «Медицинская практика»; у Коперника имелось издание 1490 года. (Эта книга, пользовавшаяся очень большой известностью, переиздавалась несколько раз). Книга Валеска имеет на полях своих много заметок, что показывает, насколько часто прибегал Коперник к этому произведению. Далее, среди медицинских книг, принадлежавших Копернику, были: «Хирургия» магистра Петра де Ларгелата; медицинский словарь Матвея Сильватика (врача, скончавшегося в 1340 году) под заглавием «Свод рецептов», издания 1498 года; «Сад здоровья» – весьма популярная в XV и XVI столетиях книга медицинского содержания; «Роза медицины» Иоанна Английского (издания 1492 года) и др. Все эти книги были написаны «ученой латынью» средневековья, авторы всех их были приверженцами арабской школы Авиценны, которая в то время главенствовала во всех университетах Европы. Эта школа ввела множество новых лекарств, причем рецепты тогдашних врачей отличались крайней сложностью.