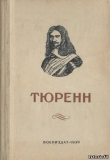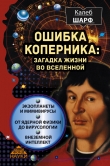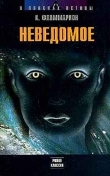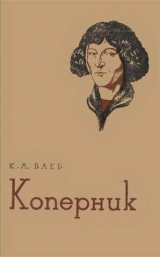
Текст книги "Коперник"
Автор книги: Константин Баев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Желая убедить читателей, что система мира Коперника является как бы своего рода усовершенствованием системы Птолемея, Ретик пишет, обращаясь к Шонеру: «Относительно моего господина учителя прошу тебя быть вполне уверенным, что он ничего так не желает, как следовать по стопам Птолемея, подобно тому, как Птолемей следовал древним и тем, которые жили задолго до него. Однако, так как небесные явления, которые господствуют над астрономами, и математические рассуждения принуждают его, даже против его воли, установить другие допущения, то он считает достаточным по той же методе, как и Птолемей, и к той же цели направлять свои выстрелы, но только, конечно, из лука и при помощи стрел, сделанных из совершенно другого материала, чем у Птолемея: кто хочет быть философом, тот должен иметь свободный ум.
Впрочем, как всякий разумный человек, а в особенности философ, мой учитель по всему своему настроению далек от того, чтобы отступать от воззрений древних исследователей только из простого стремления к новизне: это происходит только из серьезных оснований и если этого требует само дело. Его возраст, серьезность его настроения, его глубокая ученость, богатый талант, сильный ум – таковы, что на него не может пасть подобное подозрение, как это, конечно, возможно было бы относительно юноши или тех, которые при малых познаниях имеют высокое о себе мнение, относительно умов, легко возбуждаемых, которые легко подчиняются всякому ветерку и дают увлечь себя».
Очень интересными штрихами Ретик характеризует метод работы Коперника, его постоянное желание основываться на наблюдениях и строить свои новые теории так, чтобы их тотчас же можно было проверить и сопоставить с имеющимися наблюдениями. Ретик пишет:
«Мой господин учитель старательно сопоставил наблюдения всех времен со своими наблюдениями и расположил их в определенном порядке так, что они всегда готовы для применения. И если нужно что-нибудь с уверенностью установить или ввести в науку или в общепринятую теорию что-нибудь новое, он просматривает тогда все наблюдения, начиная с первого и кончая своими, и тщательно соображает, приняв какой закон, их можно привести в согласие друг с другом. Что он при этом найдет путем строгих умозаключений и при помощи Урании, то он сравнивает с теориями древних и Птолемея. Если тогда, взвесив все самым старательным образом, он находит, что по строгости астрономической необходимости прежние гипотезы нужно отвергнуть, он тогда устанавливает, не без божественного вдохновения и помощи, новые теории и выводит с помощью математики путем строго геометрических доказательств то, что вытекает из его теории. Наконец, он исследует, насколько наблюдения древних и его собственные наблюдения согласуются с принятой теорией, и лишь тогда, преодолев такую большую работу, он определяет новый закон в астрономии».
Ретик старается убедить читателей, что Коперник «не зря» заставляет Землю двигаться вокруг Солнца, что к этому вынудили его наблюдения, «неувязки» древних теорий Птолемея с ними, а вовсе не непочитание авторитета древних. Ретик хочет убедить скептиков, что реформа астрономии необходима, что именно при тогдашнем состоянии астрономии ее следовало произвести, ибо она назрела. О себе Ретик пишет в «Первом рассказе» с полной откровенностью: «Сам я все более и более увлекаюсь теорией моего господина учителя». Ретик думает даже, что сам великий авторитет древнего мира и средних веков, Аристотель, «если бы выслушал основания новой теории, без сомнения, открыто признал бы, что им действительно было доказано и какие положения были допущены без полного доказательства».
Одним словом, увлекшись гелиоцентрической теорией своего учителя, Ретик стремился заразить своим увлечением и всех своих читателей. По его мнению, в великом труде Коперника все «связано одно с другим совершеннейшим образом, как золотой цепью»; все там строго, логично, просто, изящно, так что, – пишет Ретик с неподдельным энтузиазмом, – «я далек от мысли, что Птолемей, если бы ожил, остался бы верен своей собственной системе».
Небольшое и легко написанное сочинение Ретика обеспечило ему хороший прием среди читателей. Его распространению довольно энергично содействовали и сам Ретик, и друзья Коперника: они старались широко распространить сочинение Ретика, для чего рассылали его сами различным ученым и высокопоставленным лицам. Между прочим, епископ Гизе послал один его экземпляр, при соответствующем письме, Альбрехту, бывшему гохмейстеру тевтонского ордена, герцогу прусскому. Это послужило поводом для знакомства Ретика с Альбрехтом.
Гизе, познакомив герцога Альбрехта с Ретиком, содействовал выполнению и другой работы, в окончании которой был особенно заинтересован герцог Альбрехт: составлению карты Пруссии. Как оказалось, еще в 1529 году Коперник, вместе со своим другом Скультети, стал деятельно собирать материалы по составлению карты Пруссии. Окончательным приведением в порядок этих ценных материалов занялся Ретик во время пребывания в гостях у Коперника во Фрауенбурге. Можно думать, что Коперник помогал Ретику и в этой его работе. Конечно, герцог Альбрехт был сильно заинтересован в доведении до конца этой работы и оказывал поэтому покровительство Ретику.
Ретик приготовил еще во время своего путешествия в Данциг, Лёбау и Кенигсберг (путешествие в Лёбау он совершил вместе с Коперником) дорожную «путеводную таблицу» по Пруссии; он поднес ее герцогу Альбрехту Прусскому с сопроводительной запиской, в которой он, между прочим, выражает благодарпость Копернику. «Путеводная таблица» Ретика бесследно погибла, зато сохранилось более полное, оставленное им довольно большое сочинение, в котором излагаются методы и различного рода приемы для составления карт. Это сочинение в 1541 году Ретик тоже переслал герцогу Альбрехту Прусскому, которому посвятил эту работу. Здесь опять воздается обильная хвала Копернику за его предварительные работы по картографии Пруссии, которые послужили Ретику солидным базисом для его дальнейших картографических исследований.
Кроме занятий по изучению коперникова трактата «Об обращениях небесных кругов» и составлению карты Пруссии, Ретик за время его пребывания во Фрауенбурге особенно заинтересовался двумя чисто математическими главами упомянутого труда Коперника: в этих двух главах излагались вкратце плоская и сферическая тригонометрия, причем Коперником были составлены таблицы, необходимые для решения треугольников и других вычислений.
Эти две главы из книги Коперника Ретик с его разрешения тщательно списал, не менее тщательно переписал все приложенные к ним таблицы и отправил в Нюренберг, где они и были изданы под таким заглавием: «О сторонах и углах треугольников как плоских, прямолинейных, так и сферических – книга ученейшая и весьма полезная, написанная славнейшим и ученейшим мужем, господином Николаем Коперником Торнским». Книга появилась в печати в Виттенберге в 1542 году.
Сам Ретик возвратился в Виттенберг только осенью 1542 года. Оставил Ретик своего престарелого учителя, к которому искренне привязался, с большим сожалением. Он много уговаривал Коперника согласиться на издание его фундаментального творения, которое он изучал с таким жаром. Но на издание всего труда Коперник никак не соглашался. Хотя прием, оказанный его теории в высших церковных кругах и был благосклонным, но Коперник не мог не понимать, что аргумент Лютера не был по существу аргументом «лютеранским». Противоречия между текстами «священного» писания и сущностью теории Коперника были настолько очевидными, что Коперник не мог чувствовать себя в безопасности. Настроение папы могло измениться, мог смениться и сам папа. Наконец, и местное начальство могло не одобрить книги Коперника. Со стороны епископа Дантиска он мог опасаться «отеческого» внушения по поводу «неправильных» и «неприемлемых» идей его труда.
Как бы то ни было, Коперник думал сначала напечатать только таблицы, им составленные, необходимые для предвычисления положений планет на небе по правилам его теории, и только. Для целей практических, по мнению Коперника, напечатания одних таблиц было бы вполне достаточно, ибо все, даже рядовые астрономы, смогут воспользоваться плодами его трудов. «Дюжинный астроном, – говорил Коперник, – воспользуется вычислениями, а тот, на кого милостиво взглянул Юпитер, сам найдет и выведет новые принципы по моим таблицам».
Но против решения Коперника напечатать одни таблицы с некоторыми к ним пояснениями, к счастью для науки, восстал друг Коперника, Тидеман Гизе, епископ кульмский. Он всячески убеждал Коперника отдать Ретику для напечатания все его сочинение полностью, без всяких выпусков, и Коперник, наконец, согласился. Сам епископ Гизе вместе с Ретиком составили предисловие, в котором всячески защищали Коперника от возможных обвинений в противоречии со священным писанием, но это предисловие напечатано не было. Вместо него Коперник сам предпослал своей книге посвящение главе католической церкви, папе Павлу III. Этим он «отводил глаза» от безусловно противобиблейского содержания своей книги.
Коперник уже после отъезда Ретика из Пруссии передал полностью свою рукопись, с посвящением папе, Тидеману Гизе, а тот, как заранее у него было условлено с Ретиком, тотчас же переслал ему драгоценную рукопись. Было заранее решено печатать ее в Нюренберге, где Ретику был лично знаком ученый издатель различных книг, преимущественно математического содержания, Иоганн Петрей. Последнему и поручил Ретик печатание рукописи, с таким трудом отвоеванной им у несговорчивого автора. Первые месяцы Ретик сам наблюдал за ее печатанием. Это происходило весной 1542 года. Зимой этого же года Ретик переехал из Нюренберга в Лейпциг, где тоже получил место профессора математики, а надзор за печатанием книги Коперника поручил Андрею Осиандру, известному лютеранскому богослову, который знал астрономию и занимался математикой.
Коперник находился с Осиандром в ученой переписке; когда еще Ретик был во Фрауенбурге, Осиандр прислал Копернику пространное письмо, в котором высказывал мысль, что для астрономических вычислений все дело в том, хорошо или плохо объясняются этими гипотезами видимые движения, происходящие на небесном своде. Астрономические гипотезы не связаны с верой и не являются ее выражением. Поэтому Осиандр советовал Копернику «что-нибудь прибавить» в его книге. Осиандр знал о гелиоцентрической гипотезе Коперника, и твердая уверенность великого астронома в ее правильности ему не нравилась. В гелиоцентрической системе мира он хотел видеть только математическую фикцию, с помощью которой можно удобно исследовать движения планет.
Одновременно с письмом к Копернику Осиандр написал и Ретику; обращаясь к нему как к протестанту и более молодому по годам человеку, он говорил более настойчиво:
«Аристотелики и богословы легко успокоятся, если им будет сказано, что возможны различные гипотезы для объяснения данного движения и что известные гипотезы предлагаются не потому, что они неизбежны, а потому, что с помощью их вычисления явлений и движений совершаются удобнее всего. Вполне возможно изобрести еще другие гипотезы. Если кто-либо придумает какой-либо целесообразный план для объяснения данного явления, другой может придумать еще более целесообразный; каждый волен это делать, и он еще заслужит благодарность за свое изобретение. Подобные замечания, направив противников от строгих порицаний к спокойному размышлению, сделают их более мягкими и снисходительными, а затем, после того как они напрасно будут стараться найти лучшее, они легко примут новое и привяжутся к нему».
Коперник не был убежден хитроумной дипломатией Осиандра; Ретик тоже остался верен своему учителю, но по отъезде своем из Нюренберга все-таки доверил надзор за печатанием книги Коперника тому же Осиандру. Последний исполнил возложенную на него обязанность, но, не испросив разрешения ни у Коперника, ни у Ретика, поместил в начале книги свое собственное предисловие, причем своей подписи под ним не поставил.
С этим анонимным предисловием, заслужившим печальную известность в истории астрономии, бессмертное творение Коперника, наконец, увидело свет в 1543 году.
Последние годы жизни Коперника были годами одиночества и скорби. Он попрежнему бывал на заседаниях капитула, правда, лишь тогда, когда его туда требовали. Он жил одиноко. Близких друзей во Фрауенбурге у него не осталось, сверстники его почти все умерли. Подробных сведений об его жизни после отъезда Ретика у нас вообще не имеется, и мы, в сущности, мало знаем даже об его последней болезни и смерти. Кое-что узнаем мы, впрочем, из сохранившихся писем преданнейшего друга Коперника, епископа Гизе.
Первое из интересующих нас писем Гизе относится к 8 декабря 1542 года. Это письмо к канонику Георгу Доннеру, который, как можно думать, являлся самым близким из всех друзей Коперника, в течение двух последних лет живших во Фрауенбурге. Из этого письма видно, что в начале зимы 1542 года Коперник тяжело заболел. Обеспокоенный Гизе, узнав об этом, спешит письменно попросить каноника Доннера принять участие в их общем тяжело больном друге. «Так как Коперник, – пишет Гизе, – когда был здоров, любил уединение, то теперь о нем, тяжело больном, конечно, должны позаботиться только немногие его друзья, в то время как мы все – его должники благодаря ясности его ума и учености». Все письмо Гизе проникнуто любовью к Копернику. Он просит Доннера взять на себя заботы «о человеке, которого ты всегда вместе со мной любил».
К сожалению, нам совершенно неизвестно, в какой степени оказалось возможным Доннеру облегчить последние тяжелые дни жизни престарелого астронома; мы можем только с уверенностью утверждать, что о Копернике во время его последней болезни заботился один «врачебный советник». Это был фрауенбургский викарий Фабиан Эммерлих; ему завещал Коперник свою любимую медицинскую книгу Валеска Тарентского.
Но кто же еще из членов капитула принимал участие в заботах о тяжело больном собрате, кроме Доннера и Эммерлиха? Нам об этом ничего неизвестно. Никаких заслуживающих доверия письменных документов об этой эпохе во Фрауенбурге уже в прошлом столетии не осталось.
Гассенди, первый биограф Коперника, говоря о последних днях астронома, пишет: «Время его последней болезни почти совпадает с появлением из типографского станка бессмертного его творения. До сего времени обладавший удовлетворительным здоровьем, Коперник начал страдать кровотечением, за которым последовал паралич правого бока. С этого времени его умственные способности и память стали ослабевать.
За несколько часов до смерти принесли ему экземпляр только-что отпечатанного его сочинения… Он взял книгу в руки и смотрел на нее, но мысли его уже были далеко». Этот рассказ Гассенди перешел текстуально во все последующие биографии Коперника.
Великий астроном был словно и в самом деле в опале: молодые каноники и прелаты его чуждались и не вели с ним знакомства. Немудрено, что в последние дни его жизни он остался почти одиноким. Несколько раз повторялось у него кровотечение, были и другие болезненные явления. Положение больного было признано безнадежным, и Дантиск писал известному ученому Гемме Фризиусу, что кончина Коперника ожидается в начале 1543 года.
Однако, болезнь затянулась еще на несколько недель, и Коперник скончался, потеряв за несколько дней до своей смерти сознание, лишь 24 мая 1543 года.
Космологические учения предшественников Коперника
Излагая жизнь Николая Коперника, мы не могли не касаться некоторых вопросов астрономического характера. Это, вероятно, не причинило читателям больших затруднений, так как основные идеи Коперника стали в наше время азбучными истинами. Однако, чтобы оценить все историческое значение работ Коперника, мы должны войти в более подробное их рассмотрение, а для этого, мы в свою очередь должны познакомить читателя с тем состоянием знаний о вселенной, которое застал Коперник. Нам нужно показать, что Коперник мог взять у своих предшественников и от чего из их наследства он должен был отказаться.
Мы уже не раз упоминали, что наука «нового времени» начала свое развитие с восстановления и изучения наследства древнегреческой науки. Мы знаем также, что сам Коперник считал древних астрономов своими учителями. Поэтому мы должны начать наше изложение с эпохи, отдаленной от нас на две с лишним тысячи лет.
Древнейшей из известных нам теорий мироздания является система «пифагорейцев», которую предание ведет от полулегендарного Пифагора. Эта система в противовес прежним представлениям о мире выдвигала идею движения Земли. Это обстоятельство было причиной того, что учение Коперника получило в свое время наименование «пифагорейского учения», хотя, как мы сейчас увидим, сходство здесь очень поверхностное.
Уже в V веке до нашей эры пифагорейская система получила свое оформление, но нам немного известно об ее деталях. Аристотель (IV в. до н. э.) сообщает о космологии пифагорейцев следующее:
«Относительно положения Земли мнения философов различны между собой. Впрочем, большая часть философов, считающих небо ограниченным, помещает Землю в середине. Напротив, италийские философы, пифагорейцы, полагают, что в середине находится огонь и что Земля обращается вокруг него подобно звезде, через что происходят перемены дня и ночи. Они также принимают другую Землю, противоположную нашей и называемую ими «противоземлей», так как главная цель их состоит не в исследовании явлений, а в приноравливании последних к собственным своим воззрениям и теориям». Аристотель говорит и о том, почему пифагорейцы помещают в центре мира огонь:
«Важнейшим вещам, по их (пифагорейцев) мнению, подобает и почетнейшее место, а так как огонь важнее Земли, то он и помещен в середине».
Наш рисунок поясняет идею пифагорейцев, согласно которой Земля вращается в направлении с запада на восток вокруг «центрального огня», а вместе с тем и вокруг своей оси. Оба вращения Земля заканчивает в одни сутки. Вот почему никто из людей не видал божественного очага, где пылает «центральный огонь» и где пребывает божество, ибо «центральный огонь» освещает только антиподов, куда с обитаемой части Земли никак нельзя проникнуть. Антихтон, т. е. «противоземля», обращается вокруг «центрального огня» (постоянно между Землей и последним, что и видно хорошо на нашем рисунке) и совершенно закрывает от Земли лучи «центрального огня».

Роль Солнца была только подсобная: оно только концентрировало и посылало на Землю лучи «центрального огня». Оно прозрачно, подобно стеклу, и совершает в течение года движение по зодиаку, отчего и происходит изменение длины дня и смена времен года.
Уже пифагореец Филолай одарил Землю движением вокруг «центрального огня». Это дало основание считать его предшественником Коперника. Следующий шаг вперед был сделан Хикетом и Экфантом, тоже пифагорейцами. Хикет считал, что Земля занимает центр мироздания и что «центральный очаг», или «центральный огонь», помещается в центре земного шара. Далее он приписывал Земле вращательное движение вокруг осив течение суток в прямом направлении, т. е. с запада на восток. От существования «противоземли» он, повидимому, совершенно отказался.
Знаменитый римский адвокат, писатель и политический деятель Цицерон следующим образом характеризует космологические воззрения Хикета: «Сиракузянин Хикет, как утверждает Теофраст, полагает, что небо, Солнце, Луна, звезды, вообще все, что над нами, покоится и что ничто в мире не движется, за исключением Земли». Далее Цицерон вполне ясно приписывает Хикету мнение о вращении Земли только вокруг оси.
Приблизительно такова же была и доктрина Экфанта. Отрицание существования «противоземли» было все-таки большим шагом вперед по сравнению с доктриной Филолая, всецело основанной на ходячей числовой мистике пифагорейцев. Тот факт, что Экфант и Хикет отчетливо говорили о суточном вращении Земли, заслуживает быть особенно отмеченным, так как Коперник осмелился снова вернуться к этой гениальной и плодотворной идее.
Коснемся теперь вкратце воззрений на строение мира двух выдающихся греческих философов – Платона и Аристотеля (IV и V вв. до н. э.).
В одном из последних своих произведений («Тимей») Платон в очень неясных выражениях приписывает и самой Земле некоторое движение вокруг оси. Но, повторяем, это место «Тимея» весьма темное, и мнения о смысле того, что хотел сказать Платон, сильно расходятся. Согласно преданию Платон будто бы поставил своим ученикам задачу – объяснить движение планет по небу комбинациями равномерных круговых движений, ибо только круговое движение, как «совершенное», считал он «достойным» для небесных тел. Вряд ли это предание имеет под собой основу, но для нас важно то, что в эпоху Возрождения эта странная на наш взгляд мотивировка пользовалась успехом и освещалась именем Платона.
Аристотель был строгим геоцентристом. В своем большом трактате «О небе» Аристотель помещает Землю в центре мироздания и пытается рассуждениями обосновать, что Земля должна совершенно неподвижно покоиться в центре мира. Вместе с тем Землю он считает шаровидной и очень удачно и хорошо доказывает это. Солнце, Луна и планеты, а также и сфера звезд, по мнению Аристотеля, обращаются вокруг Земли. Все гипотезы пифагорейцев о движении Земли или вращении ее вокруг оси Аристотель отбрасывает как совершенно вздорные и недостоверные.
Аристотель всю вселенную разделял на две принципиально различные по своим свойствам и строению части:
1) область совершенного – небо, где все нетленно, абсолютно чисто и совершенно и где находится «пятая стихия» – нетленный, совершенный и вечный эфир, более субтильная (тонкая) материя, нежели воздух и огонь;
2) область земных элементов, где происходят постоянные изменения и превращения элементов, где все тленно и подвержено разрушению и смерти.
Вообще, небо – область абсолютных, неизменных законов: там все неизменно и вечно. Земля, наоборот, есть область преходящего, изменяемого, – на ней господствуют случай, возникновение и уничтожение. В силу сказанного, на небе, в совершенной области, и все движения совершенны, т. е. все тела небесные движутся по кругам, наиболее «совершенным» кривым; все движения на небе, кроме того, только равномерные; неравномерных движений там быть не может.

Мы видим, что Аристотель, подобно Платону, тоже придает исключительное значение «совершенству» во вселенной. Именно потому он вселенную тоже считает имеющей форму шара.
Стихии в космологии Аристотеля располагаются пропорционально их весу (или плотности). В силу этого в центре вселенной сосредоточена самая грубая и тяжелая стихия – земная, шар земной окружает вода, как более легкий элемент; затем располагается воздушная оболочка (земная атмосфера), а еще выше – оболочка из еще более легкой стихии – огня. Эта оболочка занимает все пространство от Земли до Луны. Над оболочкой из огня простирается оболочка из чистого эфира, из которого состоят, по Аристотелю, все небесные тела. Собственно говоря, Луна, Солнце и планеты не движутся вокруг неподвижной Земли. Обращаются вокруг Земли только те сферы, к которым «прикреплены» эти небесные тела.
Эти концентрические сферы (их общий центр, по Аристотелю, совпадает с центром Земли) были введены в астрономию знаменитым математиком Евдоксом (408–355 до н. э.). Он был не только замечательным астрономом, но и выдающимся математиком. Так как Евдокс, несомненно, являлся учеником Платона, то, движимый желанием осуществить идею своего учителя – объяснить сложением круговых движений странные движения планет по небу, он сделал остроумную попытку получить видимые движения планет (а также Солнца и Луны) сочетаниемравномерных вращательных круговых движений.
Поставленная задача Евдоксом была, в общем, разрешена, и в эпоху Аристотеля его теория концентрических сфер пользовалась большой славой. Аристотель тоже принял ее и в своем большом сочинении «О небе» (в четырех книгах) широко ею воспользовался. Общее число сфер Евдокса Аристотель даже увеличил до 56 (сам Евдокс пользовался только 27 сферами).
Чтобы вкратце пояснить читателям наиболее простым способом, зачем понадобились эти сложные системы концентрических сфер, напомним прежде всего, как двигаются по небу Солнце, Луна и планеты. Это нам будет необходимо для понимания не только построений Евдокса – Калиппа – Аристотеля, но и гениальной системы мира, выдвинутой Николаем Коперником.
Луна и Солнце перемещаются по небесному своду с запада на восток, по одним и тем же созвездиям (созвездия зодиака): Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. По этим же 12 зодиакальным созвездиям движутся все пять планет, видимых простым глазом.
Движения по небу двух «нижних»планет – Меркурия и Венеры – представляются менее сложными, нежели движения планет «верхних»(Марса, Юпитера и Сатурна). Обе эти «нижние» планеты всегда бывают видимы на небесном своде недалеко от Солнца, т. е. или на западе, послезахода Солнца (иначе говоря, по вечерам), или утром, но уже на востоке, т. е. до восхода Солнца. При этом и Меркурий, и Венера то постепенно отходят от Солнца, то приближаются к нему, пока, наконец, не скрываются в его лучах.
Гораздо более сложным и запутанным представляется движение планет «верхних». Посмотрим на прилагаемый рисунок. На нем изображен видимый путь Марса в 1932–1933 гг. Внимательно рассматривая этот рисунок, мы по цифрам месяцев (римским) замечаем, что сначала, с ноября 1932 года по январь 1933 года, Марс двигался по небесному своду справа налево (с запада на восток), т. е. перемещался по небу «прямым»движением, затем, приблизительно с февраля по апрель 1933 года, Марс двигался слева направо. Такое движение верхней планеты – слева направо – принято называть попятным, или обратным, движением.

Перед тем, как изменить свое прямое движение на обратное, или попятное, каждая верхняя планета как бы совсем перестает двигаться и кажется на фоне данного созвездия некоторое время неподвижной; наступает, как говорят, стояниепланеты. После того, как попятное движение планеты заканчивается, наступает снова стояние планеты, затем планета начинает двигаться по небу опять прямым движением, и т. д. Значит, при своем, в общем, плавном движении по небу все верхние планеты описывают как бы некоторые «узлы», или «петли».
Чтобы дать теперь читателям понятие о приложении сфер Евдокса к объяснению движений небесных светил (Солнца, Луны и планет), постараемся пояснить при помощи этих сфер движение Луны по небесному своду. Для этого вообразим себе три концентрических сферы (см. рисунок): первую сферу, «внешнюю», совершающую полный оборот вокруг оси мира в течение суток с востока на запад; вторую сферу «среднюю», вращающуюся вокруг оси, перпендикулярной к плоскости эклиптики, в течение 18 лет 230 дней; наконец, третью сферу – «внутреннюю», которая должна совершать полный оборот в 27 дней вокруг оси, перпендикулярной к плоскости лунной орбиты. Вращение первой сферы «сообщалось» второй, затем третьей. Евдокс не задавался вопросом о причине, приводящей все эти сферы во вращательное движение.

Вращательное движение первой сферы должно объяснять видимое суточное движениеЛуны по небесному своду; вращательное движение второй сферы должно объяснять движение узлов лунной орбиты; движение третьей – видимое движение Луны по небесному своду в течение одного лунного месяца, т. е. в течение приблизительно 27 суток. Если Луну поместить, скажем, где-нибудь на экваторе третьей сферы, то в результате действительно получится видимый путь Луны на небе, со всеми его главными «неравенствами». Говоря иначе, путем сочетания трех равномерно совершающихся круговых движений является возможным объяснить неравномерное движение Луны по небу.
В результате сочетания многих круговых движений, вводимых Евдоксом, видимый путь планеты на небе должен походить, в общем, на тот, который изображен на другом нашем рисунке. При этом планета описывает в равные времена последовательно дуги 1–2, 2–3, 3–4 и т. д., двигаясь в направлении, указанном стрелкой.
Мы видим, что прямые и обратные движения планет объяснялись при помощи сфер Евдокса. Но Аристотель вводил еще лишние сферы, сферы, «возвращающие назад», чтобы «парализовать» действие системы сфер планеты, более удаленной от Земли, на каждую планету, расположенную ближе к Земле. Это крайне осложняло систему Евдокса; в итоге в космологической системе Аристотеля получалось 55 сфер. Но затем Аристотель ввел некоторое упрощение, и тогда число сфер у него уменьшилось до 47. Для объяснения же вращательных движений всех сфер Аристотель вводит еще 56-ую сферу, которую называет «первым двигателем». Эта самая внешняя сфера, обнимая собой все остальные, приводит во вращение все другие сферы неба. В свою очередь сферу «первого двигателя» приводит в вечное круговращение божество. Божество Аристотеля, таким образом, заменяло собой машину, которая приводит в круговращение многочисленные сферы вселенной.
При всем том влиянии, которым пользовался Аристотель, его мнения не служили для его современников и ближайших их потомков такими непререкаемыми, какими они стали в средние века. Это лучше всего доказывается тем, что не прошло и полвека после смерти Аристотеля, как Аристарх Самосский выступил со своей новой системой мира. Эта система, вопреки Аристотелю, утверждает, что Земля не неподвижна; она движется вокруг Солнца и вокруг своей оси. Теория Аристарха отличалась от построений пифагорейцев не только тем, что она вместо «огня» делала центральным телом Солнце, но и тем, что была основана на наблюдениях и разных математических расчетах. Аристарх даже определил отношение радиуса земной орбиты к радиусу лунной. Правда, полученная им величина этого отношения 19:1 меньше истинной примерно в 20 раз, но ошибка эта имела своим источником плохое качество его угломерных приборов; метод же Аристарха был безупречен.

Вот что говорит об Аристархе величайший математик древности Архимед (287–212 гг. до н. э.): «…По представлению некоторых астрономов, мир имеет вид шара, центр которого совпадает с центром Земли, а радиус равен длине прямой, соединяющей центры Земли и Солнца. Но Аристарх Самосский в своих «Предложениях», отвергая это представление, приходит к заключению, что мир гораздо больших размеров, чем только что указано. Он полагает, что неподвижные звезды и Солнце не меняют своего места в пространстве, что Земля движется по окружности около Солнца, находящегося в центре ее (Земли) пути, что центр шара неподвижных звезд совпадает с центром Солнца, а размер этого шара таков, что окружность, описываемая, по его предположению, Землей, находится к расстоянию неподвижных звезд в таком же отношении, в каком центр шара находится к его поверхности».