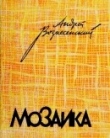Текст книги "Стихотворения. Поэмы. Проза"
Автор книги: Константин Случевский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Безымень
Небольшая лодчонка наша, чуть-чуть покачиваемая стихавшею океанскою зыбью, вошла в заливчик. Высокая иззубренная скала нависла над нами справа и казалась совершенно темною, потому что эта сторона ее, обращенная прямо к востоку, обволоклась тенью, а глаза наши привыкли, за несколько часов морского пути, к сиянью солнечного дня и резкому блеску воды. Я и товарищ мой по пути давно подладились, если можно так выразиться, к мурманскому пейзажу, к отличающему его недостатку людских голосов и безусловному царству звуков морской волны и поэтому были очень приятно поражены хоровою песнею, неожиданно вырвавшеюся из-за скалы нам навстречу.
Это двигалась «сарафанная почта». Почтовый карбас, довольно неуклюжий, но поместительный, прочный, пузатый, шел на веслах нам навстречу, и гребцами, как это здесь постоянно бывает, оказались женщины. Они-то именно и голосили вовсю. Дружно ударяли их весла по воде: одна из женщин стояла очень картинно подле мачты и приготовляла парус для того, чтобы, по выходе из заливчика, поставить его. На руле сидел рыжий помор, в меховой шапке с наушниками, развалившись с некоторым даже изяществом, отнюдь не меньшим, чем то, которое придается на картинах итальянским пастухам, стерегущим стада и наслаждающимся послеобеденным отдыхом подле какой-нибудь исторической развалины. Помор, рулевой на карбасе, расположился так спокойно и удобно именно потому, что море было тихо, а натружаться ему не придется – на то есть женщины, умеющие, в две смены, прогрести сто верст.
Когда маленькая лодчонка наша поравнялась с карбасом, величественно и самоуверенно скользившим, под резкие звуки песни, прямо на нас, отличили мы приземистую, худенькую, темную фигурку почтальона в кепи, схоронившуюся в самом карбасе, между рулевым и мачтою. Маленький, черненький почтальон еле высовывался острием своего кепи из-за толстых бортов карбаса. Кепи, как головное украшение, давно уже отошло у нас в вечность, но на Мурмане их еще донашивают и будут долго донашивать.
Слышались также очень явственно характерные слова бабьей песни:
Ой, маминька, маминька,
Приведи мне писаря,
Писаря хорошего,
Белого, румяного.
Откуда тут, в этой необъятности северного океана, вдруг писарь в песне? или это под стать остроносому кепи почтальона?
– Отчего, – спросил я у одного из наших двух поморов, по имени Яков, – на руле у них сидит не женщина, а мужчина?
Яков объяснил, а другой помор, Степан, подтвердил, что сидеть женщине на руле – стыд для карбаса, трунить начнут. Он прибавил даже, как именно начнут трунить, что скажут, как назовут. Назовут нецензурно, но пластично.
Быстро промелькнула сарафанная почта мимо нас и унесла с собою песню. Заливчик, в который мы втянулись, оказался невелик, и на темневших очертаниях его скал резко белели два предмета. На одном из камней высилась небольшая пирамидка, сложенная из закругленных водою катышей, так называемый гурий, или кекурий, поставленный кем-либо по обету или на память о каком-нибудь крушении; в углублении бухты виднелась лопарская вежа, покрытая дерном и побелевшими шкурами старых, седых оленей, и раскинутые на жердях сети и мережи.
Мы подошли к веже почти вплотную; Яков соскочил на берег с концом веревки в руке, а Степан, долговязый, худой, неуклюжий, по-здешнему «долгарище», прибрал весла, подсунув их нам под ноги.
– А долго ли нам стоять можно будет? – спросил я у Якова, вспоминая о том, что с приливами и отливами тут шутить нельзя и упускать их из виду невыгодно.
– Воду простоим; вишь, она теперь припухла, на прибыли; уйдет – ляжем, полежим, покуда опять вспухнет, тогда и уйдем.
Цель нашей поездки состояла в уженье рыбы в небольшой речке, не носящей даже имени, впадающей здесь в океан. Нам говорили, что эта речка очень забавна, потому что в ней и навага, и камбала попадаются, предпочитающие, как известно, открытое море. Мы запаслись богатейшим материалом для наживки, а именно – сочными огородными червями, привезенными нами из Архангельска в нескольких жестянках.
Сойдя на берег и заглянув в вежу, мы не нашли в ней никого. Пройти к речке, устье которой было виднехонько, оказалось невозможно, потому что веками навороченные глыбы решительно преграждали дорогу. Предстояло подняться на прибрежные скалы, пройти с версту моховым болотом и затем уже спуститься вниз. Так мы это и сделали и отправились все вместе, закрепив лодку.
Спустились мы со скал к речке с большим трудом, не без помощи рук, едва не поломав удилищ, цепляясь за громадные глыбы камней, разобрались, принялись за уженье, и дело спорилось: рыбы было много и вся она жадная.
– А что, брат Яков, – сказал я нашему помору, когда удочки были заброшены и лов шел удачно, – скажи-ка: есть тут у вас привидения?
– Какие это?
– Да такие вот, что что-нибудь привидится, ночью, что ли!
– Как не бывать.
– Да ты видал?
– Не видал. Боюсь. А вот Степан, тот видел.
– А он не боится?
– Нешто станет бояться, коли всякий заговор знает!
– А что это за привидения, Степан? – обратился я к другому помору. – Какие они тут у вас? с рогами? с хвостом?
Степан сомнительно покачал головою.
Он, с самого прихода нашего на речку, растянулся навзничь по сухому песку побережья, во всю длину свою, и, подложив руки под голову, глядел на небо. Небо было желтовато-тускло; над морем лежала так называемая «марь», заволакивающая даль, как туман; она обуславливается густыми, теплыми испарениями и солнечным светом. В этой золотистой мари обыкновенно облаков заметно не бывает, они не очерчиваются; все блестит, лучится и сливается в один золотистый, определенный свет; трудно сказать: на что именно так упорно смотрел в небо Степан, спрошенный о привидениях.
– Как же это ты видел привидение? расскажи.
– Я не видал. Его видеть нельзя, потому что на нем лица нет.
– Так как же Яков говорит, что ты видел?
– Видел.
– Что же ты видел, если лица нет?
– Безымень ему имя, ну и видел, – ответил Степан, поднявшись с лежки и упершись на один из локтей.
«Безымень ему имя», – подумал я и сообразил, что это значение почти то же, что «видеть не видавши»; два выражения – одного поля ягода. Мой товарищ, слушавший разговор наш, натаскал за это время несколько наваг; он вмешался, заинтересовавшись безымянностью имени привидения.
– Да где же это было? где ты видел невидимое привидение? – спросил он.
– В байне.
– То есть в бане?
– По-вашему баня, а по-нашему байня. Пошел я, это, раз в байну сайпу варить.
– А что это такое – сайпа?
Поморы переглянулись и улыбнулись, точно показались мы им неучами.
– Ну, да, что это – сайпа?
– По-вашему мыло, – отвечал Степан.
– Как мыло? Да разве у вас мыло люди сами для себя варят? Слышно, тут и совсем мыла не знают?
– Как не знать мыла; а как же покойников моют? Вашего-то мыла, точно, зачастую нет у нас, а своего-то как не быть; на что ребятишки, тех если не мыть, что с ними будет; на то и сайпа!
– Да что же это – сайпа?
– А вот, если в кипятке ворвани развести, да с золою смешать, вот она сайпа и будет, так и делаем… Так пошел я, это, в байну. До того люди невесту в ней выпарили, так жару-то развели вдосталь! Поставил я, это, ведерко на полочку, начал золу сгребать, а он тут как тут.
– Безымень?
– Точно. Сам и был.
– А по виду-то как он?
– Да нет у него виду.
– Однако же руки, ноги есть?
– А не ведаю.
– Да ведь ты видел?
– Видел.
– Ну, роги, хвост – есть?
– Не знаю.
– Да лицо-то, рожа у него какая?
– Нет у него лица, одним словом – безымень.
– Ну, так ты, значит, не видал его, а только слышал? – проговорил я, как бы желая помочь Степану дать мне желаемое объяснение.
– Кабы слыхал, а не видал, так так бы и говорил вам, – ответил он, как будто даже немного обиженный.
Обиделся за него и Яков, но только покачал головою.
Мы с товарищем переглянулись. Видимо было, что идти дальше в расспросах о не имеющем лица привидении представлялось невозможным. Оба помора удовлетворялись каким-то ликом без лица, чем-то, где-то, когда-то начер-тившимся в памяти их, в далеком детстве, чем-то неуловимым, необъяснимым, бесформенным, но несомненно существующим.
Кто пригляделся к туманным, неясным очертаниям северного поморья, к его тающим миражам, к тусклости воздуха, облекающей даль, с исключениями для немногих светлых дней, где и в светлые дни не сходит с горизонта марь, тот поймет возможность нарождения в народной фантазии этой удивительной «безымени», привидения без очертаний, облика без лица. Представить себе его не поморским воображением невозможно.
Сообщение поморов оказалось так характерно, что нельзя было, не стоило как-то расспрашивать дальше. Уженье продолжалось.
Вдали, за заливчиком, виднелся бесконечный океан, заснувший в глубоком покое.
«Море слосело», – говорят в этом случае поморы.
Я смотрел на окрестность. Речка делала перед нами, прыгая по камням, большую излучину, «хоботину», как здесь называют; солнце опускалось; начала показываться к вечеру мелкая, неприятная мошка – «мухарь». По обоим берегам речки виднелись длинными рядами «бадни», то есть подмытые водою, опрокинувшиеся в нее деревья.
«Если, – думалось мне, глядя на эти деревья, – так неопределенны очертания фантастических представлений в голове помора, то, взамен этого, как четко следит он за тем и определяет особым именем то, что дает ему его скудная природа. Вот хотя бы слово „бадня“ для подмытого водою дерева; на Руси подобного слова и определенного понятия, требующего особого слова, кажется, нет, а тут есть. Если ветром выворочено дерево на матерой земле и торчит корнями и там, где оно стояло прежде, образовалась яма – помор называет такую яму „баглень“, а это опять-таки очень определенное слово для очень определенного самостоятельного понятия, которого на Руси, кажется, нет».
Время шло, мы «простояли воду», и море снова стало «пухнуть»; необходимо было кончить с уженьем, чтобы поспеть вовремя в недалекое становище. Под самый конец удалось мне видеть то, о чем я только слыхал. Едва забросил я лесу, что-то быстро потянуло поплавок книзу; я сильно дернул, подсек; серебряная, довольно длинная навага забарахталась в воде, и не успел я вытащить ее всю, как за хвост ее уцепилась другая навага, и обе они не замедлили очутиться на береговом песку. Говорят, бывают случаи, что вытаскивают таким образом сразу по три штуки, когда наваги много, а прожорлива она всегда.
Вечер опускался удивительно тихий. По мере приближения солнца к горизонту золотистая марь голубела, прояснялась, и по совершенно «слосевшему» морю, далеко кругом, виднелись поморские шняки. «Безымень» загуляла по поморью.
Моленье ветру
1
В мрачной, молчаливой необъятности осенней ночи северного поморья тонкою, желтенькою полоскою только что обозначился восток. Полоска света все росла, удлинялась, становилась лентою, все краснее, шире и выше, и по мере того, как заревой свет отвоевывал себе в небе все большую и большую площадь, отвесные скалы мурманского берега, на их тысячеверстном протяжении от Норвегии до Святого Носа и дальше, в глубь Белого моря, по его западной окраине, проступали все яснее и яснее. Скалы тоже тянулись лентою, но темною, каменною, неподвижною, тогда как небесная заря противопоставляла им ленту света не неподвижную, живую, быстро уширявшуюся, как бы кем-то рисуемую; она, эта лента зари, могла бы на этот раз, как это здесь часто бывает, и вовсе не появляться, если бы не случилось на небе, со стороны востока, прогалины в тучах.
При первом зарождении дневного света встрепенулся на мурманском побережье прежде всего его пернатый мир. Закричали неисчислимые чайки, гагары, утки, нырки, лебеди и буревестники и, слетая один за другими мириадами, словно свеваемые ветром, со всех выступов, изо всех щелей прибрежных гранитов, налегли, каждая птица по-своему, на воду. Одни из них потянули стремглав в прояснявшуюся даль, другие закружились широкими кольцами на месте, третьи, то взвиваясь отвесно, то перепархивая на недалекие расстояния, толпились вдоль ближних утесов, не отваживаясь далее, четвертые сели на воду, а тяжелый глупыш только слетел со скалы на ближний песок побережья и снова сел и будто уснул. Во всех сказались особые характеры.
Осенний день воцарялся.
Но еще раньше пернатых проснулись женщины по очень немногочисленным прибрежным деревням и поселкам Кандалакского побережья; только этого не было так заметно потому, что женщины закопошились в домах своих. Закопошились они потому, что эти дни поздней осени – важные для них дни, а именно; возвращались к ним одни за другими поморы с дальних промыслов – мужья, отцы, дяди, сыновья и братья. И это было не простое возвращение после разлуки, длившейся все лето, – нет, это было возвращение, полное самых трепетных, самых потрясающих неожиданностей. На бесконечных протяжениях тех мест нет ни торных путей, ни обыкновенной почты, ни телеграфов, и весть о гибели того или другого суденышка, того или другого человека может не прийти к его семейству до самой зимы. С подобными условиями возвращения «своих» людей «баломонить» – шутить, «басалаить» – повесничать не приходится, и вот почему все домашние хозяйства, или, по здешнему, «обрядни», в лице их хозяек зашевелились раным-рано, ранее пернатых просыпавшегося поморья.
По мере того как проникалась светом темень ночи, меркли огоньки в окнах селения, ясно обозначавшие в ночи его широкое протяжение вдоль берега.
Проснулась раньше других, а то, пожалуй, и совсем не спала – Марфа, бездетная жена помора Еремы, баба молодая и красивая. Вот уже пятую осень встречает она, вместе с другими женщинами, возвращающихся; никогда не встречала она Ерему с радостью, как-то встретит она его теперь, когда полюбила другого?
Да и как не любить этого другого? И другие его любят. Когда он, этот другой, Петр по имени, раннею весною захилел в лютой болезни, так что не только на промысел выйти не мог, но всему поселку «блазнило» – мерещилось, что смерть его возьмет, у девок только и речи было что о нем. Возвратилось наконец здоровье, но Петру нечего было и думать идти на дальние промыслы; где за ними угонишься, когда промышленников уже с апреля месяца по всему океану разбросало? Оставалось Петру одно – береговая ловля; выходил он в море недалеко, по соседству, много раз возвращался и опять уходил, а одна из девушек, Агафья, та всегда его раньше других встретит, да и смотрит, смотрит, глаз с него не сводит, а когда удается, ласковым словом подарит.
Не слушает Петр этих слов Агафьи, не хочет видеть этих взглядов ее, потому что все его помышления к бедной Марфе ластятся, будто струи морские берег облюбовывают и то лазурью отливают, когда тихо, то пенистым буруном бьют, если мысль о суровом муже ее к другим мыслям примешается.
А возвратится Ерема, пожалуй, не позже как сегодня. Что-то будет? Что-то случится?
Еще вчера решено было бабами, что, для обеспечения благополучного возвращения промышленников, нужно им «ветер молить», потому что за последнее время дует он все не оттуда, откуда желательно; с севера бы ему холодом дохнуть и пригнать шняки поморские к пристаням, а он, то и дело, по звезде кругом ходит, никакой прочности нет в нем.
По-своему ожидает возвращения мужа Марфа.
Поморский дом – двухэтажный, деревянный и по внешности своей, по белым занавескам у окон, по окладам образов, по мебели и, в особенности, по дивану с деревянною спинкою и ручками, бог весть откуда сюда попадающему, но обязательному в мало-мальски достаточном хозяйстве, всегда почти обманывает в мысли о достатке хозяина. Хозяин всегда беднее, чем можно судить по обстановке и, в особенности, по одеяниям женской половины семьи.
Много и у Марфы жемчугов на кокошниках; хороши ее сарафаны из тяжелых шелковых тканых материй, прошитые золотою и серебряною нитью, сложенные один на другом в длинном, зеленом, разными фигурками украшенном сундуке. Круглые, пузырчатые, финифтяные пуговицы одного из сарафанов, несомненно старовенецианской работы, торговал как-то барин-англичанин, приезжающий сюда чуть не ежегодно на рыбную ловлю, но Марфа их не продала. Сундук с сарафанами такая же необходимая принадлежность в достаточном поморском доме, как диван, самовар и занавески.
Еще недавно перебирала Марфа сарафаны, надевала их и становилась перед зеркалом, одна-одинехонька. Как ни плохо было зеркало нижегородской работы, с неподвижною рябью по стеклу, но все-таки оно служило, и Марфа, невольно поглядывая на себя, думала:
«Пригожа, нечего сказать, пригожа! но ведь и Агафья тоже пригожа! ее темные хитрые очи лучше, видно, моих, серых… Злая она девка, ехидная, но зато в себе совсем свободна… а я? – я нет».
И вились черные мысли в голове Марфы, и все ей казалось, что ведь может же лгать и Петр, что, если он ей теплое слово говорит, целуя, так это только для отвода… умней ее Агафья! «Сквилить» – насмехаться – мастерица, и это Марфа очень хорошо знает. И как это Агафья ей насмешливо вчера вечером сказала:
– А ветер молить придешь, Марфушенька?
– Приду, – ответила ей сквозь зубы Марфа, и защемило ее сердце, защемило глубоко. И не надо было ей быть такой смущенной…
Теперь, при близости возвращения, тяжесть налегла на душу еще сильнее; Марфа вовсе не ложилась спать. Так темна и непроглядна была эта завершающаяся ночь! А что же будет в долгое зимнее время, когда эта ночь потянется целых три месяца и все надо будет быть с ним, с этим суровым Еремой, тут, в этом доме, с глазу на глаз. Порою, правда, соберутся люди на вечерницу, песни будут петь, плясать, но ведь потом еще хуже, опять все по домам разойдутся, и опять Ерема с ней, опять бесконечная ночь! вся жизнь сосредоточится в стенах немилого дома, потому что в глубокую темень трех месяцев что же может значить улица? О, как знакомы Марфе эти скучные стены! Вот то место на стене, против кровати, где теперь висит мужнина шапка; как часто мерцала эта белая стена полуночным розовым светом северного сияния и чернела другая его шапка – треух, шитый из оленьего меха с тремя отгибающимися на уши и на затылок отворотами; огромный треух необходим в море.
Приедет Ерема с промысла, наденет снова вот эту шапку, а свой треух повесит.
«Починить разве, посмотреть!» – мелькнуло в мыслях Марфы, и она переставила небольшую керосиновую лампу на комод, под шапку, сняла ее, осмотрела; надо чинить; отыскала она «могильник», кожаный игольник с иглами, нитками и другими принадлежностями шитья, и принялась за работу. Шьет, а сама все на часы поглядывает.
Зашипели часы перед боем, ударили раз, два… стали опускаться гири. Марфа сосчитала – пять. Она поспешно бросила работу, накинула душегрейку, платок на голову, погасила лампу и выбежала на двор, заперев за собою на замок двери.
– В последний раз! в последний! до будущего лета, последний раз! а там бог весть что может случиться к тому времени…
Несмотря на глубокую тьму, Марфа шла очень быстро вдоль хорошо знакомой ей тропинки, протоптанной между крупными булыжниками от дома в заполье, от берега моря к скалам, вдоль небольшого потока, шумевшего по камням особенно резко в глубокой, еще чуть тронутой утром ночной темноте.
«Петр уже там, он ждет!» – думала Марфа и торопилась. Несколько раз споткнувшись на пути, отойдя от дома с малого с версту, она остановилась и прислушалась. Ей чудилось, что кто-то следовал за нею. Нет никого! Поток шумел, надутый обильными дождями последних дней, сердито и звучно; кроме него не было слышно ничего в этом подавляющем царстве медленно уходившей ночи; ветер, гудевший с вечера, замолк совсем, что бывает в Мурманё к перемене погоды, но длится очень недолго. Сердце Марфы стучало сильно, назойливо; еще несколько шагов, и ей предстояло свернуть с тропинки в скалы, к давно знакомому месту. Желтая полоска света, обозначавшаяся на востоке, помогла ей разглядеть хорошо известные очертания. Вот налево, поперек потока, поставлен закол для ловли рыбы; значит, надо вправо свернуть. Но кто-то идет сзади! Вернуться навстречу к идущему было делом одного мгновения. Да, да, вот он, еле заметный над камнями в мерцающем свете медленно устанавливающейся зари.
– Петр, Петр! – быстро проговорила Марфа и кинулась к нему…
Но она стала лицом к лицу с Агафьей. Ошеломленная Марфа отшатнулась назад и остановилась как вкопанная.
– Что ж? ветер молить пойдешь али не будешь? – сказала ей, смеясь, Агафья и покачала головою. Резче всего проступали в полутьме ее красивые, белые зубы, открытые улыбкою.
Марфа схватилась за сердце и ничего не ответила.
– Петр прошел, прошел! видела! ждет! – смеясь, добавила Агафья и, кивнув головой, быстро повернулась, захохотала и медленно пошла обратным путем. Марфа могла отличить только, что она, уходя, несколько раз оборачивалась и кивала головою. В помутившемся сознании ее меньше всего чувствовалась воля. Тем не менее, проследив глазами Агафью, она пошла вторично старым путем.
Вот опять, почти поперек тропинки, виднеется загородь закола; надо повернуть вправо, это Марфа как будто помнила. Она двигалась совершенно отуманенная; улыбка и насмешливый взгляд Агафьи мерещились, «блазнили» ей в неверных тенях утра, мигавших мириадами каких-то недобрых серых глаз. «Али не будешь?» – раздавалось у нее в ушах; «прошел! ждет!» – слышалось ей вместе с этим, и злобный смех раскатывался так звучно… ноги ее двигались сами собою, неохотно, неустойчиво; душегрейка, не придерживаемая руками, качалась на плечах и Марфа откинула назад голову.
– Ты слышал? – спросила она его еле внятно, оставаясь в его руках совершенно неподвижною.
– Слыхал! как не слышать! аспид-девка…
– Что-то будет теперь со мною? – еще тише проговорила она и припала головою на грудь помора, обессиленная, безответная, холодная…
2
Часу в десятом утра того же дня кипела на берегу моря бабья «завороха»; заворохой называют на Мурмане всякое общественное дело.
Собрались бабы на берег «молить ветер» о счастливом возвращении промышленников, и особенно людно стало побережье верстах в двух от поселка к северу, к океану. Острым мысом выдавался здесь берег. Отвесные утесы его, сажен в двенадцать вышины, не касались непосредственно волны; между ними и волнами тянулась широкая песчаная полоса и обрамляла подножие черных скал. Если на это место ударяло солнце, пески казались розовыми; если солнца не было, как в день бабьей «заворохи», – они лежали бледные, почти белые. Всегда сумрачны и черны оставались угрюмые граниты, возвышаясь над песками. Полоса песку белела подле них, будто белые тесьмы вдоль черных похоронных одеяний. На самом конце мыса нависала и самая высокая часть скал: остроконечная шапка гранита, когда-то расщепленная, расселась надвое и образовала два острых рога, заметных с моря издали; на эти скалы держали обыкновенно рулевые, направляясь к селению, и скалы эти так и назывались в народе рогами. К самому поселку, в хорошую погоду, направлялись между мысом и небольшим безымянным островком, лежавшим как раз против него в полуверсте расстояния; в дурную погоду приходилось давать большой круг и подъезжать к селению с юга, так как с северной стороны камней было видимо-невидимо, и все они в отлив выступали, блестя на солнце.
Ни одной травинки не виднелось далеко кругом ни по песчаной полосе, ни по валунам, ни на скалах. Мог быть зеленым цвет выкинутых на песок водорослей, но они, лишенные воды, быстро желтели и облегали берег длинными, параллельными бугристыми рядами.
Оживление на побережье было большое, но кроме женщин и детей не было никого. Было холодно, почти морозно. На всех виднелись тулупы и душегрейки, на головах платки, а на ногах темнели высокие, по колена, сапоги. Одни из женщин приехали на лодчонках, к которым то и дело подплывали новые; другие прибежали пешком и, собравшись в кучки, толковали более всего о предстоящем возвращении поморов.
– Сын-то у меня одиночка, Власьюшка, на него вся надея! – говорила сорокалетняя баба своим собеседницам. – Што, как не придет. Надысь Николе Морскому богу молилась… обещание дала сюда прийтить.
– По вере, значит, по своей, в церковь не ходишь? – ответила ей широкоплечая Пелагея, пятидесятилетняя крупная баба-раскольница. – Дело, что в церковь не ходишь, а сюда пришла!
– И другожды – в другой раз – милости просим, – подтвердила другая раскольница.
Поодаль от разговаривавших, у самого края воды, копошились в двух-трех местах мальчишки, камни швыряли, дрались, балясничали. Девушки составили свои кружки, и одна из них рассказывала другим, как ее дядинька с теткой новый дом строить хотят; среди них виднелась и Агафья, то и дело поглядывавшая в сторону к поселку, откуда она ожидала прибытия Марфы. По глади прибрежных песков бегали взад и вперед собаки. Запоздавшие лодки между тем продолжали подплывать; подходили из поселка, одиночками и попарно, женщины и девушки. Заметила Агафья, еще издали, шедшую на бабью завороху Марфу.
– Глянь-ко, девушки, Еремина спесивица тоже жалует, – проговорила она. – Знать, тоже измаялась, по муже извелась.
– Муж мужу рознь, – возразила Агафья. – Ерема скоро и совсем «залетен», по-местному – стар, станет…
– Широки ворота запрешь, а мирского ротка не забьешь, Агафьюшка! это о тебе люди пословицу сложили, – ответила девушка. – Гляди, как бы опосля и на тебя какой сплетки не вышло! Ссорить да мутить ты горазда! Агафья не удостоила эти слова возражением и, взяв под руки двух ближайших к ней товарок, повела их в сторону к поселку, навстречу к медленно подходившей Марфе, и начала им свое повествование:
– Только что сбежала я по тропинке к заколу, – говорила она, – рано утром, чуть свет, как слышу, сзади меня Петр идет: я, это, в камни-то и приткнулась…
И раздавался рассказ Агафьи навстречу приближавшейся Марфе, и она слышала его.
Если утром на ранней заре спряталась Агафья от Петра, как пугливая ящерица, в камни, то в полном свете дня, на людном берегу, навстречу Марфе, она не пряталась более. Темные глаза ее, когда соперницы повстречались, проводили Марфу неподвижным, холодным взглядом, и все три девушки, шедшие под руки, даже уступили бледнолицей женщине дорогу. Так очищают путь встречные люди похоронному шествию…
С приходом женского населения на берег моря продолжалось исполнение старинного обряда, начатое еще накануне. К этому же самому месту ходили женщины еще вчера к вечеру, начали молить ветер, чтобы он не серчал и «давал льготу» дорогим летникам-промышленникам; вчера ночью собирались они на ближайший поток, после заката, мыли котлы и били камнем или поленом флюгарку, чтобы она «тянула поветерье»; тогда же, под звуки, издаваемые флюгаркою, пересчитывали они поименно, кто кого вспоминал, но исключительно только плешивых сельчан и знакомых, стараясь насчитать их числом трижды девять, и отмечали каждого сосчитанного углем на лучинах; Агафья назвала Ерему. Уже в глубокую ночь, с этими помеченными лучинами в руках, ходили бабы под Задворкам и, переименовывая добрые и недобрые ветры, голосили во все горло:
– Веток да обедник, пора потянуть, запад да шалоник, пора покидать, тридевять плешей все сосчитаны, пересчитаны, встокова плешь наперед пошла!
И пока выкрикивали бабы эти слова, бросали они лучины себе через голову, а затем припевали:
– Встоку да обеднику каши наварю и блинов напеку, а западу-шалонику спину оголю, у встока да обедника < жена хороша, а у запада-шалоника жена померла!
В ту же глубокую темень предшествовавшей ночи следовал осмотр брошенных лучин, – как которая упала? Гаданье предсказывало, что на следующий день ветер будет с той стороны, в которую ложились лучины крестами. Желателен был, конечно, ветер северный, пригонявший суденышки с моря, но не все лучины обещали такой ветер, и вот с этими-то неподатливыми, дурными пророками предстояла своеобразная расправа.
Пелагея-раскольница явилась как бы прирожденною распорядительницею, запевалою всей совершавшейся обрядности. Окинув взглядом побережье и видя, что все в сборе, подняла она с земли старую флюгарку и ударила в нее камнем. Резкий, хриплый звук старого железа, насквозь проржавевшего за долгие годы, разнесся далеко по побережью, и сколько ни виднелось кругом женских голов, все они сразу повернулись в сторону звука. Пелагея, ударившая всполох, неустанно продолжала свою музыку, и все немедленно направились к ней; женская толпа, стянувшаяся к раскольнице, как к центру, обступила ее плотным кольцом, легкий пар от дыхания задымился возле нее по широкому кругу. Одни только собаки продолжали рыскать по-прежнему, и над всем этим в полной неподвижности поднималась отвесная, темная скала с ее двумя острыми рогами.
Пелагея, увидев, что все собрались, положила подле себя наземь флюгарку, бросила камень и стала спрашивать: у кого те лучины с собой принесены, которые вчера на дурной ветер пали?
– Вона, во! на мою! – завопили по сторонам ее многие бабы и девушки, и белые лучинки, просовываясь к Пелагее между платков и тулупов, замелькали в толпе во многих местах.
– Ну, а тараканы, девушки? – спрашивала Пелагея.
– И тараканы тут, – раздалось с нескольких сторон одновременно.
– Сажай их, девушки, сажай, как установлено, – быстро проговорила Пелагея. – А нам тем временем лодки справлять!
Толпа, для приведения в исполнение слов Пелагеи; раздалась пошире, и во многих местах началось оригинальное сажанье тараканов на лучины: сделаны расщепы и в каждом из них, на каждой лучинке, ущеплено по таракану.
– Теперь, кто готов, на воду, детки, на воду! – кликнула Пелагея. – Да смотри не мешкать – вода уходит!
Вода действительно уходила с быстротою, заметною для глаз, будто кто гнал море прочь от берега; крайние к берегу струи воды будто слизывали пески, укатывая, унося с собою самые легкие песчинки. Бабы и девки, с лучинами в руках, кинулись было к лодкам, торопились вскочить в них, собираясь отъехать от берега и пустить на воду лучины, чтобы «тараканы северный ветер подняли», как вдруг кто-то из оставшихся на берегу неожиданно крикнул:
– Наши плывут! наши!
Этого клика было совершенно достаточно, чтобы быстрое, суетливое движение на берегу обратилось мгновенно в неподвижную живую картину. Все глаза обратились к одной стороне, к северу, и острое зрение поморянок не замедлило отличить в указанном направлении несколько черных точек. Если бы эти черные точки, поморские шняки, держали не на рога, не к поселку, им предстояла другая путина – левее, далее от берега; если бы это были не свои, а чужие люди, они, в этот час отлива, не отваживались бы, для сокращения пути, идти этим местом, между темными грядами быстро обнажавшихся повсюду камней.
Дрогнули многие сердца на берегу, дрогнули неодинаково; бились, должно быть, сердца и тех, что были в море, потому что, иначе, зачем бы такая торопливость, короткий путь в непогоду выбирать? Усиливавшийся с севера ветер убеждал в том, что шняки будут на месте никак не более как через час. Женщинам предстояло немедленно отправляться в обратный путь к селению, кто как прибыл. Одни повскакали в лодки и отчалили, другие пошли к пескам, и вся эта масса серых и темных цветов, все эти бабы, девки, мальчишки и собаки, временно оживившие пустынное побережье, свеялись с него в одну сторону, к селению, словно опавшие листья, гонимые ветром по осени. Это был тоже своеобразный, быстрый отлив людей, только иные силы отгоняли их, чем те, что отгоняли одновременно с ними убегавшее море.