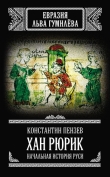Текст книги "Из истории клякс. Филологические наблюдения"
Автор книги: Константин Богданов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В действиях этого странного композитора <…> нам всегда хотелось узнать тот психологический процесс, с которым он творит. – Знает ли он хоть сколько-нибудь музыку? спрашивали мы многих.
– Нисколько, отвечали нам.
– Каким же образом он пишет?
– Он умеет писать ноты, т. е. знает их внешний вид и для этого обыкновенно берет нотной бумаги, берет потом большое гусиное перо и начинает с него брызгать чернилами на бумагу. Образовавшиеся от этого точки соединяет в связки, разбивает их потом на такты. Если точек кажется ему мало, так прибавляет их несколько от руки; пишет над всем этим: dolce, crescendo, diminuendo, и конец делу! [147]147
И дальше: «Все это петербургская публика однако ездит слушать, с целию конечно потешиться над маэстро, а между тем тот собирает с нее деньги, очень ловко отвертываясь, когда его настойчиво начинают спрашивать, почему он только 30 целковых предъявил для доброго дела, и таким образом в этом случае Бог еще знает, кто кого дурачит. У нас видно пока еще только и житье одним подобным личностям: толцыте и отверзится!» (Петербургский великий пост // Библиотека для чтения. 1861. Т. 164. Апрель. Смесь. С. 1–2).
[Закрыть]
Так некогда удачно найденный образ в очередной раз продемонстрировал свою эвристическую и, в данном случае, инвективную эффективность. Лазарев бесследно исчез с российских музыкальных подмостков, и последние годы его жизни (даже дата смерти) неизвестны. Интересным и равно грустным в жизненной истории «абиссинского маэстро» является то, что из сегодняшнего дня его музыкальные сочинения представляются пусть и дилетантскими, но вполне приемлемыми и, во всяком случае, не менее грамотными, чем сочинения его главного противника – Серова [148]148
Так, по мнению Леонида Сабанеева, просмотревшего партитуры Лазарева, хранившиеся в начале XX века в Публичной библиотеке Санкт-Петербурга: «Музыка Лазарева вовсе не оказалась музыкальным бредом или нелепицей, как составилось мнение в музыкальных кругах. Это оказалось музыкой вполне грамотной, несколько устарелого стиля, скорее приближающейся к музыке эпохи Баха – Генделя – Глюка, чем к музыке той эпохи, когда подвизался Лазарев (пятидесятые годы прошлого века), довольно старомодно оркестрованной и, может быть, несколько тусклой, но вполне приемлемой и, между прочим, менее дилетантской, чем оперы самого критика – Серова. Конечно, это ни в какой мере не гениальные произведения, но вполне приемлемые» ( Сабанеев Л.Воспоминания о России. М.: Классика-ХХI, 2005 – цит. по: www.belousenko.com/books/memoirs/sabaneev_vosp_o_rossii.htm).
[Закрыть]. Кстати сказать, по иронии судьбы и боготворимый Серовым Вагнер в те же годы удостаивается от своих критиков точно таких же обвинений, какие выпали на долю Лазареву, а именно тех, что он пишет свои партитуры, «как попало разбрызгивая чернила на нотную бумагу» [149]149
Цит. по: Перрюшо А.Сезанн. М.: Молодая гвардия, 1966 (bookz.ru/authors/anri-perru6o/jzl29/page– 10-jzl29.html).
[Закрыть].
Традиция сатирического изображения композиторов, «кляксящих» нотную бумагу, на этом, конечно, не завершилась. В 1911 году в потоке газетных и журнальных откликов на первые исполнения симфонической поэмы А. Н. Скрябина «Прометей», озадачившей слушателей оркестровой масштабностью (композитор расширил привычный состав оркестра, добавив в него орган, партию фортепьяно и большой смешанный хор) и кажущейся хаотичностью звучания (известны собственные слова Скрябина о «фиолетовом хаосе» на вступительных аккордах «Прометея»), нашлось место тому же стародавнему мотиву. Видный в ту пору авторитет музыкальной критики, автор многочисленных музыковедческих монографий Н. Д. Бернштейн писал по свежему впечатлению от услышанного:
Музыка Скрябина оставляет такое впечатление, как будто он не писал по нотной системе, а прямо-таки сажал кляксы. И вот оказалось, что пятен вышло больше, чем нотных линеек в партитуре [150]150
Петербургская газета. 1911. 10 марта – цит. по: Ванечкина И. Л., Галеев Б. М.Поэма огня: концепция светомузыкального синтеза А. Н. Скрябина. Казань: Издательство Казанского университета, 1981. С. 67. Первое исполнение «Прометея» состоялось в Москве 2 марта 1911 года в Большом зале Благородного собрания; второе – в Петербурге 9 марта 1911 г. под управлением С. Кусевицкого с участием в качестве пианиста самого Скрябина.
[Закрыть].
Образ музыканта, как и художника, выдающего кляксы за произведения искусства, остается в силе и сегодня. Но вот трансформацию самого «метода клякс» можно счесть парадоксальной.
6
Пейзажные работы Козенса, положившие начало, так сказать, реабилитации клякс в живописи, нашли свое продолжение в работах его ближайших учеников и немногих последователей. С технической точки зрения бесформенные брызги пятен могли быть истолкованы (и пример Козенса служит тому практическим свидетельством) как первичные к самому изображению. В России начала XIX века во мнении любителей искусства примером удачной импровизации, обязанной случайно пролитой кляксе, мог послужить анекдот о художнике Александре Осиповиче Орловском (1777–1832):
Орловский, бывши коротко знаком с Дидло, как-то навестил знаменитого балетмейстера на даче его, на Аптекарском острове, под Петербургом. Усталый Дидло приехал из города с репетиций так поздно, что домашние его уже отобедали; Орловский был с ним. Проголодавшийся хореограф, будучи необыкновенно пылкого нрава, приехал взбешенный на какие-то беспорядки в театре и тут же спросил чернильницу и бумаги, дабы написать несколько строк в театр. В пылу негодования Дидло опрокинул огромную чернильницу, и чернила пролились на дубовый стол, тогда как слуга готовился накрыть его скатертью. Орловский, не обращая внимания на новую вспышку Диддо, воспользовался чернильным пятном и, в несколько мгновений, нарисовал из него пальцем дикобраза. Весь гнев хозяина дома, как ни был силен, при виде зверя, рождавшегося под рукой Орловского, исчез; а на следующий день Дидло купил в городе стекло на импровизированный рисунок и поставил его в рамку [151]151
Рамазанов Н.Материалы для истории художеств в России. Кн. 1. М.: В Губернской типографии, 1863. С. 234.
[Закрыть].
Николай Рамазанов, рассказавший об этой истории в своих «Материалах для истории художеств в России», извлекал из нее ту добродушную мораль, что «вот как иногда уважает художник художника» (там же), но в то же время заставлял задуматься об интенции, направляющей руку художника в изобразительных поисках и восприятии этой интенции со стороны. Если в случае Орловского клякса стала стимулом к созданию художественного образа, то как происходит само это превращение – и как оно опознается внешним наблюдателем? Ведь то, что является или представляется кляксами на взгляд извне, может не быть таковым в глазах художника, видящего в бесформенных пятнах их изобразительное «оформление». Такими, например, по рассказу того же Рамазанова, казались современникам наброски Карла Брюллова к своим картинам, из воспоминаний о котором известно, что, приступая к изображению, он наносил на бумагу чернильные пятна, казавшиеся зрителям лишенными какого-либо прообраза, подразумеваемого, однако, самим художником:
На одном из приятных вечеров в доме нашего славного художника графа Ф. П. Толстого, в то время, когда в зале раздавалась музыка и веселый говор, Брюлов сидел в угловой комнате, за письменным столом. Перед ним лежал лист писчей бумаги, на котором был начерчен эскиз пером. Его застали в ту минуту, когда делал он на бумаге чернильные кляксы и, растирая их пальцем, тушевал таким образом рисунок, в котором никто из присутствующих ничего не мог разобрать. При вопросе: «что Вы делаете, Карл Павлович?» он отвечал: «это будет осада Пскова!» и начал затем распутывать содержание эскиза из чернильного хаоса: «Вот здесь будет в стене пролом, в этом проломе самая жаркая схватка. Я через него пропущу луч солнца, который раздробится мелкими отсветами по шишакам, панцырям, мечам и топорам. Этот распавшийся свет усилит беспорядок и движение сечи» <…>. Многие просили Брюлова подарить им этот эскиз, сделавшийся вдруг для всех понятным; но художник в ту же минуту разорвал рисунок, говоря: «из этого вы ничего не поймете!» Таким образом, некоторые любители видели зародыш картины осады Пскова, к сожалению оставшейся незаконченною [152]152
Там же. С. 196. Тот же мемуар: Русские люди. Жизнеописание соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы. Т. 2. СПб.; М.: Изд. М. О. Вольфа, 1866. С. 89–90.
[Закрыть].
«Зародыш картины», различаемый в кляксах на бумаге, в данном случае предполагает свое развитие в полноценное изображение. Но можно представить и то, что такого развития не происходит, а ценность угадываемого изображения оказывается тем выше, чем многозначнее и вариативнее его (умо)зрительное завершение. «Запятнанный» эскиз Брюллова, с этой точки зрения, вполне нашел бы для себя место в ряду принципиально «недооформленных» произведений, которыми так богата история живописи на пути, условно говоря, от академизма, натурализма и реализма к импрессионизму, абстракционизму и ташизму.
В 1850-е годы изобразительные эффекты клякс занимают внимание Юстинуса Кернера (Justinus Kerner, 1786–1862). По профессии Кернер был врачом (получившим известность за впервые описанную им клиническую картину заболевания, позднее названного ботулизмом). Вместе с тем он писал прозу и стихи (примыкал к поэтам т. н. «швабской школы» – Карлу Майеру, Густаву Пфицеру, Вольфгангу Менцелю), серьезно интересовался магнетизмом и спиритизмом (написал биографии Месмера и наблюдавшейся им в течение долгих лет «ясновидящей из Префорста» – Фредерики Гауффе), пропагандировал игру на варгане (а также использование ее в психотерапии) и во мнении своих друзей и знакомых (среди которых был В. А. Жуковский) славился как разносторонне одаренный, но чудаковатый и эксцентричный меланхолик. В 1857 году Кернер закончил книгу, названную им (по подсказке одного из его друзей) «Кляксографии» («Kleksographien» – от диалектного Kleks), с воспроизведением 50 чернильных клякс и приложением к ним 38 стихотворений. В 1890 году, спустя много лет после смерти Кернера, ее издаст его сын Теобальд [153]153
Kerner J.Kleksographien. Mit Illustrationen nach den Vorlagen des Verfassers. Stuttgart etc.: Deutsche Verlags, 1890 (доступно на сайте: diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kernerl890).
[Закрыть]. Творчество Кернера, склонного к мистицизму и навязчивым переживаниям [154]154
В детстве Кернер страдал нервными приступами рвоты, что, возможно, также сказалось на странностях его характера и умонастроения: Shiller F.Doctor Justinus C. A. Kerner (1786–1862), and His Own Case of Juvenile Hyperemesis // Journal of the History of the Neurosciences. 1993. Vol. 2. No. 3. P. 217–230.
[Закрыть], и раньше отличалось пугающим «потусторонним» колоритом. В «Кляксографиях» этот колорит является однозначно преобладающим (причиной этого, по мнению биографов поэта, были прогрессирующая слепота, смерть жены и экзогенная депрессия поэта).

Все стихотворения, составившие этот сборник, разделены на четыре красноречиво озаглавленных части: «Memento mori», «Вестники смерти» («Todesboten»), «Образы из царства мертвых» («Наdesbilder»), «Образы из ада» («Höllenbilder») и представляют собою рассуждения на тему неотвратимости смерти и макабрические портреты тех персонажей, которые чудились поэту в симметрично развернутых, получающихся при сложении бумаги, и частично дорисованных им кляксах. В целом это мрачная галерея, поэтически отсылающая к образности страшных сказок немецкого фольклора и традициям романтической мифологии: призраки, ведьмы, демоны, злобные духи и гномы (кобольды), дьявольские гримасы, пугающие уродцы, насекомые и куклы и т. д. [155]155
О «Кляксографиях» Кернера см предисловие и комментарии Понтера Гримма в: Kerner J.Ausgewälte Werke / Hrsg. von G. Grimm. Stuttgart: Reclam, 1981. См. также: Hofmann K. L., Praeger С.Bilder aus Klecksen. Zu den Klecksographien von Justinus Kerner // Kerner J.Nur wenn man von Geistern spricht. Briefe und Klecksographien / Hrsg. von Andrea Berger-Fix. Stuttgart; Wien: Thienemanns, 1986. S. 125–152; Schmitz-Emans M.Die Literatur, die Bilder und das Unsichtbare: Spielformen literarischer Bildinterpretation vom 18. bis 20. Jahrhundert. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1999. S. 219–248; Schmitz-Emans M.Das Klecksbild als Medium. Visuelle Metamorphosen und spiritistische Praxis bei Justinus Kerner // Im Zauber der Zeichen. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mediums / Hrsg. von Jörn Ahrens und Stephan Braese. Berlin: Verwerk 8, 2007. S. 88–102.
[Закрыть]Поэтические находки Кернера в ряде случаев замечательны: таково, например, едва ли не гениальное четверостишие, навеянное увиденным в кляксе образом бабочки, обнаруживающее при всей своей простоте интертекстуальное богатство отсылок к популярной в литературе XVIII–XIX веков аналогии между преображением гусеницы в бабочку, а смертного тела в бессмертную душу [156]156
Об истории образа см.: Богданов К. А.Врачи, пациенты, читатели. С. 88–92.
[Закрыть]:
Aus Dintenfleken ganz gering
Entstand der schöne Schmetterling.
Zu solcher Wandlung ich empfehle
Gott meine flekenvolle Seele.
[Из совсем немногих чернильных пятен
Образовался прекрасный мотылек.
К такому превращению я представляю
Богу и мою многозапятнанную душу] [157]157
Kerner J.Ausgewälte Werke. S. 392.
[Закрыть].
Можно заметить, что в определенном отношении Кернер воспроизводил мотивы, уже представленные к тому времени в немецкой литературе. Так, в «Избирательном сродстве» Гете (1809) упоминание о чернильном пятне, случайно поставленном героиней на письмо, оказывается значимой деталью, предвещающей дальнейшие трагические события. В памфлете Клеменса Брентано «Филистер до, во время и после истории» (1811) клякса – в напоминание о пятне, оставленном чернильницей, которую Лютер бросил в привидевшегося ему черта, – становится метафорой филистера, отталкивающий образ которого рисуется хотя и обывательским, но оттого не менее зловещим и едва ли не демоническим. В «Золотом горшке» Гофмана (1814) невзгоды, свалившиеся на студента Ансельма, также начинаются, как вспомнит читатель, с пролитых чернил:
Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос; с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный шнурок лопается, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою; чашки, тарелки, чернильница, песочница летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное донесение. «Вы, сударь, взбесились!» – рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь.
Страх поставить чернильное пятно преследует Ансельма и далее, когда он устраивается работать переписчиком к таинственному архивариусу Линдгорсту, который требует от него надлежащей аккуратности при работе с загадочным манускриптом («чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастие»). Но несчастье, увы, происходит:
он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. <…> Тем не менее, он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти; в нетерпении он потряс пером, и – о, небо! – большая капля чернил упала на развернутый оригинал.
Обыденное событие немедленно получает фантасмагорическое развитие:
Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурею, из них вырвались сверкающие огненные василиски, зажигая пары, так что пламенные массы с шумом заклубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. <…> Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии – поднять руку или сделать движение. Ах! он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста.
Мотив пролитых чернил, открывающих у Гофмана вход в потустороннее и запредельное, возникает перед счастливым концом истории Ансельма еще раз – в упоминании чернильницы, из которой выпрыгивает черный кот старой ведьмы:
Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости и вместе с ним исчезла в дверь [158]158
Гофман Э. Т. А.Золотой горшок: сказка из новых времен / Пер. B. C. Соловьева. М.: Советская Россия, 1991 – цит. по: lib.ru/GOFMAN/ gorshok.txt.
[Закрыть].
Остается гадать, помнил ли Кернер о «Золотом горшке», когда сочинял свои «Кляксографии», но повествование Гофмана, постоянно балансирующее на грани яви и иллюзии, сатиры и мрачного сарказма, так или иначе остается хронологически прецедентным к литературной и изобразительной традиции, связывающей само представление о кляксах с мотивами пугающего Иного и смерти [159]159
Этого, кажется, не учитывают Ингрид и Гюнтер Эстерле, вписывающие опыт Кернера в широкую традицию использования пятен и клякс в изобразительном искусстве, но не оговаривающие того, что «Klecksographien» – это не только изображения, но еще и литературный текст: Oesterle I., Oesterle G.Der Imaginationsreiz der Flecken // Signaturen der Gegenwartsliteratur. Festschrift für Walter Hinderer/ Hrsg. von Dieter Borchmeyer. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999. S. 213–238.
[Закрыть].
Последующая традиция экспериментирования с чернильными пятнами связана с Козенсом и Кернером не непосредственно, но концептуально и типологически, – попутно поиску новых форм художественной выразительности. Так, например, можно счесть симптоматичным, что графическим произведениям Козенса замечательно близки живописные работы Виктора Гюго (1802–1885). Творчество писателя, главы и теоретика французского романтизма, заслонило в истории культуры творчество Гюго-художника. Между тем изобразительное наследие Гюго насчитывает почти четыре тысячи сделанных им иллюстраций и рисунков, которые высоко ценили Делакруа и Ван Гог. Из сегодняшнего дня многие из них воспринимаются как предвестие абстрактного экспрессионизма и сюрреализма [160]160
Escholier R.Victor Hugo artiste. Paris: Crès et Cie, 1926; Stelzer O.Die Vorgeschichte der abstrakten Kunst. München: R. Piper & Co., 1964. Изобразительные работы Гюго представлены в: 64 Dessins de Victor Hugo: Les travailleurs de la mer et autres marines / Gravés par F. Méaulle, imprimés par P. Mouillot. Paris: Atelier des reproductions artistiques, 1882; Dessins de Victor Hugo / Gravés par Paul Chenay, texte par Théophile Gautier. Montpellier: Archange Minotaure, 2002.
[Закрыть]. Так это или нет, они, по меньшей мере, любопытны благодаря технике, близко напоминающей как blotting Козенса – чернильные пятна и разводы, определяющие собою общую художественную композицию: пейзаж, портрет или абстракцию, – так и «кляксографию» Кернера – интерес к гротеску и демонической образности [161]161
Так, Франклин и Мэри Роджерс полагают, что Гюго мог испытать прямое влияние Козеяса ( Rogers E. R., Rogers M. A.Painting and Poetry: Form, Metaphor, and the Language of Literature. Lewisburg: Bucknell University Press, 1985. P. 31 ff.), а Дарио Гамбони типологически сближает Гюго и Кернера: Gamboni D.Potential Images: Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art. London: Reaction Books, 2002. P. 55–59. См. также: Barrere J.-B.Victor Hugo’s Interest in the Grotesque in His Poetry and Drawing // French 19th Century Painting and Literature / Ed. by Ulrich Finke. Manchester: Manchester University Press, 1972. P. 258–279.
[Закрыть]. Широкая публика смогла увидеть эти работы в 1888 году на выставке, организованной галереей Жоржа Пети (Georges Petit), а после 1902 года они вошли в постоянную экспозицию парижского дома-музея писателя на Плас дю Вож.
7
Убеждение в том, что случайные пятна могут поспособствовать эффектному живописному решению, могло, конечно, разделяться и теми, кто был далек от мысли видеть в них целенаправленный художественный прием. Примером такого рода может служить один из эпизодов в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого с описанием талантливого художника Михайлова за работой над рисунком – эпизод, в котором поклонник Козенса нашел бы, вероятно, лишний довод в пользу техники blotting’a:
Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он все-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками.
– Так, так! – проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу. Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и, несомненно, определена [162]162
Толстой Л. Н.Собрание сочинений в 22 тт. Т. 9. С. 42. Еще один пример из русской литературы, обыгрывающий живописные возможности случайных пятен, – рассказ А. И. Куприна «Куст сирени» (1894). Герой этого рассказа, офицер Алмазов, готовясь к последней практической работе в Академии генерального штаба, от усталости сажает на чертеж картографического плана, представляемого им к экзамену, большое пятно зеленой краски и, чтобы не переделывать всю работу, превращает пятно в изображение деревьев. Профессор выражает сомнение в том, что на известной ему местности есть растительность, и обязывает Алмазова на следующее утро отправиться вместе с ним к указанному в плане месту. Находчивая жена Алмазова спешно собирает все ценные вещи, закладывает их в ломбарде. На вырученные деньги они покупают кусты сирени и сажают их там, где те соответствуют изображению на плане. Профессор на месте признает свою ошибку, и для Алмазова все заканчивается хорошо.
[Закрыть].
Толстого, конечно, меньше всего можно заподозрить в симпатии к живописным новшествам, да и живописи вообще, но тем занятнее, что пафос правдоискательства не исключает здесь роли случая и интуитивного озарения.
Не забыт в это время и собственно метод Козенса. Мстислав Добужинский упоминает в своих мемуарах об увиденном им в детстве в офицерском собрании Кишинева заезжем «художнике-моменталисте», поразившем его «хитрым умением сделать пейзажи из случайной кляксы» [163]163
Добужинский М. В.Воспоминания. М.: Наука, 1987.
[Закрыть].
В истории русской культуры традицию изобразительно-литературной «кляксографии» в духе Кернера можно усмотреть в каллиграфических экспериментах Алексея Ремизова (1877–1957). О каком-то заимствовании в данном случае говорить нельзя: для Ремизова внимание к кляксам было взаимосвязано с письменной образностью как таковой, изобразительной символикой алфавита и шрифта. Сам писатель вспоминал, что художественные достоинства клякс он открыл для себя в подготовительном классе гимназии на уроках чистописания:
Я расчеркнулся – и разорвал бумагу. Беру другую страницу и начал путать и закручивать – и получилась грязь <…>. Хотел поправить и посадил кляксу. И испугался. Я не знал еще, какие чудеса можно сделать из любой кляксы: ведь чем кляксее, тем разнообразнее в кляксе рисунок, а из брызг и точек – каких-каких понаделать птиц, да что птиц, чего хочешь: и виноград, и китайские яблочки, и красных паучков [164]164
Ремизов A. M.Подстриженными глазами // Ремизов А. М.Собрание сочинений. Т. 8. М.: Русская книга, 2000. С. 38. Об «эстетике кляксы» в творчестве Ремизова упоминается в: Маркадэ И.Ремизовские письмена // Aleksey Remizov. Approaches to a Protean Writer / Ed. by G. N. Slobin. Columbus: Slavica, 1986. P. 130.
[Закрыть].

Это открытие стало своего рода навязчивой идеей, которую Ремизов – удивлявший своих современников пристрастием к разного рода чудачествам – последовательно воплощал в создаваемых им рисунках, «грамотах», которые он вручал своим знакомым (членам придуманного им общества «Обезвелволпал» – «Обезьянья Великая и Вольная Палата»), в графических альбомах, а также в иллюстрациях к печатным и рукописным текстам [165]165
Многие из них воспроизведены в издании: Обатнина Е.Царь Асыка и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата A. M. Ремизова в лицах и документах. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2001.
[Закрыть]. В какой степени такие рисунки были преднамеренными, а в какой – случайными, остается гадать. В «Кукхе» Ремизова есть история о том, как чернила, опрокинутые на изготовленную им для В. В. Розанова рукопись жития Моисея Угрина, стали стимулом к рисунку, «оживившему» старинный текст о чудесах и чертовщине:
Переписывал я ее старательно с завитками и усиками. И когда все было готово, и, не знаю как, задел я чернильницу, чернила на рукопись, я рукопись отдернул – чернила и разбрызгались. И вот из этих-то пятен, стрел, серпов и волн вышел рисунок: черти с Бабой-Ягой неслись, за ними нежить, нечисть – взвив и взихрь бесячий [166]166
Ремизов A. M.Кукха. Розановы письма // Ремизов A. M.Собрание сочинений. Т. 7. М.: Русская книга, 2000. С. 90.
[Закрыть].
Само письмо в этих случаях переплетается у Ремизова с иллюстративностью, контаминирующей текст и изображение, – выразительный пример того, что в современной лингвистике называют гибридными, или креолизованными, текстами [167]167
Анисимова Е. Е.Паралингвистика и текст (к проблеме креолизованных и гибридных текстов) // Вопросы языкознания. 1992. № 1. С. 73.
[Закрыть]. Такое сочетание предполагалось и у Кернера, но в более традиционной – почти «эмблематической» форме, объединяющей изображение (imago seu pictura), эпиграмму (epigramma) и надпись (inscriptio seu lemma, соответствующую у Кернера названиям разделов сборника). Ничего этого у Ремизова нет, но – при всех отличиях – есть и общее: схожее с Кернером тяготение к потустороннему, таинственному и (квази)фольклорному. Ремизов не изображает «вестников смерти» и «образы из ада», но тоже превращает кляксы в монструозные химеры. Стоит заметить и то, что Ремизов знал о Кернере, обмолвившись о нем именно в демонологическом контексте – в повествовании о страннике, изгоняющем заклинанием кикимору:
Помянул бы добрых отцов XVIII века: L’abbé de Villars, Pére Bougeant, Don Pernetty, милующих всю Божью тварь: и сильфов и саламандр и ундин и гномов: помянул бы и Юстина Кернера, покровителя духов [168]168
Ремизов A. M.Иверень // Ремизов A. M.Собрание сочинений. Т. 8. С. 421. Замечу, что в «Аннотированном указателе имен в произведениях A. M. Ремизова», помещенном в заключительный 10-й том этого издания, ни одно из вышеперечисленных имен не упоминается, зато приводится примечание: «В указателе фиксируются только имена и лица, реальное существование которых подтверждено документами» ( Ремизов A. M.Собрание сочинений. Т. 10. М: Русская книга, 2003. С. 520). Нужно ли из этого заключить, что существование Кернера не подтверждается документами?
[Закрыть].
Речь при этом идет, несомненно, о Кернере – авторе мистических и спиритических книг («Ясновидящая из Префорста» к тому же могла быть известна Ремизову в русском переводе [169]169
Кернер Ю.По ту сторону смерти: Записки ясновидящей. СПб.: Типография «Родник», 1909.
[Закрыть]), а не авторе «Кляксографий». Но даже если Ремизов ничего не знал о кляксах Кернера, тем интереснее, что тематические пересечения подкрепляются у обоих авторов еще и сходством их иллюстративной графики.
В качестве собственно поэтического мотива, типологически продолжающего традицию «Кляксографий», упомянем здесь же о зловещих метафорах чернил и клякс у Николая Клюева в стихотворении «Сергею Есенину» (1917). В апокалиптическом видении гибели литературы и ее творцов, погрязших в равнодушии и безверии, смерть не грозит лишь «певцам любви и веры», и адресат Клюева – один из них:
Бумажный ад поглотит вас
С чернильным черной сатаною,
И бесы: Буки, Веди, Аз
Согнут подстрочников фитою.
До воскрешающей трубы
На вас падут, как кляксы, беды,
И промокательной судьбы
Не избежат бумагоеды <…>.
Подстрочной пламень во сто крат
Горючей жупела и серы.
Но книжный червь, чернильный ад
Не для певцов любви и веры [170]170
Клюев Н.Сочинения. Т. 1. Munchen: A Neimanis, 1969. С. 94.
[Закрыть].
8
Первые десятилетия XX века стали, как это ясно в ретроспективе европейской культуры, временем кардинальных новшеств в области изобразительной, литературной и музыкальной эстетики. В ряду этих новшеств «спрос на кляксы» можно счесть и широким, и закономерным. Литературные дискуссии о характере художественного реализма, в музыке – интерес к атональности и додекафонии, в живописи – к пересмотру принципов визуального подобия, способов передачи перспективы и т. д. – закрепили за мотивом чернильных пятен своего рода манифестное значение. Показательным примером может служить лекционное турне Давида Бурлюка в Японии в 1920 году. Выступая в Токийском университете, Бурлюк без лишних слов «объяснил» аудитории суть футуризма тем, что расплескал чернила на висевший на сцене лист бумаги [171]171
Евдаев К.Давид Бурлкж в Америке. Материалы к биографии. М.: Наука, 2002. С. 67.
[Закрыть]. В психологическом и собственно методическом отношении такая дидактика в целом выглядит тем успешнее, чем большим демократизмом наделяется сама сфера искусства. О кляксах, призванных равно эпатировать обывателя и приверженцев элитарного искусства, в первые десятилетия XX века вспоминают футуристы, сюрреалисты, дадаисты, обнаруживающие здесь при всех своих расхождениях симптоматичное сходство. Так, Илья Зданевич, выступавший перед русской публикой Монпарнаса в 1922 году, наставительно рассуждал о живописной эффективности клякс как условии изобразительной непредсказуемости и творческой свободы художника:
В детских журналах часто помещают рисунки из клякс – несколько случайных клякс дают при обработке рисунок.
И здесь же указывал на теоретиков и лидеров современного ему экспериментального искусства, высказывавшихся за кляксы: Андре Бретона, Франсиса Пикабиа, в России – Михаила Ларионова и уже умершего к тому времени В. Маркова (псевдоним Вальдемара Матвея) [172]172
Гейро Р.Доклад футуриста Ильи Зданевича (Париж, 12 мая 1922) // Поэзия и живопись. Сб. трудов памяти Н. И. Харджиева / Сост. М. Б. Мейлаха и Д. В. Сарабьянова. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 524, 534.
[Закрыть]. При интересе к абстракционизму и беспредметности кляксы – наряду с другими не(до)оформленными элементами и приемами изображения – обретают значение «праформ» и/или признаков вещей и идей. Так, в частности, в том же 1922 году искусствовед Николай Тарабукин истолковывал важность чернильных пятен в творчестве художников-«неопримитивистов» Михаила Соколова и Льва Бруни. Для Соколова работа «над фактурой чернильного пятна» преследует, как можно думать, «и чисто живописные, и чисто графические цели, решая их или чисто плоскостным образом, или прибегая и к иллюзионистическим приемам для выражения объемных форм». У Бруни же эксперименты «над композиционной стороной пятна, брошенного на плоскость без всякой преднамеренности», объясняются помимо прочего придуманной им «теорией „следа“»:
У всякого материала есть свой след. Всякий способ оставляет также свой след. Так, огонь обладает своим следом, а любая жидкость – своим. Отсюда прожженная бумага как след огня. Чернильное пятно как след чернил. Правда, его теория не так проста, но не место здесь касаться ее мистической подоплеки [173]173
Тарабукин Н. [М.]Современные русские рисовальщики и граверы (1922) / Публ. Г. И. Вздорнова // Наше наследие. 2009. № 89–90 – цит. по: www.nasledie-rus.ru/podshivka/8907.php.
[Закрыть].
Чуть позже Василий Кандинский, отстаивая приоритеты беспредметной живописи и теоретизируя о точке и линии как первоэлементах изобразительной «грамматики», будет не менее мистическим образом акцентировать относительность и трансформативность границ точки, приобретающей в его описании соразмерность с исходной произвольностью живописного пятна:
В реальности точка способна принимать бесконечное множество форм: ее окружность может <…> тяготеть к иным геометрическим и, в конечном счете, произвольным формам. <…> Невозможно установить границы, царство точки беспредельно [174]174
Кандинский В.Точка и линия на плоскости // Кандинский В.Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука-классика, 2005 – цит. по: philologos.narod.ru/kandinsky/kandinsky-pl.htm. Впервые: Kandinsky W.Punkt und Linie zu Fläche: Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. München: A. Langen, 1926.
[Закрыть].
Иллюстрируя свой тезис, Кандинский приводил в книге ряд бесформенных точек, которые вполне могли быть уподоблены кляксам, предстающим примерами вариативности живописных первоэлементов, предопределяющих саму возможность визуального выражения и зрительного восприятия. Многообразие форм, которые способна принимать точка, соотносимо при этом с геометрической бесконечностью и ее мыслимыми свойствами – изоморфизмом пространства, числа и звука («музыкой сфер»). Произведение искусства – и прежде всего абстрактное произведение искусства – демонстрирует обратимость точки-звука-числа, но не меняет их онтологической сущности: при всех своих изменениях точка (и, добавлю от себя, живописное пятно или клякса) «внутренне предельно сжата» и «обращена внутрь себя» – ее изобразительная «энергия» состоит в обратимости «идеи» и ее потенциальных реализаций, каждая из которых может быть одновременно понята как символ «разрыва, небытия (негативный элемент), и в то же время, как „мост“ между одним бытием и другим (позитивный элемент)» [175]175
Кандинский В.Точка и линия на плоскости.
[Закрыть].
Однако помимо собственно эстетических и идеологических обстоятельств, оправдывавших победоносное вторжение клякс в эстетику, оно получило еще одно веское подкрепление – со стороны науки.
9
К середине 1890-х годов, попутно становлению научной психологии и психиатрии, превратности человеческого воображения, обнаруживающего в бесформенных пятнах определенные (но, как подчеркивал уже Козенс, разные для разных людей) образы, становятся темой ученых дискуссий. Начало использованию чернильных пятен в психологии было положено французским психологом Альфредом Бинэ и его коллегой Виктором Анри, пробовавшими использовать их в ряду других тестов для диагностики интеллекта детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ребенку показывали чернильную кляксу, а он должен был ответить, на что она похожа. В зависимости от того, затруднялся ли ребенок с ответом или наделял кляксу образом, который представлялся самим психологам сколь-либо экстраординарным, делался вывод о степени развития его фантазии [176]176
Binet A., Henri V.La psychologie Individuelle // Annee Psychologique. 1895–1896. Vol. 2. P. 411–465.
[Закрыть]. После того как в 1896 году Бинэ и Анри опубликовали работу с описанием своей диагностики, их идея нашла широкий отклик в среде психологов, которые по роду профессии имели дело с детьми (в частности, занимались их отбором в массовые и элитарные школы). В первые два десятилетия XX века в Европе и Америке появляется целый ряд научных работ, в которых делались попытки уточнить и стандартизировать методику чернильных пятен: исследования Г. Диборна, Е. Шарп, Е. Киркпатрика, У. Пайла, К. Парсонса, Г. Уиппла [177]177
Dearborn G.Blots of Ink in Experimental Psychology // Psychological Review. 1897. Vol. 4. P. 390–391; Dearborn G.A Study of Imaginations// American Journal of Psychology. 1898. Vol. 9. P. 183–190; Sharp E.Individual Psychology: A Study in Psychological Method // American Journal of Psychology. 1899. P. 329–391; Kirkpatrick E. A.Individual Tests of School Children // Psychological Review. 1900. Vol. 7. P. 274–280; Pyle W. H.Examination of School Children. New York: Macmillan, 1913; Pyle W. H.A Psychological Study of Bright and Dull Children // Journal of Educational Psychology. 1915. Vol. 17. P. 151–156; Parsons C. J.Children’s Interpretation of Inkblots: A Study on Some Characteristics of Children’s Imagination // British Journal of Psychology. 1917. Vol. 9. P. 74–92; Whipple G. M.Manual of Mental and Physical Tests. Vol. 1–2. Baltimore: Warwick & York, 1914.
[Закрыть]. В России идеи Бинэ и Анри нашли своего продолжателя в Ф. Е. Рыбакове, включившем серию из восьми чернильных пятен в свой ставший впоследствии знаменитым «Атлас для экспериментально-психологического исследования личности с подробным описанием и объяснением таблиц» (1910) [178]178
Рыбаков Ф. Е.Атлас для экспериментально-психологического исследования личности с подробным описанием и объяснением таблиц. Составлен применительно к цели педагогического и врачебно-диагностического исследования. М.: Типография товарищества И. Д. Сытина, 1910.
[Закрыть]. Еще через семь лет, в 1917 году, в Цюрихе вышла обширная диссертация Шимона Хенса «Проверка фантазии посредством бесформенных клякс у детей школьного возраста, здоровых взрослых и душевнобольных» [179]179
Hens S.Phantasiepriifung mit formlosen Klecksen bei Schulkindern, normalen Erwachsenen und Geisteskranken. Zürich: Speidel & Worzel, 1917.
[Закрыть]. А еще через четыре года будет опубликована работа, которая со временем станет классикой психиатрического тестирования с использованием чернильных пятен и сделает имя ее автора синонимом самой клинической психиатрии, – это «Психодиагностика» ранее учившегося в том же Цюрихе Германа Роршаха (1921) [180]180
Rorschach H.Psychodiagnostik. Bern; Leipzig: Bircher, 1921.
[Закрыть].
В отличие от предшественников, Роршах не ставил своей задачей изучение собственно фантазии. Его интересовали личностные особенности и психопатологические структуры, которые, как он надеялся, могут быть выявлены из анализа реакций, производимых чернильными пятнами на испытуемого. В обращении Роршаха к кляксам его биографы обнаруживают и психологический подтекст. В кантональной гимназии Шафхаузена, где учился Роршах, в выпускных классах было принято вступать в полуофициальные студенческие союзы. Вступление новичка сопровождалось шуточной церемонией и получением клички, которую он отныне носил среди своих коллег. Герман вступил в союз «Scaphusia», где получил прозвище «Клякса» (в написании Klex) [181]181
Сохранилась гимназическая фуражка Роршаха с надписью на изнанке: Klex.
[Закрыть]. Возможно, как полагает один из биографов Роршаха, своим прозвищем будущий психиатр был обязан герою одной из историй его любимого автора Вильгельма Буша – художнику Клекселю (Klecksel); возможно – своей любви к рисованию или популярной в ту пору игре в кляксы (заключающейся в том, чтобы распознавать в чернильных пятнах какие-либо образы и сочинять к ним шарады) [182]182
Ellenberger H.The Life and Work of Hermann Rorschach (1884–1922) // Bulletin Menninger Clinic. 1954. Vol. 18. P. 173–219; Pichot P.Centenary of the birth of Hermann Rorschach // Journal of Personality Assessment. 1984. Vol. 48. P. 591–596.
[Закрыть]. Как бы то ни было, юношеская кличка, в полном согласии с крылатым выражением Плавта, стала вещей: Nomen atque omen est.
Эксперименты Роршаха, проводившиеся им начиная с 1911 года в течение десяти лет, результировались в конечном счете в руководстве, к которому прилагались таблицы с десятью чернильными пятнами (отобранными издателем книги из предложенных автором пятнадцати), пять из которых были цветными. Принципиальным нововведением Роршаха было то, что применение его теста преследовало не ответ на вопрос, чтоименно видит испытуемый, а, прежде всего анализ того, какон это видит, какие детали и способы восприятия пятен участвуют в формировании связываемого с ними образа. Ответы испытуемых были при этом формализованы потрем количественно взаимосвязанным параметрам – локализации пятна (т. е. акцентируется ли в ответе все пятно, отдельные его части или окружающий их белый фон), детерминации (т. е. что выделяется при ответе прежде всего – форма, движение, цвет или светотень) и собственно содержанию (т. е. тому образу или объекту, который испытуемый видит в предложенном ему пятне). Характерно при этом, что содержательная сторона ответов Роршаха интересовала в наименьшей степени, отражая, по его мнению, сиюминутные переживания испытуемых, а не глубинные личностные свойства, проявляющиеся именно в способах восприятия пятен (еще и потому, что испытуемые при этом в наименьшей степени «цензурировали» свои ответы, так как не знали, что считать в данном случае «плохим», а что «хорошим»).

В своей интерпретации ответов, соответствующих предложенной формализации, сам Роршах оставался эмпириком и приверженцем «здравого смысла». Так, например, если испытуемый акцентировал в своих ответах целое пятно, то это отражало его способности к интегрированному, концептуальному мышлению – умению сфокусироваться на главных, а не второстепенных взаимосвязях объекта. Если он выделял мелкие детали – это свидетельствовало о его мелочности (компульсивной ригидности); если белый фон – о негативизме и стремлении к противоречию. Ответы по детерминации формы, цвета и т. д. оценивались столь же дедуктивно: способность к точной передаче в ответе формы пятна указывало на устойчивость внимания и ясность интеллекта; выделение отдельных фрагментов контура – на выборочный характер внимания. Особенности цветового и кинестетического восприятия пятен давали основания диагностировать испытуемых на интровертов и экстравертов: замкнутые люди, как полагал Роршах, склонны к наделению пятен «кинестетическими» характеристиками (движением, позой, жестикуляцией), тогда как импульсивные и эмоционально открытые личности в большей степени акцентировали в своих ответах оттенки и цвет пятен [183]183
Внятное обобщение наблюдений и рекомендаций Роршаха см. в: Gleitman Н.Psychology. New York: Norton, 1991. P. 684.
[Закрыть].