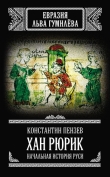Текст книги "Из истории клякс. Филологические наблюдения"
Автор книги: Константин Богданов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Spruzzarino, blotting, Kleksographien: искусство и наука чернильных пятен
1
Пример клякс может считаться если не парадигматическим, то, по меньшей мере, традиционным в истории внимания к роли случайности и предопределения. В ретроспективе культурной истории его предвосхищают уже древние практики гадания, имевшие дело с какими-либо жидкостными пятнами, и прежде всего – гадание по воску (керомантия, кероскопия, от греч. χηρός – воск). Косвенное свидетельство о таком гадании содержится уже в истории Иосифа, где упоминается о серебряной чаше, равно используемой для питья и гадания (Быт. 44:2, 5) [105]105
Ср.: Frazer J. G.Folklore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend and Law. London: The Macmillan Company, 1923. P. 259–261.
[Закрыть]. О распространенности керомантии в греко-римской античности, как это иногда утверждается, приходится судить предположительно [106]106
Джордж Лак включает термин keromanteia в понятийный словарь, приложенный к собранию текстов, относящихся к античной магии, но не приводит примеров, в которых бы упоминалась сама практика гадания на воске ( Luck G.Arcana Mundi. Magic and the Occult in the Greek and Roman Words. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006. P. 501). He упоминает о ней и монографическая статья о воске в словаре Паули-Виссова ( Büll R., Moser E.Wachs und Kerze. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte dreier Jahrtausende // Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Supplementband XIII. München: Druckenmüller, 1974. Spalt. 1347–1416). Для классической античности само слово keromanteia словарно также не засвидетельствовано.
[Закрыть]. Но в средневековой Европе этот вид гадания (как и варьирующее его гадание по расплавленному олову, свинцу и т. д.), по-видимому, уже был действительно хорошо известен и нашел для себя вышеупомянутый научный термин: так, он упоминается в третьей книге «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле (1546) [107]107
«С помощью керомантии? Тогда лей расплавленный воск в воду – и ты увидишь свою жену и ее игрунов» ( Рабле Ф.Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. Н. Любимова. М.: Художественная литература, 1966. Кн. 3, гл. 25 – пит. по: lib.guru.ua/RABLE/rable1_l.txt).
[Закрыть]. Как и любая возводимая к античности практика дивинации, гадание по воску осуждается церковью [108]108
Так, в 1580 году по обвинению в магии и еретическом гадании с использованием воды и воска перед инквизицией предстала знаменитая венецианская поэтесса и «благородная куртизанка» (cortigiana onesta) Вероника Франко; с помощью гадания она хотела определить вора в своем доме ( Rosenthal M. F.The Honest Courtesan: Veronica Franco, Citizen and Writer in Sixteenth-Century Venice. Chicago: University of Chicago Press, 1992. P. 161–165).
[Закрыть], но остается широко распространенным в фольклорно-этнографических традициях Европы еще в конце XIX – начале XX века. Русскоязычный читатель здесь, конечно, вспомнит о «Светлане» В. А. Жуковского («ярый воск топили»), а еще скорее – о святочном гадании в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина:
Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит [109]109
Пушкин А. С.Полное собрание сочинений в 10 тт. Т. 5. Л.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 102. Об истории гадания на воске в России см.: Плотникова А. А.Воск // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под. ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М.: Международные отношения, 1995. С. 442–444.
[Закрыть].
Вариацией керомантии можно считать также популярное для Европы Нового времени гадание на кофейной гуще. В конце XVII века флорентиец Томазо Тампонелли (Thomaso/Thomas Tamponelli/Tompanelli) посвятил этому гаданию целый трактат с подробным описанием надлежащей процедуры приготовления кофе и классификацией образов, за которыми гадающий был волен прозревать свое будущее. При внимании к пятнам и разводам, образуемым кофейной гущей, перечень того, что в них можно увидеть, включает у Тампонелли круги (полные круги предвещают получение наследства; круги с четырьмя точками – разрешение от бремени; два круга – двойню), венки (благоволение знатных особ), ромбы (успех в любви), короны (с крестом – смерть близкого родственника; корона, составленная из треугольников и квадратов, – смерть родственницы), овальные фигуры (успех в делах), треугольники (выгодная должность), четырехугольники (неприятности в супружеской жизни), дома (приобретение дома), птиц (к удаче), рыб (приглашение на обед), змей (измена или коварство), четвероногих животных (огорчение и бедность; за исключением собаки, означающей преданность), колесо (неприятное приключение), сундук (получение письма), запряженную карету (насильственная смерть любимой особы или близкого родственника), фигуры женщин и мужчин (для загадывающего мужчины женщина с палкой означает быть обманутым кокеткой; женщина с цветком – истинную подругу; для женщины мужчина со шпагой – бесчестие и нищенство; женщина на лошади – глупую страсть и дурачество), цветы (роза – к здоровью), букеты, кусты (к препятствиям), деревья (плакучая ива – огорчение и печаль), цифры и буквы и т. д. Впоследствии книга Тампонелли, а также написанные по ее следам руководства многократно издавались на разных европейских языках и попали в ряд ходовых книг «народной литературы», что, как можно думать, также стимулировало интерес к самому принципу случайности и процедуре «всматривания» в неопределенные и причудливые пятна [110]110
Perenna A.L’art de dire la bonne aventure dans la main, et dans le marc de café. Paris: Locard-Davi, 1842. P. 48; Nisar C.Histoire des livres populaires, ou de la litérrature du colportage. T. I. Paris: Librarie D’Amyot, 1854. P. 249. Знала о нем и русскоязычная публика; см., напр.: Великая книга судеб или собрание тайных наук. Соч. Фридерика де-ла-Гранж. М.: В типографии газеты «Русский», 1868. С. 20–26 (здесь он назван как Фома Томпонел-ли). О культурной истории кофе и гадания на кофейной гуще в России XVIII–XIX веков см.: Богданов К. А.О крокодилах в России: Очерки из истории заимствований и экзотизмов. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 56–67; Вигзелл Ф.Читая фортуну: Гадательные книги в России (вторая половина XVIII–XX вв.). М.: ОГИ, 2007. С. 68, 169, 175–176.
[Закрыть]. Наконец, в XIX веке была засвидетельствована и практика непосредственного гадания по чернильным кляксам, названная на ученый лад «энкромантией» (encromancie, от франц. encre – чернила), истоки которой тоже, впрочем, возводятся к глубокой древности [111]111
Worrel W.Ink, Oil and Mirror Gazing Ceremonies in Modern Egypt // Journal of the American Oriental Society. 1936. Vol. 17. P. 37–53; Tobin Y.Divination and Futurology // Semiotik / Semiotics: ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur / Hrsg. von R. Posner, K. Robering, Т. А. Sebeok. Bd. IV. Berlin: Walter de Grayter (HSK. 13.4), 2004. S. 3359.
[Закрыть].
Трудно судить, насколько все эти традиции способствовали теоретизации и, в частности, эстетизации самого приема разбрызгивания красящей жидкости как примера спонтанности и загадочной неопределенности, но стимула к интуиции и творческому воображению они, во всяком случае, не исключали.
2
К середине XVIII века теоретически-специализированный интерес к собственно чернильным кляксам выразился в западноевропейских концепциях музыкальной и живописной алеаторики. Первой (по времени) в этом ряду должна быть, вероятно, названа техника композиторского сочинительства, описанная в анонимно изданном памфлете Уильяма Хэйеса (William Hayes) «Искусство сочинения музыки методом совершенно новым, пригодным к наипосредственной способности» (1751). Инструкция по применению новоизобретенного метода, именуемого здесь Spruzzarino (от итал. spruzzare – разбрызгивать: название, призванное, по авторскому замечанию, заменить собою «вульгарное название Щетка» [112]112
The Art of Composing Music by a Method Entirely New, Suited to the Meanest Capacity. London, 1751. P. 25 («Not by that vulgar name a Brush any longer»).
[Закрыть]), излагается шуточно и сатирически направлена против Барнаба Ганна (Barnabas Gunn, которому она здесь же и приписана), композитора и органиста, о котором мало что известно (умер в 1753 г.), кроме того, что Хэйес был его соперником и противником «итальянского направления» в современной ему музыке:
Возьмите аптечную банку. Налейте в нее чернила того цвета, какой Вы предпочитаете. Положите лист разлинованной бумаги на Ваш клавесин или стол. Затем окуните Spruzzarino в банку. Когда Вы его вынете, то стряхните излишек жидкости, затем возьмитесь за его волокнистую или волосяную часть указательным и большим пальцем левой руки, сожмите их вместе и поднесите его к линиям или тем местам, которые Вы намереваетесь обрызгать. Затем указательным пальцем правой руки слегка подергайте за его конец. После этого Вы увидите на бумаге множество пятен <…>. Когда это будет сделано, <…> возьмите карандаш и принимайтесь за нанесение на нее с самого верха нотных значков или ключей, отмечая такты и превращая пятна в четвертые и восьмые ноты и т. д., насколько Вам подсказывает Ваша фантазия; сначала дискантовые, потом басы, наблюдая за их пропорциональным количеством от предыдущих к последующим. Когда это будет сделано, приправьте его бемолями и диезами по своему вкусу [113]113
Ibidem. P. 29–30.
[Закрыть].
На следующий год Ганн полемически ответил Хэйесу названием изданного им песенного сборника и его эмблематическим фронтисписом, юмористически подтверждавшим признание «новоизобретенного метода сочинительства посредством Spruzzarino» [114]114
Twelve English Songs Serious and Humorous with the Thorough Bass for the Harpsichord Set to Music by the New-Invented Method of Composing with the Spruzzarino to Which is Prefix’d an Occasional Ballad by Way of Preface. Birmingham, 1752. На фронтисписе издания изображены два музыканта, один из которых восклицает: «Twill do! Twill do!», а второй, стоящий у пюпитра с нотной бумагой, разбрызгивает по ней чернильные пятна – в то время как изображенный здесь же великорослый Пан или Сатир наставляет его: «La Spruzzarino, На, На, На». Персонализация музыкантов противоречива: так, например, в мальчике-музыканте, наставляемом Сатиром, Джеми Касслер видит Хэйеса, что как бы переадресовывает ему метод Spruzzarino ( Kassler J. C.The Science of Music in Britain, 1714–1830. Vol. I. New York; London: Garland, 1979. P. 431–439), но представимо и иное истолкование, оправдываемое названием сборника. О возможном контексте полемики Хэйеса и Ганна см.: Deutsch O. E.Ink-Pot and Squirt-Gun, or «The Art of Composing Music in the New-Style» // The Musical Times. 1952. Vol. 93. September. P. 401–403; Charles Avison’s Essays on Musical Expression, with Related Writings by William Hayes and Charles Avison / Ed. by Pierre Dubois. Aldershot: Ashgate, 1988. P. XXX.
[Закрыть].
Термин Spruzzarino, как и полемику двух малоизвестных сегодня композиторов, можно было бы счесть курьезом в истории музыки, но обрисованная Хэйесом техника музыкальной композиции, опирающаяся на произвольность творческого воображения в большей степени, чем на преднамеренный план и рациональное задание, важна самим принципом – принципом соотношения надлежащей музыкальной гармонии и кажущейся хаотичности внешней действительности. Итальянообразное словечко, пущенное в обиход Хэйесом, останется на слуху еще долго: в контексте музыкальной критики конца XVIII века оно подразумевает, в частности, «беспринципную неразбериху», «случайные брызги», когда «бемоли встречаются с диезами», как «при давке в темноте» [115]115
«[U]nprincipled confusion, and the random splashes of the Spruzzarino, where „Flats meet sharps, and jostle in the dark“» (анонимная рецензия на: Burney G.General History of Music, 1789 // The Monthly Review. 1789. Vol. 81. October. P. 300).
[Закрыть]. Однако теория и практика композиционной случайности и спонтанности занимала просвещенные умы эпохи вполне всерьез.

Особенно известными в этом ряду являются опыты т. н. музыки «по кубикам» или «по игральным костям» (Würfelmusik, Dice Music), когда произведение спонтанно комбинировалось из музыкальных отрывков, обозначенных числами на игральных кубиках или игровом поле, на которое бросался жребий. Теоретический почин на этом пути будет положен шестью годами после появления брошюры Хэйеса – и уже вполне всерьез – композитором Иоанном-Филиппом Кирнбергером в трактате «Всевременно готовый сочинитель менуэтов и полонезов» (1757) [116]116
Kirnberger J. P.Der allezeit fertige Menuetten und Polonoisenkomponist. Berlin, 1757. Руководство Кирнбергера представляет собою нотный план, состоящий из шести пронумерованных колонок и восьми строк, каждой из которых соответствует определенный такт сочинения. Клетки таблицы служат для записи комбинации нот, а бросание игральной кости, дающее случайное число от 1 до 6, указывает на номер колонки и строку с обозначением соответствующего такта, начинающего собою очередной такт менуэта.
[Закрыть]. Возможности музыкальной алеаторики интересовали также Карла Баха, Йозефа Гайдна и Моцарта, которому помимо собственно музыкальных произведений с элементами «случайного» сочинительства приписывается якобы найденное в его бумагах «Руководство к сочинению вальсов при помощи двух кубиков» (1793). В соответствии с последним композитору достаточно кидать кубики и по выпавшему количеству очков переписывать отрывки нот в заданной последовательности [117]117
Anleitung zum Komponieren von Walzern vermittels zweier Würfel. Об истории этого текста и проблемах атрибуции см.: Scherchen H.Mozarts «Anleitung zum Komponieren von Walzern vermittels zweier Würfel» // Gravesaner Blätter. 1956, S. 5–14. Подробнее о традиции Würfelmusik в XVIII веке см.: Gerigk H.Würfelmusik// Zeitschrift für Musikwissenschaft. 1934. Bd. 16. S. 359–363; Ratner L.«Ars combinatoria»: Chance and Choice in Eighteenth-century Music // Studies in Eighteenth-century Music: A Tribute to Karl Geiringer on his Seventieth Birthday / Ed. by H. C. Robbins Landon and Roger Chapman. London: Allen & Unwin, 1970. P. 345–350; Hedges S. A.Dice Music in the Eighteenth Century // Music & Letters. 1978. Lix. 2. P. 180–187; Thomas G.«Gioco filarmonico» – Würfelmusik und Josef Haydn // Festschrift Karl Gustav Fellerer zum 70. Geburtstag. Köln: Arno-Volk-Verlag, 1973. S. 598–603; Haupenthal G.Geschichte der Würfelmusik in Beispielen, 2 Bde., Diss. Saarbrücken: Universität des Saarlandes, 1994. В России дань увлечению Wurfelmusik отдал скрипач-виртуоз и композитор Иван Хандошкин; см.: Lebermann W.Das musikalische Würfelspiel des Iwan Jewstafjewitsch Chandoschkin // Die Musikforschung. 1974. Bd. 332 ff.
[Закрыть].
3
Упоминания о разбрызгивании чернил по нотной бумаге в музыкальных опытах алеаторического сочинительства XVIII века являются, впрочем, едва ли достоверными. Это скорее тема для шутки и анекдотического преувеличения – созвучная легендарному рассказу о совсем юном Моцарте, сочиняющем свой первый концерт в неравной борьбе с чернильницей (так что листы бумаги, по выражению одного из его биографов, в конечном счете были «более похожи на карту Черного моря, чем на музыкальный манускрипт») [118]118
Rauff.Mozart: an Artist’s Life // Musical Review and Gazette. 1858. Vol. IX. No. 26. December 25. P. 406–407 (соответствующая главка цитируемой биографии Моцарта «Обещающие пятна» – «Promising Ink-Blots»). История о малолетнем вундеркинде, кляксящем нотную бумагу, восходит к воспоминаниям придворного трубача Иоганна Андреаса Шахтнера. Однажды, когда Шахтнер был гостем в доме Моцартов, отец юного дарования, скрипач и придворный композитор Леопольд Моцарт, показал ему «закорючки нот, написанных поверх стертых чернильных клякс. Маленький Вольферль, работая пером, обмакивал его в чернила до самого дна чернильницы и получал каждый раз жирную кляксу. Он тут же принимал решение, прижимал к бумаге ладонь, смазывал написанное и принимался за дело снова. Поначалу мы не приняли всерьез эти на первый взгляд беспорядочные каракули, но потом Леопольд вчитался в них и надолго застыл в каком-то оцепенении, не в силах оторвать взгляд от листа бумаги. По его щекам покатились слезы восхищения и радости. „Взгляните, господин Шахтнер, – проговорил он, – как здесь все точно и гармонично! Правда, сыграть это невозможно: никто не смог бы исполнить этот труднейший кусок“. „Потому что это концерт, – вмешался Вольферль. – Нужно пробовать и пробовать, пока не сможешь сыграть. Так и должно быть“. И он принялся играть, но ему удалось преуспеть в этом лишь на столько, чтобы мы поняли, чего он хотел добиться. Концепция концерта у него уже созрела» ( Брион М.Моцарт / Пер. Г. Г. Карпинского. М.: Молодая гвардия, 2007 – цит. по: lib.rus.ec/b/178792/read).
[Закрыть]. Но и сам этот анекдот кажется вполне симптоматичным для наметившегося к середине XVIII века интереса к новым формам творческого мышления, не скованного традиционализмом и открытого для свободной фантазии [119]119
Об эстетических предпочтениях и исканиях в области музыкального сочинительства конца XVIII – первой половины XIX века см. замечательную работу: Richards A.The Free Fantasia and the Musical Picturesque. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
[Закрыть]. О том, что интерес этот был общим, свидетельствует и то, что мотив случайных клякс, предопределяющих собою творческий процесс, был востребован в эти же годы в сфере живописи, причем, в отличие от музыки, востребован не (только) в качестве анекдота, а в буквальном смысле, как художественный прием.
Пропагандистом использования нового приема стал английский художник Александр Козенс (Alexander Cozens, 1717–1786). Козенс (родившийся в России и, по легенде, бывший сыном Петра I от англичанки, привезенной им в Петербург) остался в истории живописи выдающимся мастером пейзажной графики, поражавшей современников, однако, не только своим совершенством, но и радикализмом практиковавшегося им нововведения.

Начиная работу, Козенс произвольно разбрызгивал кистью по бумаге пятна чернил или туши, создавая таким образом некую загадочную абстракцию, которая постепенно – путем совмещения беспорядочных пятен с добавляемыми к ним формами – превращалась в законченный ландшафт. Козенс последовательно применял этот метод, названный им blotting (от англ. blot – пятно), как структурную предоснову для создания воображаемых пейзажей также и в своей обширной педагогической деятельности, полагая, что это лучший способ для совершенствования художественной фантазии и собственно технической изобретательности [120]120
В 1760-е годы Козенс преподавал в Итоне и давал, в частности, уроки принцу Уэльскому, Джорджу Бомонту и Уильяму Бэкфорду – трем наиболее влиятельным меценатам и коллекционерам искусства этого времени в Англии.
[Закрыть].
Теоретические рассуждения в обоснование своей практики сам художник изложил в сочинении «Новый метод содействия воображению в создании оригинальных пейзажных композиций» (1785), изданном уже с оглядкой на двадцатипятилетний опыт по его применению. В теоретическом отношении Козенс возводил свой метод, в частности, к цитируемому здесь же «Трактату о живописи» Леонардо да Винчи, который вспоминал о живописцах, умеющих в облаках и пятнах на стенах домов прозревать новые сюжеты [121]121
Cozens A.A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscapes. 1785 (факсимильное воспроизведение: A New Method of Landscape by Alexander Cozens; with a New Introduction by Michael Marqusee. New York: Paddington, 1977). О Козенсе и его методе см.: Lavezzari P.Alexander Cozens, A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscapes. Treviso: Liberia Editrice Canova, 1981; Sloan K.Alexander and John Robert Cozens: The Poetry of Landscape. New Haven: Yale University Press, 1986; Lebensztejn J.-C.L’art de la tache: Introduction a la Nouvelle methode d’Alexander Cozens. Montélimar: Editions du Limon, 1990. P. 467–484; Cramer C. A.Alexander Cozen’s «New Method»: the Blot and General Nature – Painter // The Art Bulletin. 1997. Vol. 79. No. 1. P. 112–129.
[Закрыть].
Обсуждение проблемы эффекта оптических иллюзий и способности воображения придавать им форму, наделяющую их подобием реальности, ко времени Козенса имело и собственно научную предысторию, прежде всего в сфере практического использования оптических приборов [122]122
Bracegirdle B.The Performance of Seventeenth– and Eighteenth-Century Microscopes // Medical History. 1978. Vol. 22. P. 187–195; Богданов К. А.Врачи, пациенты, читатели: Патографические тексты русской культуры XVIII–XIX вв. М.: ОГИ, 2005. С. 76–77.
[Закрыть]. Касались ее и философы, в частности Иммануил Кант, рассуждавший в написанном в те же годы, когда Козенс уже пропагандировал свой метод, «Опыте о болезнях головы» (1764) о том, что
душа каждого человека, даже в самом здоровом состоянии, занята тем, чтобы рисовать себе всевозможные образы отсутствующих вещей, или же тем, чтобы в представлении о вещах, имеющихся налицо, неполное сходство их доводить до полного совпадения посредством той или иной химерической черты, которую вносит в ощущение способность к вымыслу. <…> Когда после пробуждения от сна мы лежим в вялой и изнеженной расслабленности, наше воображение превращает затейливые фигуры на постельном пологе или пятна на ближайшей стене в человеческие образы, приобретающие кажущуюся правильность [123]123
Кант И.Сочинения в 6 тт. Т. 2. М.: Мысль, 1964. С. 233, 234.
[Закрыть].
По мнению Канта, и то и другое – иллюзии, которые, хотя и могут развлекать здоровый ум, могут быть легко им отброшены. Игра воображения в данном случае – это только игра, не заслуживающая того, чтобы быть в той или иной форме материализованной. В изложении Козенса дело обстоит иначе, а его метод, придающий игре воображения именно материализующую направленность, описывается им – в некотором противоречии с тем, что именуется «новым», – как возвращение к основам самой живописи, требующей от художника не примитивного подражания и топографической точности, а фантазии и интуиции, приближающей его к сути природы. Рассуждая при этом о том, начинать ли композицию с эскиза (sketch) или чернильных пятен, Козенс однозначно отдавал предпочтение последним, так как в этом случае художник может сфокусироваться
на общей форме композиции, и только на ней <…>. При эскизе, как правило, идеи переносятся из сознания на бумагу или холст контурной, очень легкой обводкой. При пятнах же разные помарки и формы, оставленные чернилами на бумаге, производят случайные образы без участия линий, в каких идеи представлены для сознания. Это сообразно природе, ведь в природе образы различаются не посредством линий, но оттенком и цветом. Эскиз описывает идеи, пятна вызывают их [124]124
A New Method of Landscape. P. 8–9.
[Закрыть].
Стоит заметить, что, отстаивая метод blotting’a и апеллируя к опыту сообразного(само)выражения природы, Козенс вольно или невольно возвращает нас к спору, о котором можно судить с опорой на того же Леонардо, однако в этом случае такая опора обнаружила бы аргументы, в большей степени согласные с мнением Канта, чем Козенса. Вопреки контексту, в котором он упоминается в трактате Козенса, Леонардо, ссылаясь на Боттичелли, писал о том, что пятно от губки, брошенной в стену, способно вызвать представление о красивом пейзаже, но такое бросание никак не учит мастерству живописи:
Правда, в таком пятне видны различные выдумки, – я говорю о том случае, когда кто-либо пожелает там искать, – например головы людей, различные животные, сраженья, скалы, моря, облака и леса и другие подобные вещи <…>. Но если пятна и дадут тебе выдумку, то все же они не научат тебя закончить ни одной детали [125]125
да Винчи Л.Суждения о науке и искусстве / Пер. А. А. Губера. СПб.: Азбука, 1998. С. 45.
[Закрыть].
Само упоминание о художнике, бросающем в стену окрашенную губку, отсылало к анекдотическому рассказу Плиния Старшего о живописце Протогене, который, пытаясь изобразить собаку, пускающую слюни, кидал в свою картину влажную губку для того, чтобы правдиво передать вид слюны (Plin. Hist. Nat. XXXV.10) [126]126
Janson H. W.The «Image Made by Chance» in Renaissance Thought // De Artibus Opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Panofsky. New York: New York University Press, 1961. P. 262.
[Закрыть]. Иначе говоря, Леонардо не наставлял, а предостерегалхудожников следовать как раз тому методу, который пропагандировал Козенс. Тот же, кому такой метод кажется достаточным, будет, по мнению Леонардо (вероятно, намекающего в данном случае на того же Боттичелли), подобен живописцу, способному разве что на «жалкие пейзажи» [127]127
Элкинс Дж.Истерическая криптография // Элкинс Дж.Исследуя визуальный мир. Вильнюс: Европейский государственный университет, 2010. С. 241.
[Закрыть].
Представление о достаточности или, напротив, недостаточности неких случайных природных форм, позволяющих усматривать в них те или иные живописные образы, обнаруживало в этом пункте проблему, касающуюся различения того, что скрыто самой природой, и того, что в ней может быть усмотрено глазом наблюдателя. Бесформенные пятна, открывающие зрителю природное разнообразие, в этих случаях наследовали стародавней традиции видеть такие образы, например, в распилах окаменелых деревьев (о которых писал Плиний) или облаках, в которых Лукреций усматривал «призраки разных вещей, что от самих вещей отделились» (De rerum natura IV.130) [128]128
Тит Лукреций Кар.О природе вещей / Пер. Ф. Петровского. М.: Художественная литература, 1983. С. 128. Оригинал: «quaqumque ab rebus rerum simulacra recedunt».
[Закрыть].
4
Начиная с эпохи Возрождения, «образы сокрытого» и характер его обнаружения стали стимулом к их музейной («вундеркамерной») классификации в понятиях «естественного, искусственного, экзотического и научного» (Naturalia, Artificialia, Exotica, Scientifica) или «естественного, искусственного и чудесного» (Naturalia, Artificialia, Mirabilia), соответствующая репрезентация которых обязывала к изобретательности (inventio, invenzione) в распознавании случайного и/или преднамеренного [129]129
Schlosser J.Die Kunst– und Wunderkammern der Spätrenaissance. Braunschweig: Klinlhardt & Biermann, 1978; Lugli A.Naturalia et Mirabilia. Il colezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d’Europa. Milano: Mazzotta, 1983; Origin of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth– and Seventeenth-Century Europe / Ed. by O. Empey. Oxford: A. McGregor, 1985; Olmi G.L’inventario del Mondo. Catalagazione della natura e luoghi del sapere nella prima eta moderna. Bologna: II Mulino, 1992.
[Закрыть]. Риторико-диалектическая традиция имела для этого свои понятия, обозначавшие как саму способность к пониманию и воображению (ingenium/ingenio, conceptus), так и те формы (фигуры и тропы), в которых они проявляются. В XVI–XVII веках среди таковых особое внимание уделяется понятиям остроты/остроумия, проницательности (acutus, acumen), замысловатости (argutus/argutia), дискурсивное и визуальное выражение которых требовало использования арсенала иносказаний – метафор, аллегорий, символов, эмблем, совмещающих в себе самые разные и, казалось бы, несовместимые друг с другом элементы [130]130
Lange K.-P.Theoretiker des literarischen Manierismus. Tesauros und Pellegrinis Lehre von der «acutezza» oder von der Macht der Sprache. München: Wilhelm Fink Verlag, 1968; Lachmann R.Rhetorik und Acumen-Lehre als Beschreibung poetischer Verfahren. Zu Sarbiewskis Traktat «De acuto et arguto» von 1627 // Slavistische Studien zum VII intemationalen Slavistenkongress in Warschau. München: Verlag Dr. Rudolf Trofenik, 1973. S. 331–355; Batistini A.Acutezza // Historisches Worterbuch der Rhetorik / Hrsg. von Gert Ueding. Tubingen: Max Niemeyer, 1992. Bd. I. Sp. 88–100.
[Закрыть].
Репутация остроумия предстает при этом двоякой: с одной стороны, оно привлекает возможностями сближения «далековатых понятий», спонтанного озарения и интуиции [131]131
Так, например, определял мастерство остроумия Бальтасар Грасиан, состоящее, по его мнению, «в изящном сочетании и гармоническом сопоставлении двух или трех далеких понятий, связанных единым актом разума» ( Грасиан Б.Остроумие, или Искусство изощренного ума // Испанская эстетика: Ренессанс, барокко, Просвещение. М.: Искусство, 1977. С. 175).
[Закрыть], а с другой – настораживает своей ненадежностью и силлогистической неопределенностью. Так, например, его расценивал Джон Локк в «Опыте о человеческом разумении» (1690), полагая, что
люди с большим остроумием и живой памятью не всегда обладают ясным суждением и глубоким умом. Ибо остроумие (wit) заключается главным образом в подбирании идей и быстром и разнообразном соединении тех из них, в которых можно найти какое-нибудь сходство или соответствие, чтобы тем самым нарисовать в воображении привлекательные картины и приятные видения [132]132
Локк Дж.Сочинения в 3 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1985. С. 205 (Перевод А. Н. Савина).
[Закрыть].
Стоит заметить, что образ, к которому прибегает Локк, в данном случае может быть истолкован непосредственно в эстетических и искусствоведческих терминах. Легко представить, что «привлекательные картины и приятные видения» (pleasant pictures and agreeable visions), которые остроумец, по Локку, создает в своем воображении, могут быть перенесены на холст или, например, воплощены в музыкальном звучании. Говоря иначе, остроумие по сравнению с суждением оказывается причиной и следствием некой репрезентации, которая если в чем себя и оправдывает, то исключительно в области чувств, а не разума.
Ко второй половине XVIII века споры на эти темы насчитывали уже по меньшей мере столетие, восходя к барочным трактатам об остроумии и фантазии. Особенностью философской и эстетической антропологии эпохи Просвещения явилось в данном случае то, что стремление к предельной рационализации в представлении о человеческой природе (вплоть до наделения ее – отчасти уже у Декарта и Гоббса, а радикально и почти карикатурно у Ламетри – элементами машинерии) оттеняется интеллектуальным спросом на иррациональное и парадоксальное [133]133
Jauch U. P.Jenseits der Maschine. Julien Offray de La Mettrie. München; Wien: Carl Hanser Verlag, 1998.
[Закрыть]. Ценности энциклопедического эмпиризма никак не отменяли при этом пафоса интуитивного постижения идеи самой эмпирики. Симптоматично, например, что Козенс, настаивавший на том, что чернильные кляксы для фантазии художника – кратчайший путь к живописно правдивому отображению природы, одновременно занимался ее изобразительной систематизацией, выделяя в ней 16 типов ландшафта, 32 типа деревьев, 20 типов расположения облаков и т. д. Собственно, и сам принцип Энциклопедии, требовавший, казалось бы, безграничного каталогизирования, обернулся к концу XVIII века романтическим призывом к пересмотру аксиоматики чувственного и умозрительного опыта, к самонаблюдению и синтезу, призванным обнаружить в природе единство жизненного и духовного первоначала (Urleben) [134]134
См. показательное и оправданное в этом отношении название недавнего монументального издания, посвященного различным аспектам накопления и изложения знаний во второй половине XVIII – первой половине XIX века: Encyclopedia of the Romantic Era, 1760–1850 / Ed. By Christopher John Murray. Vol. 1–2. New York & London: Fitzroy Dearborn, 2003–2004.
[Закрыть]. В области науки иллюстрацией, примирявшей логический рационализм с интуитивизмом, может служить математика – деятельность Даниила Бернулли, Жозефа-Луи Лагранжа и особенно Леонарда Эйлера [135]135
Напомним, что помимо знаменитых эйлеровских формул, не объяснявшихся с позиций формальной логики (такова прежде всего формула, связывающая тригонометрические функции с показательной (1743): е ix = cos х + i sin х, при доказательстве которой Эйлер использовал возведение в мнимую степень), благодаря его работам в математике утвердилось использование иррационального числа π (в 1767 г. иррациональность π будет доказана Иоганном Ламбертом, а в 1794 г. – Адриеном Лежандром).
[Закрыть]; в области философии – споры сенсуалистов и рационалистов о природе познания [136]136
Асмус В. Ф.Проблема интуиции в философии и математике: (Очерк истории: XVII – начало XX в.). М.: УРСС, 2004. С. 11–65.
[Закрыть]; в области изобретательства – мода на механические автоматы (или автоматоны, как они называются в это время), подражающие поведению животных или людей [137]137
Beyer A.Faszinierende Welt der Automaten. Uhren, Puppen, Spielereien. München: Callwey Verlag, 1983. Dedner B.Ordnungs– und Produktions-maschinen. Mechanische Modelle in Kunst– und Staatsauffassung der Aufklärung // Die Mechanik in den Künsten / Hrsg. von Hanno Möbius und Jörg Jochen Berns. Marburg: Jonas Verlag, 1990. S. 109–119. Особенно знаменитыми в этом ряду стали автоматоны швейцарского механика Анри Майарде (Henri Maillardet) и французского часового мастера Пьера Жаке-Дро (Pierre Jaquet-Droz). Заводное создание Майарде могло нарисовать четыре рисунка и написать три стихотворения, а автоматон-каллиграф Жаке-Дро, завершенный в 1772 году и потребовавший 6 тысяч деталей, писал текст, состоящий из сорока слов: пишущий мальчик выводил гусиным пером буквы, предварительно обмакивая его в чернильницу и, заметим к нашей теме, встряхивая им над нею во избежание клякс (Демонстрацию работы автоматона Майарде, хранящегося во Франклиновском институте, см. на сайте: www.fi.edu/learn/sci-tech/automaton/automaton.php?cts=instrumentation. Об автоматонах Жаке-Дро: en.wikipedia.org/wiki/ Jaquet-Droz_automata).
Автоматон-каллиграф Жаке-Дро
Эти и подобные им механические куклы, в которых из сегодняшнего дня усматривается прообраз роботов и компьютеров, на фоне тогдашних философско-эстетических споров о характере человеческого поведения и мышления воспринимались, однако, как вполне буквальное воплощение механистических аналогий, прилагаемых к человеку ( Sutter A.Göttliche Maschinen: Die Automaten für Lebendiges bei Descartes, Leibniz, La Mettrie und Kant. Frankfurt am Main: Athenäum, 1988; Meyer-Drawe K.Maschine // Vom Menschen: Handbuch Historische Anthropologie / Hrsg. von Christoph Wulf. Weinheim; Basel: Beltz Verlag, 1997. S. 726–737; Fleig A.Automaten mit Köpfchen Lebendige Maschinen und künstfiche Menschen im 18. Jahrhundert // Grenzverläufe. Der Körper als Schnitt-Stelle / Hrsg. von Annette Barkhaus und Anne Fleig. München: Wilhelm Fink Verlag, 2002. S. 117–130). См. упоминания об автоматонах в русскоязычной письменности конца XVIII века: «Между множеством хитро в действие приведенных сих штук, есть автоматы играющие на флей-траверсах» (Журнал путешествия <…> Никиты Акинфиевича Демидова. По иностранным государствам с 17 марта 1771 по <…> 1773 г. М., 1786. С. 56; «Боже мой! вскричал Альфонс: это кукла! Да, кукла, отвечал Телисмар, которую называют обыкновенно Автомат» ( Карамзин Н. М.Деревенские вечера. Пер. из Жанлис // Детское чтение для сердца и разума. М., 1787. Т. XI. С. 135).
[Закрыть].
В своей невысокой оценке остроумия, ограниченного «привлекательностью» и «приятностью» порождаемых им картин и видений, Локк не был одинок в свое время и не останется одинок и позже. История словоупотребления самого этого понятия в XVIII и XIX веках ярко показывает, насколько устойчивым является контекст, в котором остроумие противопоставляется уму как некая поверхностная и «пустая» репрезентация – содержательной основательности и должному порядку [138]138
Применительно к русской культуре см. такие примеры в: Богданов К. А.О крокодилах в России. С. 29–37.
[Закрыть]. Философская и, в свою очередь, «гражданская» традиция подозрительного отношения к остроумию доживет до начала XX века (в частности, в противопоставлении беллетристического остроумия философов-французов глубокомыслию философов-немцев). Однако в истории эстетической мысли ситуация выглядит иначе. Допустимость остроумия в живописи, музыке и литературе определяется в данном случае представлением о характере самого творческого процесса в искусстве, а также о тех правах и обязанностях, которые вменяются его творцам и служителям.
В русской литературе запоздалой иллюстрацией споров на эту тему может служить конфликт, положенный Пушкиным в основу «Моцарта и Сальери»: измеряется ли музыкальная гармония какой-либо «алгеброй» и кем является творец музыки – усердным тружеником или, как хочется думать пушкинскому Моцарту, «счастливцем праздным». То, что живописные опыты, основанные на методике чернильных пятен, казались современникам, при всех возможных на этот счет оговорках, более оправданными, чем анекдотически представимое сочинительство музыки посредством клякс, не меняет актуальности самой проблемы – проблемы допустимого для художника произвола, пытающегося настаивать на праве своего собственного слышания и/или видения мира.
5
На фоне увлечения алеаторическим сочинительством в музыке и живописи само представление о приемах и границах экспериментаторства в искусстве существенно меняется. Место композитора и художника – ремесленника или, говоря более высоким стилем, композитора и художника – мастера может быть, как теперь выясняется, занято композитором и художником – игроком и остроумцем, доверяющим не опыту длительного научения, а случаю и удаче. Мотив клякс в этом контексте приобретал парадоксальную амбивалентность. Это и признак «плохого» нового искусства (как в случае с музыкой Ганна), и признак «хорошего» нового искусства (как в случае Козенса). Однако акцент в обоих случаях должен быть поставлен на слове «новое». Такова новизна случайности, воображения и остроумия.
Хрестоматийным примером из «музыкальной истории» клякс здесь может служить легендарный случай с Джоаккино Россини, которому однажды, по его собственному признанию, случайно посаженная на партитуре клякса «подсказала» радикальную, но выигрышную в конечном счете смену тональности в третьем акте оперы «Моисей в Египте» (1819):
Когда я писал хор в соль минор, я нечаянно опустил перо в склянку с лекарством, а не в чернильницу. Получилась клякса, а когда я подсушил ее песком (промокательная бумага тогда еще не была изобретена), она сама собой приобрела такую форму, что я тут же решил сменить звучание соль минор на соль мажор. Вот этой-то кляксе, собственно, и обязан весь эффект [139]139
Weinstock H.Rossini. A Biography. New York: A. A. Knopf, 1968. P. 91 (Письмо Россини к Louis Engel).
[Закрыть].
Эффект новой модуляции был исключительным. Современники вспоминали, что по контексту и музыкальному содержанию оперы Россини мажорный финал минорного распева скорбной молитвы («Dal tuo stellato soglio») вызвал необыкновенный энтузиазм у слушающих:
В 1818 году Россини написал для Театра Сан-Карло в Неаполе оперу в три акта «Моисей в Египте». <…> Опера «Моисей» с первого представления имела значительный успех, но, к сожалению, автору либретто пришло в голову представить, в третьем акте, переход через Чермное море, изображение которого на сцене не заслужило одобрения публики. Автор либретто был в отчаянии. В следующий сезон поэт упросил Россини написать молитву во время перехода через море. Россини удовлетворил желанию автора. На другой день, в третьем акте, в публике пробегал уже значительный говор – предвестник бури, как вдруг Порте (исполнявший роль Моисея) начинает зычным голосом знаменитую молитву «Dal tuo stellato soglio»: говор внезапно умолкает, и все слушают с напряженным вниманием торжественные, удивительные звуки божественной молитвы. Минорный мотив переходит от одного действующего лица к другому, растет, развивается; наконец народ падает на колени, и мотив разражается в мажорном тоне с новою силой. Публика так была поражена неожиданностью впечатления, что все присутствующие в ложах и в партере встали со своих мест, и приветствовали маэстро оглушительным, восторженным криком [140]140
Ростислав. Несколько слов о Россини, его образе жизни и музыки // [ Толстой Ф.]Три возраста. Капитан Тольди. Современные статьи и смесь: Статьи музыкальные Ростислава. Дневник наблюдений и воспоминаний музыканта-литератора. СПб.: В. Исаков, 1855. С. 523. Ростислав – литературный псевдоним Феофила Матвеевича Толстого (1810–1881).
[Закрыть].
Историю о кляксе, столь удачно принявшей форму мажорного ключа и предвосхитившей сценический успех «Моисея в Египте» (на долгие годы ставшей одной из самых знаменитых опер композитора и определенно самой знаменитой при его жизни), можно счесть при этом, конечно, вполне анекдотичной. Но и в качестве такого анекдота она остается занимательной для размышлений о превратностях творческих обретений. Легко понять, почему именно о «кляксе Россини» вспомнил Уистен Хью Оден, рассуждая о (не)предсказуемом характере сочинительства и увидя в ней тот «вердикт, различающий Случай и Провидение», который «безусловно заслуживает называться вдохновением» [141]141
«Such an act of Judgment, distinguishing between Chance and Providence, deserves, surely, to be called inspiration» ( Auden W. H.Writing // Auden W. H.The Dyer’s Hand and Other Essays. New York: Random House, 1962. P. 16).
[Закрыть].
В «кляксе Россини» можно, впрочем, усмотреть и ту иронию, что по стечению обстоятельств сатирический образ композитора, доверяющего методу Spruzzarino, изначально связывался Хэйесом с Ганном как поборником музыкальной «итальянщины». В творчестве Россини «итальянщина» достигла своего апогея, так что и сама история с кляксой, заменившей собою нотный знак, выглядит как свидетельство правоты, но недальновидности Хэйеса. Другое дело, что сочинитель, рассчитывающий на удачно выпавший жребий (или, в нашей версии, – на удачно разбрызганные кляксы), волен рассчитывать на успех, но – поэтому же – рискует остаться ни с чем, кроме своего «случайного» сочинения. Само изображение композитора, «кляксящего» нотную бумагу, или художника, марающего пятнами холст, отныне хотя и по-прежнему окарикатуривает, но в то же время подчеркивает и обыгрывает аксиологическую неопределенность понятия «искусство». Что, говоря попросту, следует считать «хорошей» музыкой и «хорошей» живописью, а что «плохой»?
В истории русской музыки мишенью такого фольклорно-сатирического, а вместе с тем драматического по своим жизненным последствиям изображения стал Александр Васильевич Лазарев (1819 —?), одержимый манией величия композитор-самоучка, автор помпезных (и «классических», по его собственному определению) ораторий и кантат («Смерть Олоферна», «Сотворение мира», «Страшный суд», «Помилуй нас, Боже», «Предсмертные гимны черкесов перед сражением с русскими»), оказавшийся на недолгое время в центре театральных и общественных пересудов конца 1850-х – начала 1860-х годов. Биография Лазарева, как и его творчество, остаются до сих пор неизученными, хотя мемуарные и публицистические упоминания о нем достаточно многочисленны. Личность Лазарева по преимуществу рисуется в фарсовом и курьезном ключе, начиная с экзотического прозвища «абиссинский маэстро», закрепившегося за ним после якобы совершенных путешествий по северной Африке и Азии, странного внешнего вида и вызывающей манеры одеваться (страсть к белым жилетам, а также фестонам и розеткам на фраке) и вплоть до самозабвенной и потешавшей современников саморекламы, апофеозом которой стало издание инициированной им брошюры «Лазарев и Бетховен», в которой сравнивались таланты обоих композиторов (не в пользу Бетховена) [142]142
Лазарев и Бетховен. Творения их и музыкальные заслуги. СПб.; М.: Типография Ю. Штауфа, 1860. Автор брошюры не указан, но по публичному признанию самого Лазарева им был некий «действительный статский советник Владимир Иванович Марков» (Дневник темного человека // Русское слово. 1861. Март. Смесь. С. 43).
[Закрыть]. Своих музыкальных слушателей Лазарев поражал приверженностью к громоздким многоинструментальным композициям (производившим, по выражению одного из современников, впечатление «нескончаемого настроивания инструментов»), громоподобному басовому звучанию (в частности, использованию так называемых бомбардонов – медных духовых труб низкого строя), а также смешению самых различных музыкальных стилей [143]143
Санкт-Петербургские ведомости. 1860. № 45. 28 февраля. С. 214. В этой же заметке о концерте «новой музыки славянского характера» Лазарева, состоявшемся в зале Дворянского собрания, музыка композитора характеризовалась как «не заключающая в себе элементов германского, итальянского и русского», как отличительная «собственность композитора, происхождением русского, а следовательно и славянина» (Санкт-Петербургские ведомости. 1860. № 45. 28 февраля. С. 214).
[Закрыть]. Дополнительную скандальность личности Лазарева придавало и то, что, позиционируя себя в качестве русско-славянского патриота, сам он стоял вне групп и группировок, занятых спорами о путях и судьбах национальной музыки (прежде всего публицистики апологетов и критиков т. н. «Могучей кучки» – М. А. Балакирева, М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, В. В. Стасова, А. Н. Серова и др.). Играя роль своего рода графа Хвостова в музыке, Лазарев уже тем самым давал достаточно поводов для вышучивания, но к журналистской сатире в данном случае примешивалась и «принципиальная сторона» вопроса – защита «настоящей» и именно национально-настоящей музыки от дилетанта и шарлатана.
Кульминационным событием для дискредитации Лазарева, в конечном счете, стал широко разрекламированный концерт в зале Немецкого собрания в Санкт-Петербурге 2 марта 1861 года, на котором предполагалось «сравнительное» исполнение музыки Бетховена и самого «абиссинского маэстро» (под его же собственным дирижированием), а вырученные от концерта средства предполагалось перечислить в фонд помощи христианам Сирии. Однако обещанное соревнование двух музыкальных титанов было сорвано, едва начавшись. При монументально оглушающем начале «Гимна славянам» Лазарева, открывавшего собою концерт, ряд слушателей стал свистеть и выражать шумное недовольство. Особую активность при этом проявил неутомимый противник Лазарева, композитор-вагнерианец и музыкальный критик А. Н. Серов [144]144
Еще за год до концерта Серов печатно высказывал желание, «чтобы петербургские концертные залы навсегда перестали быть поприщем для музыкальных подвигов подобного господина» (Музыкальный и театральный вестник. 1860. № 10. Перепечатано в: Серов А. Н.Критические статьи. Т. III. СПб.: Типография департамента уделов, 1895. С. 1255–1257).
[Закрыть]: воспользовавшийся наступившей паузой, он встал на стул и призвал публику забросать маэстро гнилым картофелем, чтобы прекратить концерт, который, по его мнению, позорит Бетховена и оскорбляет российскую столицу. Лазарев обратился к публике с просьбой продолжить исполнение концерта увертюрой C-dur, но когда зал затих и оркестр продолжил свое выступление, нервы изменили самому композитору, и он неожиданно крикнул в зал: «Молчать». Приказ маэстро привел, однако, к прямо противоположному результату – свисту, топоту и смеху публики, поставившим на концерте окончательную точку [145]145
Наиболее объективным при всей иронии и сдержанном изложении происшедшего кажется анонимный фельетон «Дневник темного человека», напечатанный в журнале Г. Кушелева-Безбородко «Русское слово» (1861. Март. С. 39–47).
[Закрыть]. Журналисты, освещавшие по свежему впечатлению происшедшее в зале Дворянского собрания, в меру своих усилий придали суматохе анекдотические подробности: так, якобы Лазарев в ярости кинул в Серова дирижерской палочкой, а музыканты, поддавшись общему скандалу, швырялись пюпитрами и издавали на своих инструментах какофонические звуки и т. д. [146]146
Северная пчела. 1861. № 75; Санкт-Петербургские ведомости. 1861. № 75; Русский мир. 1861. № 24; Искра. 1861. № 17; Время. 1861. Т. 2. С. 137–138; Заметки праздношатающегося // Отечественные записки. 1861. № 4. Смесь. С. 48–57. Также см. мемуарные отзывы: Воспоминания Юрия Арнольда. Вып. III. M.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1893. С. 48–50; Воспоминания B. C. Серовой. СПб.: Шиповник, 1914. С. 45; Фитингоф-Шель Б. А.Мировые знаменитости. СПб.: Типография Пайкина, 1899. С. 166–171; Скальковскип К. А.В театральном мире: Наблюдения, воспоминания и рассуждения. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1899; Ипполитов-Иванов М. М.50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. М.: Госмузиздат, 1934. С. 37. См. также: Фрадкина Э.Зал Дворянского собрания: Заметки о концертной жизни Санкт-Петербурга. М.: Композитор, 1994. С. 44 и след. В ряду тех же преимущественно анекдотических воспоминаний о Лазареве характерен случай, приводимый М. И. Михельсоном: «Знаменитый „Маэстро“ Лазарев (композитор) написал пьесу для оркестра с такими высокими нотами для флейты, которых флейта не имеет; – во время концерта флейтисты (не имея возможности исполнить желание композитора) – показали ему язык, (факт!)» ( Михельсон М. И.Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний в 2 тт. Т. 2. М.: Терра, 1994. С. 71, под № 570).
[Закрыть]Для зачинщиков беспорядка вечер закончился на гауптвахте: Серов был посажен под недельный арест и оштрафован на 25 рублей, а Лазарев выслан из Петербурга. Спустя несколько дней ко всем деталям добавилась еще и финансовая пикантность: выяснилось, что собранная Лазаревым со своего концерта и переданная им петербургскому обер-полицмейстеру филантропическая помощь сирийским христианам выразилась («за всеми расходами») в смехотворной сумме 30 рублей.
Для нас здесь интересно то, что в ряду пересудов и слухов, еще долго подпитывавших столичных острословов, «абиссинскому маэстро» довелось быть печатно ославленным как приверженцу вышеупомянутой техники сочинительства посредством разбрызгивания чернил: