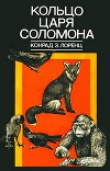Текст книги "Оборотная сторона зеркала"
Автор книги: Конрад Лоренц
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Глава 10 ФАКТОРЫ, СОХРАНЯЮЩИЕ ПОСТОЯНСТВО КУЛЬТУРЫ
1. СПОСОБНОСТЬ К РАЗВИТИЮ КАК СОСТОЯНИЕ РАВНОВЕСИЯ
Животное или растение можно отнести к определенному виду, поскольку большое число признаков этого вида с достаточной неизменностью закреплено в хранилище наследственных задатков, общих определенной популяции живых организмов. Именно по этим признакам мы узнаем о принадлежности к данному виду отдельного живого существа.
Как вытекает из предыдущего раздела, это хранилище, "gene pool",[210]210
Генофонд (англ.); англ. pool означает «общий фонд»; словом «хранилище» переводим нем. Sammeltopf, означающее «сборный котел». – Примеч. пер.
[Закрыть] как говорят англоязычные генетики и филогенетики, и определяет сущность вида.
Так же как зоолог определяет вид животного, археолог и историк культуры с первого взгляда узнают, от какой культуры и из какого ее периода происходит некоторый предмет. Ввиду легкости, с которой наследование приобретенных признаков может изменять произведения человеческого духа, относительное постоянство культурных функций, позволяющее знатоку столь уверенно высказывать свои суждения, нуждается в особом объяснении.
Жизнеспособность вида зависит от того, что постоянство его наследственных задатков находится в правильном равновесии с их изменчивостью. Филогенетики и генетики сейчас уже довольно точно знают, каким образом животный или растительный вид справляется с помощью текущих приспособительных процессов с постоянно происходящими независимо от них большими или меньшими изменениями их жизненной среды. Равновесие между факторами, обусловливающими постоянство наследственного материала, и факторами, изменяющими его, у разных видов различно и во всех случаях приспособлено к изменчивости жизненной среды. В мало меняющихся жизненных средах, например в мировом океане, преобладают факторы, способствующие постоянству; там наблюдается наименьшая частота мутаций и расщепления признаков. Напротив, эти явления наиболее интенсивны у организмов, живущих в быстро меняющихся биотопах.
Ряд известных аналогий между видообразованием и историческим становлением культур наводит на мысль проследить и в человеческой культуре две категории процессов, гармонический антагонизм которых устанавливает и поддерживает необходимое для сохранения жизни равновесие между постоянством и приспособляемостью. Я не могу при этом избежать некоторых забеганий вперед, в содержание второго тома этой книги, где будут рассмотрены нарушения этого равновесия и неправильные функции его отдельных факторов. То немногое, что мы знаем об этих процессах, большей частью происходит именно от изучения этих нарушений равновесия и неправильных функций. Могу сказать в свое оправдание, что строю изложение так же, как и большинство учебников физиологии, начинающихся с описания нормального процесса, хотя почти все, что о нем известно, выведено из его патологических нарушений. В сущности, было бы желательно провести учащегося тем же путем, которым шло исследование. Но, к сожалению, этот путь долог и труден.
В двойственности действия любых структур заключена проблема, стоящая перед каждой живой системой – как перед видом, так и перед человеческой культурой: ее опорная функция должна быть куплена ценой жесткости, т. е. потери степеней свободы! Дождевой червь может изгибаться как хочет; мы же в состоянии менять позицию нашего тела лишь в тех местах, где предусмотрены суставы. Зато мы можем стоять прямо, а дождевой червь не может. Постоянные структуры вида обеспечивают его приспособленность и в то же время состоят в примечательном отношении к знанию. С одной стороны, каждая приспособленная структура содержит знание; знание только и может закрепляться в приспособленных структурах, таких, как молекулярные цепочки генома, ганглионарные клетки мозга или буквы учебника. Структура – это приспособленность в готовом виде; и она должна быть в состоянии, по крайней мере частично, опять разрушаться[211]211
Разрушаться – в подлиннике abgebaut werden, буквально «разбираться», «демонтироваться».
[Закрыть] и перестраиваться, когда происходят дальнейшие приспособления и должно быть усвоено новое знание.
Прекрасный пример такого процесса – рост кости. Он никоим образом не сводится к тому, что костеобразующие клетки, «остеобласты», откладывают все время новое, сразу же обызвествляющееся вещество кости; одновременно должны работать также клетки, способные уничтожать старое вещество кости, так называемые остеокласты. Посредством гармонического взаимодействия этих антагонистов растущая кость в целом все время приспосабливается к величине растущего животного и на каждой стадии роста вполне гармонирует с общим строением организма. Все накопление знания, определяющее культуру человека, основывается на возникновении прочных структур. Эти структуры должны обладать относительно высоким постоянством, чтобы вообще возможна была передача от поколения к поколению и кумуляция знаний в течение длительных промежутков времени. Совокупное знание некоторой культуры, заключенное во всех ее нравах и обычаях, в ее процедурах земледелия и техники, в грамматике и словарном составе ее языка и тем более в «сознательном» знании так называемой науки, должно быть отлито в структуры относительно постоянной формы, чтобы возможна была ее кумуляция и дальнейшая передача.
Но никогда нельзя забывать, что структура есть лишь приспособленность, а не приспособление, лишь знание, а не познание. Гёте говорит: «Слово умирает уже на кончике пера». А вот что говорит Ницше: «Мысль горяча и текуча, это лава! Но каждая лава возводит вокруг себя крепостную стену, каждая мысль в конце концов удушает себя в законах». И точно так же, как кость не может расти без разрушения, живой рост человеческого знания невозможен, если шаг за шагом уже приспособленное, уже усвоенное не разрушается, чтобы уступить место новому и высшему. Так же как в геноме животного или растительного вида постоянство и изменчивость наследственности должны находиться в гармоническом равновесии, должно быть равновесие между постоянством и изменчивостью культурного знания. В этой главе речь идет о факторах, поддерживающих постоянство культуры.
2. ПРИВЫЧКА И ТАК НАЗЫВАЕМОЕ МАГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
В моей книге об агрессии я подробно рассказал, какую роль в закреплении выученных последовательностей поведения играет простая привычка; поэтому я ограничусь здесь кратким обзором. Индивидуально усвоенные привычки, например путевые дрессировки, часто принимают в поразительно короткое время жестко определенную форму, от которой животное может избавиться лишь с трудом или вовсе не может. Для существа, не способного к причинному пониманию возможных последствий своего поведения, полезно придерживаться образа действий, который оказался успешным и безопасным. Достаточно напомнить здесь историю моей «суеверной» или, если угодно, компульсивно-невротической гусыни, которая однажды забыла второпях сделать привычный крюк, а затем, испугавшись, старалась восполнить свое упущение, или историю лошадей Маргарет Альтман, не решавшихся пройти мимо места, где они уже несколько раз останавливались.
У нас, людей, случайно приобретенная привычка тоже скоро становится «любимой» привычкой. Каждое отклонение от привычного поведения начинает восприниматься как неприятное, даже пугающее; я испытал это на себе, когда однажды, возмутившись против своей животной привычки, попытался отказаться от некоторых случайно усвоенных путей. Типичный компульсивный невроз, вынуждающий страдающего им человека к удивительным, часто сложнейшим формам поведения, есть всего лишь гипертрофия механизма, служащего в нормальных случаях сохранению постоянства поведения и необходимого для кумуляции традиционного знания.
Каждое существо, зависящее от привычек, испытывает глубокий страх при любом отклонении от привычного поведения; это очень примитивный, могущественный стимул, действующий уже у дочеловеческих организмов, но играющий необходимую роль также в сложной системе мотиваций человеческой культурной жизни. Он играет важную роль в окрашенном страхом чувстве совершённого прегрешения, короче, чувстве вины, внося тем самым значительный вклад в законопослушное поведение культурного человека. Как я сказал в моей книге об агрессии, если бы не привычка, указанным способом превратившаяся в могущественный стимул поведения, не было бы ни правдивого сообщения, ни надежного договора, не было бы ни верности, ни закона.
Но никому не пришло бы в голову говорить о любимых привычках, если бы наряду со страхом, наказывающим за их нарушение, не действовали также другие эмоции, вознаграждающие «достойное» и послушное поведение того, кто следует привычке. Каждый знает особенное, ни с чем не сравнимое ощущение удовольствия, когда мы снова видим нечто близко знакомое, например памятную с детства местность, комнаты дома, где мы когда-то жили, или черты лица старого друга. Выполнение усвоенного, хорошо выученного движения доставляет подобное же удовольствие. Сильное чувство вознаграждения, вызываемое обоими процессами – рецепторным и моторно-проприоцепторным, – противостоит описанному выше экзистенциальному страху; это успокоительное чувство безопасности гораздо значительнее, чем простое устранение страха: оно заметно повышает наше самоуважение! "Чувствуется, что я у себя дома" или "Я еще не разучился это делать". Думаю, все мы недооцениваем, как сильно и прочно сидит в нас страх и как жаждем мы обрести безопасность!
3. ПОДРАЖАНИЕ И СЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦУ
Все эти не специфически человеческие процессы, способствующие закреплению привычного, резко усиливаются у культурного человека. Мы, люди, – об этом следует всегда помнить – по своей природе культурные существа, а потому все традиции, воспринимаемые в детстве и юности от наших родителей и старших родственников, мы неизбежно наделяем теми эмоциональными ценностями, которые представляют для нас носители этих традиций. Если уважение к этим ценностям падает ниже нуля, то передача культурной традиции пресекается.
Нелегко проанализировать качества различных чувств, которые младший должен испытывать к старшему, чтобы вообще быть в состоянии воспринять от него традицию. Более того, все эти качества чувств в принципе доступны лишь феноменологическим методам, так что в отношении их каждый может говорить, строго говоря, лишь за себя. Хотя я отношусь в общем с высоким уважением к психологической утонченности развитого повседневного языка, я сомневаюсь, создал ли этот язык для каждого из этих качеств подходящее слово. Как много качественно различного обозначается словом «любовь»! Некоторого рода любовь принадлежит, без сомнения, к необходимым предпосылкам восприятия традиции. Может быть, самое подходящее название того чувства, которое воспринимающий традицию должен испытывать к передающему ее, – это «расположение» (Gernhaben).[212]212
Gernhaben означает «предпочтение, радостное одобрение» (Der Sprachbrockhaus). – Примеч. пер.
[Закрыть] Человек вряд ли станет охотно слушать того, к кому он не расположен.
Вторую эмоциональную предпосылку составляет то, что, как мне кажется, неоднозначно выражается словом «страх». Я полагаю, что требуемое здесь значение слова «страх» яснее всего передается выражением «богобоязненность» или "страх Божий". Пока в индивидуальном развитии растущего человека еще не вполне достигнута его «социализация», т. е. его включение в традиционную культуру и отождествление с нею не достигли такой степени, чтобы он непосредственно воспринимал свою культурную традицию как нечто достойное почтения, как "Tremendum",[213]213
Внушающее содрогание, трепет (лат). – Примеч. пер.
[Закрыть] до тех пор безусловно необходимо, чтобы он испытывал это чувство вполне личным образом к некоторому старшему носителю этой культуры. «Tremendum» происходит от латинского слова, означающего «дрожать» или «трепетать»; название одной из самых прекрасных и разумных религий, «квакеры», происходит от английского слова, означающего «трепетать» или «дрожать». Нынешний человек не склонен трепетать перед отеческой личностью. Но необходимо, чтобы воспринимающий традицию признавал более высокое ранговое положение передающего традицию. Эмоциональная установка, соответствующая такому признанию, на нашем нынешнем повседневном языке лучше всего выражается как более или менее глубокое уважение (Respekt) к передающему традицию.
Широко распространенное заблуждение, в котором повинны психоанализ и псевдодемократическая доктрина, состоит в представлении, будто чувства любви и уважения несовместимы. Я попытался перенестись мыслью в мое детство и уяснить себе, кого из моих друзей примерно моего возраста и из моих старших знакомых и учителей я больше всего любил. Среди сверстников я по меньшей мере столь же часто любил тех, к кому испытывал уважение и даже некоторый страх, как и тех, которые были мне преданными друзьями, но, несомненно, мне подчинялись. Я вполне уверен, что вряд ли кого-нибудь из моих друзей так любил и уважал, как старшего на четыре года бесспорного предводителя нашего альтенбергского детского общества. Еще в младших классах мы усердно играли в индейцев. И я немало его боялся, имея для этого серьезные причины, поскольку предводитель, который был куда сильнее меня, наказывал за прегрешения – прежде всего против индейского кодекса чести. Этот мальчик был чрезвычайно рыцарственным, в высшей степени ответственным и мужественным вождем. Однажды он спас жизнь моей нынешней жене, рискуя собственной жизнью. Я обязан Эммануэлю Ларошу, моему первому подлинному начальнику, рядом этических правил.
Даже те из моих сверстников, которым я приписал бы по критериям животной социологии низший ранг, как показывает более тщательное размышление, всегда имели в себе нечто импонировавшее мне, в чем они меня превосходили. Я сомневаюсь, можно ли вообще любить человека, на которого смотрят во всех отношениях сверху вниз.
В детской установке по отношению к взрослому положительная корреляция между любовью и уважением выступает еще отчетливее; в установке подростков по отношению к взрослым мужчинам она становится почти абсолютной. Из моих учителей я любил почти исключительно самых строгих, где под строгостью понимается, конечно, не произвольная тирания, а лишь безусловное требование признания их рангового положения. Должен сознаться, что было и исключение – моя детская привязанность к двум незамужним теткам, чадолюбивым старым девам, безмерно нас баловавшим. Я их вовсе не уважал, но любил их с нежностью, слегка окрашенной состраданием.
Даже простейшая, самая примитивная форма усвоения традиции, подражание, предполагает, что вызывающий подражание некоторым образом «импонирует» тому, кто подражает, – хотя бы в том смысле, как подействовал на моего маленького внука японский церемониал поклона (см. с. 380). На более высоком уровне дети пытаются всей своей личностью войти в образ того, кому они подражают, от чего возникает так называемое разыгрывание ролей. Выбор роли зависит от того, что импонирует ребенку, а вознаграждающее удовольствие, несомненно, состоит в повышении чувства собственного достоинства, что я вполне отчетливо вспоминаю по собственному опыту. У меня разыгрывание ролей относилось – как нетрудно догадаться – преимущественно к животным образцам, и могу заверить, что я просто блаженствовал в образе утки или дикого гуся. Роль фыркающего и свистящего паровоза, мчащегося впереди скорого поезда, тоже приводила меня в экстаз, повышая мое ощущение собственной важности. Неплохо было также быть Виннету, благородным вождем апачей, пусть даже под справедливой властью его отца Инчучуны.
Из этих фаз разыгрывания ролей в моем детстве я могу, по-видимому, заключить, что более ранние образцы, которым я подражал примерно с восьми до десяти лет, имели более сильное и продолжительное действие, чем более поздние. Позже не входят уже так полно в разыгрываемую роль.
Что ребенок может принять на себя даже роль безжизненной машины, как это было описано выше, свидетельствует лишь о том, в каких широких пределах находится врожденная способность к подражанию человеческого ребенка. В моем собственном детстве разыгрывание ролей сыграло в уже указанном отношении большую, возможно даже решающую, роль для моей дальнейшей жизни. Я отчетливо вспоминаю, с каким поистине актерским подражанием я старался повторять движения моих любимых животных. Это привело к сохранившейся у меня привычке «запоминать» формы движения животных путем подражания. Эта способность доставляет удовольствие моим ученикам.
Не столь избалованные дети выбирают себе более обычные образцы, среди которых водители автомобилей и кондукторы трамвая по-прежнему пользуются успехом, тогда как солдаты, которым дети чаще всего подражали еще несколько поколений назад, теперь – слава Богу! – уже не импонируют им. О более простых «низших» культурах мы знаем из работ О. Кёнига, И. Эйбль-Эйбесфельдта и других, что выбираемые и увлеченно разыгрываемые детьми роли – это просто роли взрослых, занятых какой-нибудь импонирующей детям деятельностью. Согласно Кёнигу, разыгрывание ролей часто незаметно переходит у них в настоящую помощь деятельности тех, кому подражают.
Элементы детского разыгрывания ролей, несомненно, присутствуют в том, как мы уже взрослыми принимаем за образец других людей, чье превосходство мы признаем и кому подражаем. При этом может случиться, что мы совершенно бессознательно повторяем образец даже и в том, "как он кашляет и чихает". Сам я, как меня часто уверяли моя жена и критически настроенные друзья, в своих докладах впадаю в несколько отрывистую и скандирующую манеру речи моего учителя Фердинанда Гохштеттера, а именно в тех случаях, когда предмет имеет для меня особую важность. Я этому не верил, пока не стал однажды свидетелем, как И. Эйбль-Эйбесфельдт в одном очень важном докладе пришел в заметное возбуждение. Тогда я с удивлением услышал отзвук манеры Гохштеттера как наследование приобретенных признаков во втором поколении.
Могу заверить, что Фердинанд Гохштеттер дал мне нечто большее, чем аффектацию речи. Вряд ли можно принять за образец другого человека лишь в отношении некоторых отдельных свойств или функций, отвергая его в остальном. Стихийная сила образца действует лишь в том случае, если он одобряется во всех отношениях, и прежде всего в этическом. В первую очередь от уважаемого образца перенимаются нормы социального поведения, т. е. нравственные обычаи в собственном смысле слова. Чувство вины, которым наказывается их нарушение, ближе всего напоминает мучительные переживания, какие у нас были бы, если бы этот человек поймал нас на таком поступке. Действенным наказанием может быть уже умеренное неодобрение такого человека, даже касающееся лишь профессиональных, а не этических вопросов. Самое строгое неодобрение, когда-либо высказанное Гохштеттером в мой адрес, заключалось в словах: «Это прямо постыдно». Речь шла при этом лишь об ошибке в препарировании трупа, подлежавшего лекционной демонстрации. Мне даже трудно представить себе, как бы я себя почувствовал, если бы мой учитель сделал мне более серьезное внушение, задевающее мою не только профессиональную честь. Понятно, что у такого учителя признание и похвала, выраженные еше более скупо, имеют сильное вдохновляющее действие.
Вся культурная традиция, перенимаемая у столь почтенного образца, и прежде всего традиционные нормы социального поведения, неизбежно воспринимаются с тем же глубоким уважением, что и сам любимый человек. Это, несомненно, весьма способствует постоянству культуры. Поскольку в наше время такого постоянства как раз заметно недостает, многие ответственные лица склоняются к тому, чтобы считать абсолютно благотворными любые факторы, сохраняющие постоянство. Но, разумеется, они остаются благотворными лишь до тех пор, пока хорошо уравновешиваются другими процессами, разрушающими и изменяющими структуры, обеспечивая этим приспособление системы к непрерывно меняющемуся жизненному пространству, о чем уже была речь на с. 417. Нарушения этого равновесия будут подробно рассмотрены во втором томе.
Все передаваемые традицией структуры обладают жесткостью, необходимой для их опорных функций. Поскольку почитаемая фигура отца, которая одна лишь в состоянии сообщать традицию, сама проникнута, в свою очередь, почтением к своему отцу, то этот дед, может быть уже лично не известный молодому человеку, вызывает в нем еще большее почтение. Таким образом, у человека филогенетически запрограммировано закономерное почтение к предкам. Неудивительно, что культ предков обнаруживается у самых различных народов в почти одинаковом развитии. Поскольку почтение к своим – часто даже обожествленным – предкам с течением времени возрастает, усиливается также уважение к традиционным формам поведения: чем дальше погружается во тьму прошлого их происхождение, тем более они принимают характер священного наследия, а оскорбление или нарушение их становится грехом, вызывающим чувства страха и вины.
Этим процессам, наказывающим каждое отступление человека от традиционных норм поведения, сопутствуют другие, вознаграждающие соблюдение нравов и обычаев: возможность отождествления с некоторой отеческой фигурой, ощущение своей покорности заповедям некоего этического целого, большего, чем он сам, дают человеку просто необходимую ему внутреннюю уверенность. Один из важнейших методов поистине дьявольского "промывания мозгов" состоит в том, что его жертвы лишают этой уверенности, заставляя их сомневаться во всем, в чем они были уверены прежде.
Только что описанные процессы имеют тенденцию медленно, но неуклонно закреплять все входящее в сокровищницу культуры и общее всем ее носителям знание, превращая его в доктрину. Как уже было сказано, в известных пределах этот процесс необходим. Он необходим даже в той области, которая менее всего считается связанной с доктринами или построенной на фундаменте твердой веры, а именно в естествознании. Естествоиспытатель может сколько угодно внушать себе, что все его знание состоит из одних лишь рабочих гипотез и что он готов в любое время, без эмоционального сопротивления и даже с радостью, объявить неправильным все, что он до сих пор считал верным. Это, может быть, и справедливо в отношении гипотез недавнего происхождения, стоящих в средоточии текущих исследований, что я могу сказать и о самом себе. Может быть, и существуют исследователи, действующие в точности по предписаниям Карла Поппера, – только о том и думающие, чтобы всеми средствами опровергнуть свою собственную гипотезу, т. е. доказать ее неверность и таким образом, исключив одну за другой различные возможности объяснения, прийти к единственной неопровержимой теории.[214]214
…прийти к единственной неопровержимой теории. – Эта фраза представляет собой ироническое изложение точки зрения К. Поппера, подчеркивающего, что ученый стремится не подтвердить свое предположение (поскольку никакое число подтверждений не доказывает его безусловную верность), а опровергнуть его (to falsify; у Лоренца нем. falsifizieren), для чего достаточно одного противоречащего факта. Впрочем, изложение это неточно. Поппер не считает, что исследователь должен «прийти к единственной неопровержимой теории»: напротив, никакая научная теория, согласно Попперу, в принципе не может быть неопровержимой. В действительности содержание следующего абзаца хорошо согласуется с тем, как Поппер представляет себе ход научного исследования.
[Закрыть]
Но, как я мог заметить, исследователи, наделенные хорошей способностью распознавания образов, так называемой интуицией,[215]215
Здесь К. Лоренц отождествляет «хорошую способность к распознаванию образов» с «интуицией». Поскольку явление, называемое интуицией, весьма загадочно, это попутное замечание заслуживает внимания.
[Закрыть] никогда так не поступают. Уже первая гипотеза, приходящая на ум такому человеку, не конструируется произвольно, вне связи с внешним восприятием; она всегда является результатом сложных процессов, происходящих в органах чувств и в центральной нервной системе, о чем уже была речь во 2-м разделе главы 7. Основываясь на феноменологическом самонаблюдении, могу засвидетельствовать, что во все, интуитивно воспринятое мною, я сначала просто верю. Конечно, затем я всеми средствами пытаюсь опровергнуть мое предположение, создавая самые изощренные условия, в которых может обнаружиться его истинность или ложность. Если окажется, что я верил в нечто совершенно ложное, то на этой стадии я способен еще испытать от такого переживания искреннюю радость. Но я солгал бы, сказав, что желаю, чтобы все мои гипотезы были разоблачены как совершенно ложные. Прежде всего в отношении более ранних из них я надеюсь, что они окажутся устойчивыми при всех попытках опровержения. Полагаю, что в них обнаружатся и некоторые не столь существенные недостатки; но, впрочем, я всегда был уверен в том, что мои гипотезы не могут быть верны во всем. Ведь я слишком хорошо знаю ловушки, в которые меня нередко заводит моя интуиция.[216]216
В подлиннике Gestaltwahrnehmung, «распознавание образов».
[Закрыть] Но точно так же я знаю по опыту, что она лишь очень редко сообщает мне нечто совершенно ложное, и должен сознаться, что при испытании каждого из моих предположений я рассчитываю, что моя интуиция окажется хотя бы отчасти правильной. При этом «правильность» понимается в том смысле, как патер Адальберт Мартини определил понятие истины в одной из наших дискуссий: «Истина – это то заблуждение, которое оказывается лучшей подготовкой к следующему меньшему».
Без такой надежды на правильность своих предположений исследователь, пожалуй, вряд ли был бы настроен подвергать новую гипотезу дальнейшим испытаниям. «Подвергать» – здесь очень подходящее выражение. То, что считается правильным, подводится как фундамент под растущее здание, которое может устоять лишь в том случае, если эта основа прочна.[217]217
В подлиннике непереводимая игра слов: unterstellen означает и «подвергать», и «ставить что-либо под чем-либо».
[Закрыть] Чем выше здание, которое мы возводим, чем больше вложенный в него труд, тем большего доверия должен заслуживать этот фундамент. Но тем больше должна быть и смелость, и прежде всего готовность к труду, чтобы решиться, если понадобится, полностью снести здание и построить его заново. К такой жертве естествоиспытатель в принципе всегда должен быть готов.