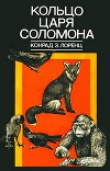Текст книги "Оборотная сторона зеркала"
Автор книги: Конрад Лоренц
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
7. ПОДРАЖАНИЕ
Подражание движениям – это функция, которая может быть названа когнитивной лишь в некотором широком смысле слова. Оно является предпосылкой понятийного мышления, поскольку оно необходимо для интеграции функций, описанных в предыдущих разделах этой главы, с традицией, которой будет посвящен следующий раздел. Вероятно, оно возникло в ходе эволюции из игры и любознательного поведения общественных животных с продолжительной семейной жизнью. Подражание имеет, в свою очередь, своими предпосылками неразрывно связанные между собой функции – произвольное движение и его проприоцепторный и экстероцепторный контроль.
В свою очередь, подражание является предварительным условием усвоения человеческого словесного языка и вследствие этого – бесчисленных других специфически человеческих функций. Можно поразмыслить о том, почему именно рот стал органом этой сигнальной системы. Как мы знаем, уже у наших предков губы и язык стали органами, способными к особенно точным произвольным движениям и доставляющими, соответственно этому, богатые информацией реафференции. В то же время их моторика, вместе с моторикой гортани, принимает важнейшее участие в произведении выразительных движений и выразительных звуков. У наших близких и дальних зоологических родичей лицо и, в особенности, рот являются при любом социальном взаимодействии предметами самого пристального внимания всех участвующих и тем самым как будто предназначены для сигнализации.
Между тем самый процесс подражания загадочен как в смысле его физиологического возникновения, так и в отношении его распространения в животном мире. Строго говоря, способность к подражанию встречается, кроме человека, лишь у некоторых птиц, прежде всего у певчих птиц и попугаев, у которых она, впрочем, ограничивается узкими рамками воспроизведения звуков. Правда, способность обезьян к подражанию вошла в поговорку, так что "aping"[161]161
«0безьянничание». – Примеч. пер.
[Закрыть] означает по-английски просто «точнейшее подражание». Но даже у человекообразных обезьян точное повторение воспринятого процесса движения наблюдается лишь в зачаточной форме и по своей точности не идет ни в какое сравнение с соответствующими способностями птиц. Правда, шимпанзе сразу же понимает смысл процесса, когда, например, видит, как человек пользуется ключом, чтобы открыть дверь, и подражает ему в этом, пытаясь сделать то же, что после нескольких попыток ему и удается. Но именно то, что мы называем «обезьянничанием», т. е. повторение некоторого движения или выражения лица ради одного только подражания, насколько мне известно, встречается у обезьян лишь в слабой, зачаточной форме.
Но человеческие дети – и замечательным образом уже упомянутые птицы – вполне определенно это делают. Социальным психологам достоверно известно, что дети повторяют движения взрослых с величайшей точностью просто ради удовольствия, доставляемого подражанием, притом задолго до того, как начинают понимать смысл и назначение соответствующих шаблонов поведения. Питер Бергер и Томас Лакмен произвели в своей книге "Социальное построение действительности" ("The Social Construction of Reality") весьма точный анализ таких процессов. При этом дети проявляют очень тонкую чувствительность в отношении образно запечатлеваемых форм движения, каковы многие выразительные формы общения. На моего старшего внука, когда ему не было еще и двух лет, произвел глубокое впечатление совершенный по форме поклон моего японского друга, который он стал повторять поистине «неподражаемо»: ни один взрослый не смог бы без подготовки воспроизвести его столь точно. Процесс этот был неотразимо комичен, и лишь благодаря тому обстоятельству, что мой друг был исследователь поведения, такое «обезьянничание» его не обидело.
У человека именно точность подражания выразительным движениям и звукам имеет величайшее общественное значение, поскольку детали произношения и манер, общие некоторой группе, являются предпосылкой «сцепления», групповой связи.
Певчие птицы и попугаи, и прежде всего их птенцы в определенном возрасте, также проявляют отчетливую аппетенцию к выразительным звуковым сочетаниям, лежащим в пределах их способности к подражанию. Молодой снегирь, которому вырастивший его служитель насвистывает какую-нибудь мелодию, торопливо подходит к сетке, немного наклоняет голову в сторону источника звуков и взъерошивает перья возле ушей, как зачарованный вслушиваясь. Подобным же образом ведут себя скворцы, а у дроздов рода шама (Copsychus malabaricus) очень интересно наблюдать, как птенцы внимательно и напряженно прислушиваются к пению своего отца.
Происходящее при этом восприятие услышанного во многих случаях лишь через несколько месяцев переходит в моторику вокализации. Как рассказывет Гейнрот, соловей, услышавший в свою первую весну, между 12-м и 19-м днем жизни, пение одной славки-черноголовки, после Рождества, когда он начал петь, стал воспроизводить индивидуальное пение этой славки с такой же точностью, как сделанная Гейнротом граммофонная запись. Таким образом, этот соловей должен был хранить в памяти акустический образ песни славки в течение месяцев, прежде чем он смог транспонировать его в моторику.
Каким образом происходит такая транспозиция сенсорного в моторное, мы знаем из работ М. Кониси. У многих видов свойственное виду пение является «врожденным», поскольку оно более или менее нормально развивается также у птенца, изолированного от звуков. Но при этом моторика пения никоим образом не задана в виде наследственной координации;.у птицы имеется врожденный акустический шаблон[162]162
Акустический шаблон. – В оригинале Muster (образец, пример, модель, шаблон); дальше Лоренц замечает, что немецкое слово Schabion, точно отвечающее русскому слову «шаблон», является наилучшим переводом английского template.
[Закрыть] («template»), который, точно так же, как рано услышанная последовательность звуков, переводится под контролем слуха в моторику пения методом проб и ошибок. Это давно уже предполагал Гейнрот, говоривший о «самоподражании». Справедливость этого предположения доказал М. Кониси, оперативным путем удаляя в раннем возрасте органы слуха у птиц этого типа. В таком случае подопытные птицы производили только бесформенный щебет, не содержавший даже чистых тонов, а вследствие множества сильных обертонов похожий на шум. Впрочем, призывные и предупредительные возгласы являются подлинными наследственными координациями также и у птиц, пение которых развивается описанным здесь способом, причем их моторика врожденная. Поэтому они вполне нормально производятся также птицами, в раннем возрасте лишенными слуха. То же верно в отношении всех выразительных звуков куриных и утиных, как и большинства других не способных к подражанию птиц.
Врожденные акустические «шаблоны» – это слово является самым точным переводом термина «template» – имеют у большинства птиц, обнаруживающих такое свойство, две различных, часто налегающих Друг на друга функции. Лишь в редких случаях они столь совершенны, что могут доставить птенцу полную информацию о том, как должно звучать свойственное виду пение. В большинстве же случаев изолированный от звуков, но не лишенный слуха птенец выполняет упрощенное, хотя и узнаваемое пение своего вида. Следует поэтому допустить, что простой врожденный акустический образец в естественных условиях сообщает птице, какому из многих раздающихся в окрестностях видов птичьего пения она должна подражать.
Нечто подобное я предполагал уже много лет назад, основываясь на одном наблюдении домашнего воробья. Гейнрот и другие обнаружили, к своему удивлению, что чириканье воробья, при всей его простоте, не является врожденным, а должно быть усвоено путем подражания, как настоящее пение. Как сообщает Ф. Браун, воробьи, воспитанные в обществе щеглов, без затруднений усвоили сложное пение этого вида. И вот, когда я взял из гнезда самца воробья в возрасте двух дней и вырастил его, я внимательно прислушивался, какому из раздававшихся в моем птичнике видов пения станет подражать мой воробышек. К моему удивлению, он просто-напросто чирикал, казалось, опровергая этим данные знаменитых орнитологов. Лишь через некоторое время я заметил, что он чирикает не как воробей, а в точности как волнистый попугай. Среди многих гораздо более звучных и выразительных птичьих напевов он избрал звуки волнистого попугая, действительно похожие на воробьиное чириканье, потому что они были наилучшим приближением · к его врожденному акустическому шаблону.
О способных к подражанию птицах мы достоверно знаем из исследований Кенией, что афферентный или, точнее, реафферентный контроль, т. е. обратные сообщения о собственном поведении, составляет неотъемлемую часть процесса подражания; между тем о физиологических процессах человеческого подражания мы вообще ничего не знаем. В принципе я придерживаюсь мнения, что при таком полном незнании физиологической стороны явления можно и должно использовать в качестве источника знания феноменологию, т. е. самонаблюдение. Но феноменологией в строгом смысле этого слова каждый может заниматься лишь на самом себе; ее сверхиндивидуальная справедливость зависит от того, насколько другие способны воспроизвести в себе описанное переживание. После этой преамбулы я попытаюсь описать, что во мне происходит, когда я пытаюсь чему-нибудь моторно подражать.
При виде какой-либо характерной реакции или выражения лица я прежде всего испытываю «первичное», т. е. не вызванное никакими другими различимыми мотивациями стремление подражать увиденному; а затем удивительным образом это удается мне почти без подготовки. Так, уже с первой попытки мне удалось имитировать перекошенное лицо Ульбрихта,[163]163
Вальтер Ульбрихт (1893–1973) – один из лидеров Германской Демократической Республики.
[Закрыть] вызвав неожиданный смех. Мне не пришлось объяснять присутствующим, кому я пытался подражать. Конечно, моему успеху могла содействовать та же форма бороды.
Замечательно, что первое явление, доступное моему самонаблюдению при выполнении этой функции, имеет однозначно кинестетический характер: это восприятие того, "что должно ощущаться", когда делают подобную гримасу или подобное движение. При многократном повторении подражание несколько улучшается, но лишь в очень скромной мере. Самонаблюдение в зеркале мало помогает; достаточно одной только проприоцепторной реафференции, чтобы сообщить мне, что мое подражание приблизительно достигает цели, бывшей в моем кинестетическом воображении. Слишком частое повторение не приносит улучшения, а, напротив, лишь разрушает первоначальную внутреннюю картину имитируемого движения, возникшую вследствие глубоко бессознательного процесса; или, лучше сказать, повторение перекрывает эту картину находящимися в памяти картинами собственного движения, так что за копиями постепенно исчезает оригинал.
Уже то обстоятельство, что маленькие дети выполняют рассматриваемую функцию лучше взрослых, свидетельствует о том, что она не имеет ничего общего с рациональными процессами. В пользу этого допущения говорит также тот факт, что подражание никоим образом не удается произвести произвольно или воспроизвести в любой момент: для этого требуется особого рода «вдохновение», как и для высших функций восприятия образов.[164]164
…восприятие образов. – В оригинале Gestaltwahrnehmung – «восприятие гештальтов».
[Закрыть] Весь этот процесс напоминает также игру, поскольку он может происходить лишь в спокойном, радостном настроении и в «ненапряженном поле». Кто знает по собственному наблюдению два явления – подражание у маленьких детей и обучение пению птенцов – тот все больше удивляется очевидным параллелям между обоими процессами, наблюдаемыми у столь различных существ и, по всей вероятности, различными в своей физиологической основе.
Феноменология процесса подсказывает нам предположение, что первый шаг человеческого подражания должен состоять в возникновении некоторого сенсорного прообраза. Конечно, это предположение показалось бы нам крайне невероятным, если бы описанные выше наблюдения и опыты над певчими птицами не свидетельствовали о том, что их звуковое подражание, очевидно, возникает таким путем. Несомненно, в основе аналогичных функций должен лежать в обоих случаях очень сложный сенсорный и нервный аппарат; между тем мы уже привыкли находить такой аппарат лишь в случаях, когда его выработала некоторая функция, важная для сохранения вида. В случае человека вопрос о значении функции подражания для сохранения вида кажется почти излишним, и в начале этого раздела мы уже дали на него предварительный ответ. Но до сих пор совершенно неизвестно, каковы физиологические процессы, переводящие сенсорный прообраз в моторику у людей. Безусловно, это достигается не методом проб и ошибок, как это можно с большой уверенностью допустить в отношении аналогичной функции птиц. Но, с другой стороны, мы, в сущности, не знаем, какое значение для сохранения вида имеет эта функция у наших единственных коллег в искусстве подражания и в музыкальном искусстве; кроме птиц и человека, эти способности не свойственны никаким другим живым существам. Все сигналы, служащие коммуникации, такие, как звуки призыва, ухаживания, предупреждения и тому подобные, являются, как известно, врожденными также и у птиц, способных к подражанию.
8. ТРАДИЦИЯ
Известен ряд случаев, когда у высокоразвитых общественных животных индивидуально приобретенное знание наследуется сообществом и выходит, таким образом, за пределы жизни того животного, которое это знание приобрело. Когда биолог употребляет глагол «наследовать», мы настолько привыкли подразумевать генетические процессы, что слишком уж забываем первоначальное, юридическое значение этого слова. Процесс, с помощью которого усвоенное знание передается от одного индивида к другому, от одного поколения к следующему, называется традицией.
Такая передача знания может происходить двумя способами. Во-первых, вызывающая бегство комбинация стимулов, как, например, предупредительный звук или «заразительно» действующее бегство опытного собрата по виду, может быть связана посредством ассоциации со всей окружающей ситуацией, в которой пугающий стимул действовал один или несколько раз, как это описано на с. 312. Во-вторых, процессы обучения более высокого порядка могут привести к тому, что младшее животное воспроизводит формы поведения старшего, более опытного. Это не обязательно должно быть подлинным подражанием: достаточно, чтобы пример опытного животного указал исследовательскому поведению неопытного определенное направление. Первое достоверное доказательство существования подлинной традиции у животных получил я сам в двадцатые годы, наблюдая галок. Вначале я столкнулся с тем неприятным фактом, что птенцы, воспитанные моими руками и поэтому очень ручные, нисколько не боялись собак, кошек и других хищников, а потому подвергались при свободном полете крайней опасности.
У галок есть единственный свойственный их виду инстинкт, защищающий их от хищников: он состоит из врожденного механизма запуска и единственного инстинктивного движения, приводимого в действие этим механизмом. Механизм запуска отзывается на комбинацию стимулов, которая должна иметь следующие признаки: нечто черное и само по себе подвижное должно уноситься живым существом. Твердые черные предметы, как, например, фотографические камеры, столь же мало производят запускающее действие, как мягкие, развевающиеся или дрожащие, но не черные. Мягкие куски черной бумаги, которыми тогда обертывали кассеты, напротив, вызывали реакцию точно так же, как мокрые черные плавки или трепещущая живая галка, когда я возился с одним из этих объектов на глазах у моих галок. При этом вид живого существа, играющего в этой «схеме» роль уносящего добычу хищника, совершенно безразличен. Одна из галок, вознамерившаяся нести к своему гнезду черное маховое перо ворона, вызвала ту же реакцию в ее полной силе.
На такую комбинацию стимулов каждая взрослая галка, имеющая ее в поле зрения, отвечает пронзительным трескучим звуком, в то же время своеобразно изгибая тело и дрожа широко распростертыми крыльями. Эти формы движения отчетливо заметны даже в полете. Каждая галка, находящаяся достаточно близко, чтобы услышать этот сигнал, сразу же торопится к его источнику, присоединяется к трескучему концерту, и когда наберется достаточное число собратьев по виду, они яростно нападают на врага, причем не только толкают его, но вонзают в него когти и обрушивают на него град ударов клюва. В моем опыте «врагом» была моя рука, державшая чучело галки, и мое плечо тотчас же покрылось потоками крови.
В первый же раз, когда я невольно навлек на себя трескучее нападение галок, я обратил внимание на их длительное недоверие ко мне после этого происшествия. Я сразу же понял, что мне не следует проводить дальнейшие эксперименты, запускающие трескучую реакцию, поскольку мне важно было для моих целей, чтобы птицы остались ручными. В то же время мои галки были приучены видеть своих собратьев, свободно сидевших на моей руке или на плече, не реагируя на эту ситуацию как на "мягкий черный предмет, уносимый живым существом". Но это было следствием специального приучения, как видно из того, что в дальнейшие годы те же галки, ставшие слишком робкими, чтобы садиться на мое тело, сразу же принимались трещать, когда я показывался с ручным галчонком на руке. Это поведение сорвало мой план повысить среднюю прирученность моих оробевших галок добавлением недавно воспитанных ручных птиц, что вполне удается проделать с группой диких гусей.
Если галка неоднократно замечает, что некоторое живое существо несет какой-нибудь черный, мягкий, развевающийся предмет, то «обличенный» таким образом виновник становится для нее, посредством образовавшейся подлинной условной реакции, выученным стимулом, запускающим реакцию треска, и в дальнейшем вызывает ее даже в тех случаях, когда появляется без злополучного черного предмета. Почти так же ведут себя вороны. Когда мой друг Густав Крамер прогуливался в лесах близ Гейдельберга со своей ручной вороной, то он неизменно вызывал реакцию «ненависти» диких ворон, как только его птица садилась ему на плечо. Со временем он приобрел у окрестных ворон столь "дурную репутацию", что они преследовали его с громкими возгласами ненависти и в тех случаях, когда он выходил из дому в городском костюме, в котором его никогда не видели вместе с ручной вороной. То же случалось со мною каждый раз, когда я пытался воспитать ручную галку. Результат оказывался противоположным моим намерениям.
Поскольку птенцы общественных корвидов[165]165
Корвиды – семейство вороновых (Corvidae, нем. Rabenvögel), включающее галок, ворон, сорок, соек, воронов и др.
[Закрыть] верно следуют за своими родителями и сверх того в ранней молодости, как правило, никогда не покидают ближайших окрестностей своего гнезда, где все время находится множество взрослых птиц, то вряд ли может случиться, что птенец встретится с опасным хищником иначе как в присутствии опытной взрослой птицы, тотчас же реагирующей на него громким треском. Сверре Сьеландер благодаря своему дару звукоподражания сумел доказать на опыте, что неопытному галчонку достаточно один или два раза показать кошку или подобное ей животное, сопровождая это трескучими звуками, чтобы у птицы навсегда запечатлелся страх перед соответствующим объектом. Более того, Сьеландеру удалось тем же методом внушить своей галке отвращение даже к ее собратьям по виду и другим корвидам, удержав ее тем самым от присоединения к осеннему перелету.
У гусей традиция играет важную роль в другом отношении, а именно для знания путей перелета. Гуси, воспитанные без родителей, подобно оседлым птицам обычно остаются на месте, где они выведены. Как показал наш опыт искусственного поселения колонии диких гусей в Зеевизене, птенцы, оставшиеся без руководства, вначале не решаются вторгнуться в чужие им места. Чтобы побудить их пастись на лугах, расположенных вне институтской ограды и арендованных как раз для этой цели, оказалось необходимым водить их туда вместе с воспитанными «вручную» гусями, запечатленными на сопровождение своего воспитателя, и терпелибо приучать их кормлением к посещению этих пастбищ.
Однажды приобретенные путевые навыки держатся у гусей чрезвычайно прочно, как видно из следующего наблюдения. В тридцатые годы у меня было в Альтенберге стадо из четырех серых гусей, привыкших сопровождать меня в прогулках по обширной, почти безлесной пойме Дуная. Я ехал на велосипеде по дамбе, ограждавшей эту местность, а гуси кружились вокруг меня, время от времени приземляясь поблизости. Чтобы создать для гусей возможно более действенные подкрепляющие стимулы, я выискивал с ними разные заросшие камышом и травой болотца, где гуси хорошо себя чувствуют. Птицы любили эти экскурсии точно так же, как собаки любят свою ежедневную прогулку, и в привычное время ждали уже у дверей дома, чтобы взлететь сразу же, как только я выкачу из сарая велосипед.
Однажды я решил посмотреть, что станут делать гуси, если я не выеду с ними в привычное время. Наш дом был расположен отдельно и высоко, так что с крыши можно было хорошо рассмотреть в бинокль часть поймы Дуная, по которой проходили наши экскурсии. Ко времени привычного взлета гуси стали беспокойными и издавали все более громкие звуки, выражающие летное настроение. Это продолжалось намного дольше, чем если бы я, как обычно, выехал на велосипеде. В конце концов гуси взлетели и направились сначала к ближайшему лугу, где мы обычно встречались после того, как я проезжал деревенскую улицу, которой они боязливо избегали. Над этим местом встречи гуси долго кружились, издавая громкие призывные звуки, а затем устремились к тому болотцу, где мы побывали накануне в послеполуденное время. Они опять долго кружились над ним с призывными криками, после чего устремились, не садясь на землю, ко второму, реже посещаемому пруду. Не найдя меня и там, они улетели еще дальше и искали меня возле заполненного водой гравийного карьера, где мы бывали очень редко и куда уже давно не наведывались. Там они тоже немного покружились, и вслед за тем, нигде не спускаясь на землю, вернулись в сад у моего дома.
По этим наблюдениям кажется весьма вероятным, что у гусей передается от поколения к поколению не только общий курс перелета, но и знание каждого отдельного места отдыха. В пользу этого предположения говорит не только все, что мы знаем из других источников о долговременной памяти этих птиц, но также и полевые наблюдения голландских орнитологов, заметивших, что в определенных водоемах из года в год появляются, примерно в одни и те же дни, стаи из примерно одинакового числа серых гусей, причем, по мнению наблюдателей, это оказывались всегда одни и те же птицы с их потомством.
У серой крысы Штейнигер установил существование традиции, действующей на протяжении ряда лет. Передаваемое при этом знание касается опасности определенных ядов. Опытные крысы сигнализируют об опасности, мочась на соответствующую приманку; но, по-видимому, предостережением является уже тот факт, что они ею пренебрегают.
Крысы и другие всеядные, т. е. животные, употребляющие разнообразную пищу, при встрече с неизвестными им видами пищи имеют обыкновение съедать вначале лишь минимальное количество, как об этом уже говорилось. Ясно, что недоверие животных ко всему неизвестному поддерживает образование традиций.
Японские исследователи, в том числе С. Кавамура, М. Каваи и Я. Итани, наблюдали у макак подлинную традицию форм моторного поведения, изобретенных одним определенным индивидом и вслед за тем, поскольку они «окупались», вскоре распространившихся на все сообщество. За этим распространением можно было точно проследить. Любопытно, что в одном случае несколько изобретений было сделано одним и тем же индивидом, молодой самкой. Сначала она догадалась мыть в ручье запачканный землей сладкий картофель. Когда этот прием усвоило значительное число обезьян, некоторые из них попробовали проделать это с морской водой и заметили, что еда приобретает при этом приятный привкус. Затем они стали погружать картофель в морскую воду также и во время еды. Когда же макак стали кормить овсом, который им попросту высыпали на песок приморского пляжа, одна из обезьян, а именно примечательным образом та же изобретательница мытья картофеля, стала бросать в воду овес вместе с песком, на котором он лежал. Вероятно, вначале это было неосмысленное применение приема, оправдавшегося в случае сладкого картофеля. Но, как это часто бывает, применение ложной гипотезы случайно привело к успеху: песок опустился на дно, а зерна всплыли, и в одно мгновение родилась процедура, в сущности подобная применяемой золотоискателями; ее переняло значительное число обезьян – к моменту публикации их было 19.
Все эти известные случаи животной традиции отличаются от человеческой в одном важном отношении: все они зависят от наличия объекта, с которым они связаны. Опытная галка может сообщить неопытной об опасности кошек лишь в том случае, если такой хищник имеется в наличии как "наглядное пособие"; опытная крыса может сообщить своему собрату по виду, что некоторая приманка ядовита, лишь при наличии этой приманки. По-видимому, то же относится ко всем животным традициям – как к простейшей передаче условных реакций, так и к сложнейшему обучению посредством подлинного подражания.
Эта привязанность к объекту, свойственная всем животным традициям, является, по-видимому, причиной, по которой они никогда не приводили к сколько-нибудь заметному накоплению сверхличного знания. В самом деле, такая специальная традиция, как знание кошки у галок, неизбежно прервется, если на протяжении одного поколения ни разу не появится ее объект; и легко себе представить, что обусловленная таким образом относительная кратковременность любой традиции у животных препятствует их соединению и тем самым постепенному образованию сокровища сверхличного знания.
Лишь понятийное мышление и являющийся вместе с ним словесный язык делают традицию независимой от объекта, создавая свободный символ, который дает возможность передавать факты и их взаимные отношения без конкретного наличия объекта.