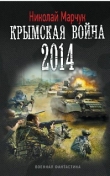Текст книги ""Две жизни" (ч.III, т.1-2)"
Автор книги: Конкордия (Кора) Антарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Раздался стук в дверь, и мы увидели чудесное, улыбающееся лицо Франциска, который сказал, приветливо здороваясь со всеми нами:
– Я, пожалуй, пришел слишком рано, брат И. Но я так спешил, чтобы Беата не подумала обо мне плохо и не увезла с собой впечатления, что я не был рыцарски вежлив в последнюю минуту. Я помню, как однажды, давно, Али мне сказал: "Можно быть занятым очень сложными делами. Но если напутствуешь человека в новую жизнь, надо быть рыцарски вежливым и напутствовать человека, сообразуясь с его временем, надо так обдумать свои дела, чтобы не внести ни капли волнения своим опозданием". Иногда я бываю рассеян, но, провожая людей из Общины, вспоминаю слова Али, – прости, если я пришел рано и нарушил вашу беседу.
– Мне не приходится тебе ничего отвечать, брат Франциск, ты видишь лица этих неофитов, ты читаешь их восторг, который ты пробудил в них сейчас. Но пойдемте.
Ты дал мне очень хороший урок, Франциск. Я рад, что мы придем к Беате раньше назначенного срока и облегчим ей начало ее новой жизни.
Мы вышли молча и так же молча дошли до домика, где последнее время жила Беата.
Трогательную картину мы застали там. Беата была не одна, возле нее среди уложенных вещей на маленьком, низеньком кресле сидел Аннинов, и его высокая худая фигура с аскетическим лицом казалась особенно нескладной среди баулов и маленьких изящных сумок и сумочек художницы.
Лицо музыканта было так печально, точно он навеки расставался с ближайшим другом. Мы услышали последнюю фразу его разговора с Беатой.
– Я чувствую, что это наше последнее свидание, больше я не увижу вас. И никто не будет утешать меня в моих припадках отчаяния, когда я не смею взывать к милосердию И. – Вот я вас и застал в вашем миноре, мой милый друг, – улыбаясь сказал И. – Как вы думаете, ваша любовь к Беате много посеяла сейчас зерен светлой бодрости ей в ее новый путь? Если бы я был на ее месте и меня так провожали бы мои добрые друзья, вероятно, мои крылья повисли бы в бессилии за моей спиной, и я представлял бы из себя жалкое зрелище как новый воин для мужественной жизни.
Беата, Франциск привел нас сюда немного раньше назначенного часа, и я понимаю, как любовь его провидела, что нам надо было вытащить вас из сетей уныния, которые наш великий музыкант развесил здесь по всему дому. Дайте ваши руки, мой дорогой друг, моя новая помощница и сотрудница в борьбе за счастье и мир людей.
Идите смело вперед. Звук моего сердца не может умолкнуть для вас нигде.
Начинайте каждый рассвет вечной памятью, что этот день – мгновение, одно короткое мгновение вашего вечного труда. И что теперь уже нет только вашего труда, но есть труд мой и ваш, ваш и Франциска. Куда бы вы ни ехали, что бы вы ни делали, даже очень далеко от вашего обычного труда и таланта, – важно не то, что вы делаете и где вы это делаете, но как вы делаете все, что встречается в дне. Вам важно помнить, что ни единого мгновения уныния для вас быть не может, что вы идете не от себя, не за свой страх и риск, но идете по дню гонцом мира и Света людям, гонцом, которого Община послала им. Несите не труд-послушание, ибо это больше не ваш личный труд. Это уже слияние в труде-радости со мной и Франциском. Чувствуйте в своей руке всегда, всегда, всегда его или мою помогающую руку. Будьте благословенны. Не поддавайтесь вибрациям уныния или скорби. Твердо стойте. Помните о нас, и вся муть, которой будут заливать вас люди, будет рассеиваться вокруг вас.
И. пожал руки художницы, нежно поцеловал ее в лоб и передал ее дрожавшие руки Франциску. Как ни старалась сдержать свое волнение Беата, крупные слезы текли по ее лицу, и видно было, что никакие усилия не остановят этого потока.
– Бедное дитя мое, – нежно сказал Франциск, отирая платком слезы Беаты и прижимая ее к себе. – Как трудно рождаться новому человеку, как трудно освобождать в себе свое Святая Святых от предрассудка привычки любить плоть, видеть плотью, быть счастливым в пределах времени и места. Расти, мой друг, расти легче. Поверь мне, пройдет не так много дней, и ты уверишься, что я всегда буду подле тебя, как только ты будешь звать меня всей Любовью в себе и будешь обращаться к Любви во мне. Нет преград для такого единения, но надо знать одно твердо и незыблемо: если сегодня ты жила в компромиссе, то именно потому, что ты так жила, моего ответа не будет. Любовь-Жизнь может отвечать на зов, посланный во всей мощи верности. А верность Учителю – это тот день, что прожит без страха и сомнений, в полной вере, а не в частице ее. Возьми с собой этот платок. Ты найдешь на нем мой портрет, который я даю тебе на память. Но его воспроизводить для кого-либо ты не должна, он дан лично тебе одной.
В комнату вошел Кастанда, говоря, что их проводники предлагают не дожидаться рассвета, так как ночь светла и прохладнее обычного. Видно было, что Беате не хотелось уезжать несколько раньше положенного срока, что ей была дорога каждая минута, но, посмотрев в лицо И., она вытерла слезы и тихо сказала:
– Я готова, как скажет Учитель.
– Поезжайте, друг. Вы готовы к новой жизни. Начинайте ее немедля, – ответил ей очень ласково И. Бронский, растерянный, по-детски светящийся добротой и лаской, нежно целуя руки художницы, торопясь шептал:
– Благодарю вас за все. Хочу одного: стать готовым к деятельности и, уезжая, увозить такое же напутствие, какое получили вы.
Левушке, подошедшему проститься, Беата сказала:
– Юность ваша пленила меня. То чудо, что случилось с вашей внешностью здесь, заставило меня глубоко задуматься о чуде, что должно было совершиться внутри вас. Я навек останусь благодарной вам за ту картину, что теперь увожу. Я постараюсь быть достойной того портрета, который вы обещали мне изобразить в одном из ваших романов когда-нибудь. Я верю и надеюсь, что мы еще встретимся.
Никто не слыхал, что говорили И. и Франциск художнице, когда она собиралась сесть на опустившегося на колени мехари. Но лицо ее, освещенное луной и факелами, было так необычайно счастливо, что Бронский и Левушка забыли обо всем, забыли, что надо что-то пожелать Беате в последний раз, что они провожают человека куда-то далеко, что они стоят среди других людей.
– О чем же ты мечтаешь, Левушка, ведь мехари уже далеко, – услышал я голос И. – Я, я… я даже забыл о мехари. Я видел чудо: человека, в котором вдруг внезапно проглянул на минуту Бог. Видеть высшее совершенство в вас, Франциске, Али я уже привык. Но увидеть Бога в человеке, в Беате, было для меня потрясением.
– Идите оба спать, через два часа вас разбудит Ясса, и вы снова отправитесь в комнату Али читать. Подкрепитесь сном, времени мало.
И. обнял каждого из нас, мы с Бронским простились с Франциском и расстались, разойдясь по своим комнатам, до нового скорого свидания.
Глава 14
Мои размышления о новой жизни Беаты. Мы кончаем чтение древней книги. Профессор Зальцман
Войдя в свою комнату и приласкав вскочившего мне навстречу Эту, я уговорил уснуть снова моего белоснежного друга, сам же сел на балконе, не будучи в состоянии справиться с целой бурей мыслей и чувств, наполнявших меня.
Каким далеким казался мне сейчас тот день, когда я приехал в Общину и впервые увидел прекрасную седую голову Беаты. И вместе с тем точно вчера это было, точно вчера я увидел впервые это лицо. И почему я ни разу не подумал, сколько лет Беате Скальради. Молода она или стара? Я осознал, что за время своего пребывания здесь я перестал воспринимать человека как возраст, как тело, вообще как внешность.
В данную минуту духом своим я был не на балконе, мысль моя неотступно следовала за Беатой. Я летел в тишине пустынной ночи вместе с ней в новую, далекую, шумную жизнь. Я ощущал в сердце какую-то еще мне неведомую боль, точно я не мог примирить две жизни: жизнь здесь и жизнь среди суеты и страстей.
Но разве здесь нет суеты и страстей? Я вспомнил дико сверкавшие глаза монаха, вспомнил оспаривавшую в беседе с Франциском свою правоту старушку, профессора, несколько тяжелых сцен Аннинова, Андреевой и понял, что двух жизней нет, что нечего и примирять их, так как вся суть вещей в самом человеке, в его освобожденности и готовности, в его умении вынести из себя чистоту и всюду устоять в ней.
Мыслимо ли представить себе И. скорбящим о том, что ему надо покинуть то или иное место в мире или оставить тех или иных людей? И кто же больше, ярче и тоньше него мог ощущать окружающую атмосферу, слабость и неустойчивость людей?
Тем не менее он, иногда утомленный, никогда и нигде не воспринимал окружения болезненно, каким бы напряженно– и тяжело– страстным оно ни было. Я вспомнил лица И. и Франциска в моменты борьбы со злыми карликами. Какая необычайная мощь лежала на этих лицах, какое величавое, сосредоточенное спокойствие…
Я летел мыслью все дальше и дальше за Беатой, мне хотелось еще и еще повторить ей слова Флорентийца и И.: "Самообладание – это трудоспособность организма при всех, даже ужасных, обстоятельствах жизни".
Я представлял себе, как тяжело будет Беате очутиться в Париже, утонуть в гуще города, в зависти и сплетнях, в интригах и происках ее коллег, которые будут потрясены ее картинами и попытаются сделать все, чтобы их не пропустить. Но тут же вставало понимание, что Беата теперь уже не та, которую я знал и к колебаниям которой привык.
Надпись, горевшая нам с Бронским, говорила, что каждый идет в путь гонцом Учителя только тогда, когда он готов. И. послал Беату, говоря ей в последнем напутствии, что она готова к труду среди людей, к труду его через нее, – надо быть только счастливым и радоваться ее новой жизни, но не тревожиться за нее.
И еще раз я увидел, как во мне много остается условного. Еще жили, активно пронзая меня, такие понятия, как разлука, расстояние, время, отсутствие известия о человеке. Как же тяжело должно житься людям, в чьей жизни главное место занимает земля и все ее условности, в ком живут лишь изредка мелькающие порывы к небу и его Мудрости. Я понял, как далеко мне еще до простых подвигов тех людей, о которых я читал в древней книге.
Постепенно моя печаль проходила. Меня всего обнимал новый Свет, по мере того как я сосредоточивал свою мысль на Флорентийце и просил его благословить отъезжающую Беату, и мысль моя переходила в ликование, в радость и полное мира спокойствие.
Я всем сердцем пел Беате песнь торжествующей любви, желая, чтобы ее путь никогда не разрывался в труде с путем И. и Франциска. Я старался перелить всю энергию моей чистой любви и уважения к художнице в ее новый путь, чтобы он крепился от моих мыслей, а не вбирал в себя еще и их неустойчивость. Внезапно я ощутил знакомое мне содрогание всего организма и мгновенно услышал голос моего дивного друга:
– В первых ступенях ученичества нет большего подвига, как разлука ученика со своим Учителем. Каждый ученик проходит эту неизбежную для каждого ученика ступень. Но лишь тот ученик восходит в своем знании высоко, кто уже в первой разлуке не думает о себе как об отъезжающем и печальном сердце, но видит тот труд Учителя, который он для Него может выполнить и тех людей, которым может перенести Его помощь.
Иди вперед, не думая, что ты идешь, но иди, зная, как несут в себе Единую Великую Жизнь во все места и как учатся развивать в себе и окружающих все дары приспособления, чтобы легче, проще, выше, веселее выполнять урок вечного среди внешних условностей.
Мужайся и помни: друг – тот, в ком ты знаешь Вечное. Поэтому у ученика не может быть личного врага. Ученик может быть послан даже орудием смерти. Но он не будет слепым орудием, а будет освободителем земного мира от безнадежно скованного на земле в данной форме зла.
Мне казалось, что я и часа еще не провел на балконе, как Ясса уже стоял передо мной и покачивал укоризненно головой.
– Учитель И. приказал передать вам эту укрепляющую пилюлю, и теперь я понимаю, почему он посылает ее вам. Он велел вам лечь спать, а вы не выполнили его распоряжения, – с укором покачивая головой, подал мне Ясса пилюлю Али.
– Ясса, миленький, мне казалось, что два часа – это уйма времени. А оно улетело вместе с моими мыслями буквально в одну минуту.
– Идите, идите, господин летящая минута. Бронский, отлично выспавшийся и сильнее тигра, ждет вас с нетерпением. А вас, как младенца, пришлось подкреплять в самый важный для вас момент. Ну как же на вас вообще положиться? Подумайте, вы рассеялись от врезавшейся в вашу жизнь разлуки. Что же будет с вами, если в момент, когда надо будет выполнить великое задание Учителя, в ваши личные чувства врежется смерть близкого вам человека, или случится пожар, или еще какое-либо бедствие преградит вам путь к исполнению задачи Учителя? Вы все бросите и побежите спасать тех, о ком вам не сказано, и забудете всех тех, о которых сказано именно вам?
– Сейчас я не сумею ответить на ваш вопрос, Ясса. Но он для меня и чрезвычайно важен, и более чем своевременен и серьезен. Спасибо вам за него, я в нем усматриваю нечто вроде предостережения.
Мы быстро вышли из комнаты и увидели внизу Бронского, мощного, светлого; мне показалось, что из него шли лучи силы. Весело поздоровавшись со мной, он внимательно посмотрел мне в лицо и сказал:
– Как это странно, у вас, Левушка, сегодня лицо менее обычного спокойное. У вас случилась какая-нибудь неприятность?
– Нет, Станислав, я очень счастлив, я был немного слаб, но И. прислал мне пилюлю, и я чувствую себя прекрасно.
Мы прошли в комнату омовений, и на этот раз вода с меня текла гораздо чернее, чем с Бронского. Он и шел сегодня совсем легко, фигура его за эти дни поста стала гораздо стройнее. Его глаза сейчас пристально искали светящуюся надпись.
Он подошел к самой двери и только на пороге ее остановился. Я понял, что его остановило огненное письмо, но я его сегодня не видел на пороге, где оно обычно сияло прежде всего. Удивленный, я поднял голову вверх и высоко на двери прочел: "Мучения любви – плод суеверия земли. Жажда близости ощутимой – сила закрепощения человека в его собственных желаниях. Ученичество – наука освобождения. В ученике любовь его не сохнет оттого, что он освобождается и развивается. Он не останется равнодушным к ближним. Но в нем рассеивается туман страстей, и он видит ясно и всегда всю жизнь окружающих, а не один момент личной их жизни и своей связи с ними.
Не забывай, ученик, что указания твоего Учителя даются тебе сейчас, даются тем, кто знает и видит и твой, и всех окружающих тебя пути. Иди в законе вечного, добровольного и нерушимого повиновения, ибо оно ничто иное, как верность твоя, в которой следуешь за ведущими тебя".
Надпись погасла. Но мы не проходили в распахнутую дверь, нам обоим хотелось сегодня особенно крепко сосредоточиться, призвать чудесное имя Али, комната которого стала для нас таким святилищем, и послать Ему нашу благоговейную благодарность. Внезапная дрожь потрясла все мое тело сильнее обычного, и я услышал голос Али, такой громкий и ясный, точно он был рядом с нами:
– Помните, друзья мои, что радость знания, даваемая вам, – это не сила наших забот о вас, но возможность создать через вас новые пути помощи людям, показывая им на живом примере, где путь к нам и как он достигается. Каждый, общающийся с вами, должен освободиться от суеверия и предрассудков: что вы, ученики и сотрудники, – святые или особо счастливые избранники. Но в поведении вашем, в вашем сером трудовом дне они должны видеть нерушимую верность вашу нам – ваше единение вечное с нашим трудом и путями.
Я передал Бронскому, что сказал нам Али в ответ на наше благоговейное приветствие Ему. Он пожал мне руку, впервые назвал меня дорогим братом Левушкой и сказал еле слышно:
– Я без вашей помощи не мог понять, что говорил Али. Но что Он говорил нам, это я ощущал всем своим существом. Впервые сегодня за всю мою жизнь я испытал чувство бес предельной, ликующей радости, в которой не было ни единого момента памяти о земле, времени, пространстве.
Мы вошли в комнату и снова были поражены, что стол был открыт и лежавшая на нем книга была развернута не на том месте, где мы остановились вчера. Перед нею в высокой белой, сияющей, точно внутри ее был белый огонь, вазе стояли никогда не виданные мною цветы, схожие с розами и лилиями, совершенно белые, с изумительной тонкости и красоты лепестками, издававшие не сильный, но чарующий аромат.
Обоих нас поразило довольно большое количество склеенных листов, отделявших место нашей вчерашней остановки в чтении от места, раскрытого для нас сегодня.
– Очевидно, нам не нужны или недоступны в данное время истины склеенных листов, – сказал Бронский, и я начал переводить:
"Помнишь, Аполлон, как несколько лет назад ты сидел на этой самой скамье, полный скорбных дум и печали от разлуки со мной? Тогда мой голос ободрил тебя, я указал тебе путь, как идти вперед мужественно, не показав ни разу детям своего уныния, как вселить в них уверенность в себе при всех неудачах и крепить в них радостность своим спокойствием. Верность твоя моим заветам не поколебалась. Ты не сокрушался, что я, дав тебе заветом широкий урок служения людям-толпам, связал тебя на целый ряд лет двумя нищими сиротами и их спутником-псом.
Теперь дети твои самостоятельные и большие величины в их искусстве, и тебе настало время их оставить, предоставив им, в свою очередь, служить путями красоты людям, как сами смогут и сумеют.
Не ущемляйся сердцем, покидая детей, которых любишь, как самых близких родных.
Оставь последнюю условность личной привязанности и иди в те места, что тебе укажу.
Нет на земле суеверно благословенных мест. Но есть места, где много праведников, самоотверженных и чистых, долгими годами чистой радости очистили на много миль вокруг атмосферу земли.
В несколько таких мест ты пойдешь и оставишь там Зерцала Мудрости, что я тебе скажу, что ты сам запишешь. Часть их, что укажу тебе, ты вынесешь в песнях и молитвах людям, встречаясь с ними повсюду. Особо же священную часть укроешь в земле и камнях. Сила их Света будет видна тем, чьи сердца будут чисты. И много веков там будут селиться ищущие Истины и путей Ее.
Не думай, что, обходя мир, ты оставишь заветы мои для определенных сект и людей, узко видящих Бога в одних обрядах людей. Не для праведных, но для грешных, ищущих и жаждущих освободиться, ты пойдешь.
Здесь сидел ты несколько лет назад юношей, не знавшим всей бездны греха и скорби, всей тьмы падений и лицемерия людей. Здесь ты простил и благословил женщину, обрызгавшую тебя ядом лжи и проклятий за отвергнутую любовь плоти. И как твое сердце сумело вынести ей не приговор осуждения, но подать дар любви Единого, так мое сердце слилось с твоим в Любви Единого, для труда твоего в каждом простом дне.
Не осудивший и простивший врага, простивший не от ума, но от всей великой, смиренной Любви – свободен, и Бог живет и сияет в нем.
Не принявший великолепия внешних даров, но отдавший жизнь убогому, узрев в нем Меня, – свободен, и Бог живет и сияет в нем.
Отошедший от семьи и понявший любовь как ядро Вечного в каждом встречном, не жалеющий о блаженстве прошлого, не печалящийся в настоящем, не ужасающийся будущего – свободен, и Бог живет и сияет в нем.
Иди в те места, что укажу тебе, бесстрашно, легко, весело. Заложи в них путь для встреч и раскрепощения обремененных, чтобы могло приблизиться время понимания, как душу свою за друзей-ближних отдавший кладет зерно' Света, и рождается новая сила для раскрепощения людей.
Не иго я возлагаю на плечи твои. Не игом вплетается труд мой в твои дни, но красоту чаши Любви понесут руки твои, чтобы мог я разделить иго и скорби людей.
Из чаши Жизни пролей Огонь в те места, где зароешь Зерцала Мудрости, чтобы легче было людям раскрыть в себе чистоту сердца и услышать озарение мое.
Не звал ты меня, верный сын мой, но действовал на земле, как я тебе указал. Не в мечтах и обетах была твоя верность мне, но в простых делах будней. Раскрыта теперь Радость в тебе. Иди, выполни урок мой и жди дальнейших указаний".
Не тот Аполлон, почти мальчик, сидел теперь на скамье, вспоминая сцены далеких дней, дней первых бродячих представлений, когда встретил маленьких сирот.
Мальчик-скрипач, много с тех пор работавший и учившийся, теперь изумлял мир.
Девочка, певица и танцовщица, стала знаменитостью. Сироты не забыли и своего постаревшего пса, видели в нем и сейчас одного из своих лучших друзей и баловали его, как могли, украшая ему существование. Они упросили Аполлона посетить то место, где когда-то с ним встретились, и дать концерт в том городе, где их так жестоко приняли семь лет назад.
Теперь на скамье сидел молодой зрелый мужчина, широкоплечий, высокого роста и с сияющим лицом. Но что-то было в этом молодом лице, что не позволяло людям держать себя с ним развязно, говорить в его присутствии о пошлых вещах и браниться. Каждому хотелось укрыть свои скотские стороны и выказать побольше красоты и благородства, когда сияющие глаза Аполлона смотрели на него.
Сейчас, услышав голос отца, которого он не слыхал с тех давних пор, как сидел здесь впервые и сердце его исходило кровью, он весь точно преобразился. Ему теперь казалось, что именно этого зова отца он только и ждал уже несколько дней.
Он понял, что задача его, задача, задерживавшая его перед более широким планом действий, сейчас окончена.
Он тогда сожалел, что у него не было семьи, что он одинок и бесприютен, – и Жизнь послала ему семью, дом, уют. Он узнал все личное счастье семьянина и понял, что и это иллюзия, что Вечность не там, где проходящее счастье, но там, где живет Она Сама. А живет Она там, где человек творит.
Мысли Аполлона пронеслись вихрем сквозь весь прожитый за этот период времени опыт. Он понял, что людям необходимо искать пути к творчеству, иначе они задохнутся в той атмосфере смерти, которая делается владычицей всюду, где кончается искание свободы и мира.
Он понял, зачем нужны отцу его очаги Света, зачем нужны места, где живут освобожденные от страстей, и новая волна счастья и ликования залила его сердце.
Какой легкой и маленькой показалась ему его личная разлука с детьми, такими близкими и любимыми, и еще яснее он понял, почему отец его не плакал и не тосковал, посылая всех своих сыновей вдаль. Понял Аполлон, что видел отец в пути каждого сына и Кому он служил, отрывая их от своего сердца и родного гнезда.
Аполлон собирался уже встать со скамьи и отправиться в выросшую вместо прежнего заезжего дома большую гостиницу, как его остановила закутанная в шаль женская фигура.
– Господин, сжалься, пойди со мною. Здесь недалеко дом моих господ. Я старая мамка моей теперешней госпожи. Вот уже скоро семь лет, как госпожа моя чахнет и изнывает в никому не понятной болезни. Ни один доктор не может ей помочь. Нам сказали, что со скрипачом приехал его доктор, что ты очень учен в больших городах. Не сердись, что я нарушила твой покой. Муж моей госпожи отблагодарит тебя большими деньгами. Я же во имя Бога вечного, молю тебя, последуй за мной.
Госпожа моя ни во что не верит и, когда я ей говорю о Боге, бранит меня и спрашивает, почему же мой Бог не освободил меня от рабства, почему я не вымолю ей у Него помощи и здоровья. Смилуйся, господин, – рыдая и опускаясь на колени, говорила женщина. – Нет, не поднимай меня, позволь мне быть у ног твоих. Точно благая теплота вливается в раны сердца моего, и старый грех не так жжет меня. Во всем виновата я одна, господин. Была я красоты необычайной, и купил меня мой старый господин своей дочери, которой я понравилась, в приданое. Добра была моя молодая новая госпожа, жалела меня и ласкала. Все шло некоторое время хорошо, да стал на меня все чаще и чаще взглядывать молодой хозяин. Дошло дело до того, что сделалась я беременна и родилась у меня дочь, теперешняя моя госпожа. Не знаю я, что произошло между моими господами, только на второй день родов взяли от меня дочь, а к вечеру перевели и меня в барский дом, и поселена я была рядом со спальней моей доброй госпожи. Долго, очень долго я ее не видала. Уже стало девочке моей два года, как позвали меня однажды к моей госпоже. Ох, господин, долгая с тех пор прошла жизнь, а минуты того ужасного свидания все стоят передо мной. Исхудалая, почти один скелет, желтая, как воск, лежала она на постели, и глаза ее светились, точно лучистые лампады.
– Подойди ближе, бедная раба неверная, – тихо, тихо сказала она мне. – Возьми это ожерелье. Никто не знает, какова будет его старость, оно драгоценно. Многими слезами, стонами и жалобами я его оплакала, но и величайшим прощением моим оно пропитано. Мне его дала моя бабка, сказав: "В нем твое счастье". Ах, как плакала я, когда ты отняла у меня мужа. Прижимая мое ожерелье к груди, я все спрашивала: где же мое счастье? От слез и горя разбилась грудь моя, и чем больше я страдала, тем яснее понимала, что всякое счастье не вечно, а вечна одна доброта. И простила я тебе, велела дочь твою записать своей родной дочерью. Живи с нею вместе в моем доме, возьми ожерелье, пусть оно будет счастьем твоим и научит и тебя прощать и любить так, чтобы видеть не одно только свое счастье, но и счастье других. Смерть уже возле меня. Она не страшна мне, и ты ее не бойся. Она освободит меня от страданий и освободит тебе место для лучшей жизни в этом доме.
Только одно запомни: будь верна до конца тем людям, которых ты сама выбрала, и научи их святости любви. Она подала мне ожерелье и упала навзничь. Я думала, что она уже умерла. Ужас объял меня. Я хотела бежать, как вошел хозяин и с ненавистью взглянул на меня. Увидев на мне драгоценное ожерелье, он бросился на меня с криком: "Уже обокрала? Подай сию минуту!" Но вдруг госпожа поднялась и каким-то не своим, свистящим голосом сказала: "Не она, а ты обокрал меня и ее. Отдай ей ожерелье. Храни тайну рождения дочери, и пусть раба моя живет при ней мамкой и нянькой столько, сколько будет жить на земле". С этими словами она вторично упала, чтобы уже не подняться больше. "Ступай к себе и не смей сюда входить. Живи, как приказала твоя госпожа, но не попадайся мне на глаза", – сурово сказал мне хозяин. С тех пор живу я мамкой у моей молодой госпожи, но любви, о которой говорила покойная, я ее научить не сумела. Жизнь моя и всегда была ужасна в доме, я боялась выйти лишний раз из комнаты, а с тех пор как больна моя теперешняя госпожа, я молю только о смерти и стараюсь найти в ожерелье силу любви, что передала ему моя добрая умершая госпожа. Пойдем, господин, может быть, ты спасешь жизнь больной. Я не потому прошу тебя, что боюсь, как бы отец ее не убил меня. В смерти, верно, легче, чем в моей жизни. Но потому, что страшно мне, если не найдет успокоения души несчастная дочь моя.
Черный демон злобы, злой любви, я уверена, держит ее крепко в лапах, как держал и держит и по сей час меня. Не откажи взглянуть на больную, пойди со мной, – рыдала женщина, цепляясь за ноги Аполлона.
С трудом подняв женщину, он усадил ее на скамью рядом с собой, взял ее руку в свою и ласково сказал:
– Успокойся, друг. До тех пор пока ты не придешь в полное спокойствие, мы с тобой не двинемся с места. Чем скорее ты хочешь, чтобы пришла помощь к человеку, тем скорее ты должна быть в полном самообладании, забыть о себе и думать только о нем. Сейчас ты молишь о дочери. Оглянись на свою жизнь. Перестань плакать и подумай, почему ты не сумела выполнить завета твоей умершей госпожи, которой ты была любимой подругой, которая доверяла тебе все свои тайны и которую ты так жестоко обманула. Если бы ты призналась ей во всем, она простила бы тебя. И в вашем доме, если бы не жило счастье, жил бы мир. Если бы ты так не ревновала своего господина и дочь, в вашем доме если бы не жило счастье, жил бы мир. Если бы ты не скрывала в своем сердце лжи и не оговорила бы покойную перед ее мужем, в вашем доме жил бы мир.
Ты любила и любишь дочь, но она впитала в себя с твоим молоком и лицемерие, и зависть, и ужаленную гордость, и чрезвычайно чувствительное самолюбие – качество рабов. Пойдем. Прижми к себе свое драгоценное ожерелье и призови всю силу любви отошедшей, все простившей тебе души. Почувствуй себя в этот единственный час жизни освобожденной от всей лжи, от всех цепей, что ты сама и люди надели на тебя, и стой перед Богом, перед Ним одним, как будто все исчезло, а ты уже умерла и стоишь во всей вселенной, во всей своей правде перед Ним.
Аполлон поднял женщину, которая стала совсем спокойной, и пошел за нею в темноте спустившейся ночи. Путь оказался не длинным. Женщина ввела его в дом, который спал мирным сном в глубокой тьме, провела его с зажженным светильником в большую роскошную комнату, еле освещенную и пустую, и ушла за тяжелый занавес, отделявший часть комнаты.
Через несколько минут она снова появилась, пригласила гостя идти за собой, приподняв перед ним тот же занавес, и молча пропустила его в другую половину.
Сильный аромат носился в комнате, воздух был спертый, тяжелый, жаркий. Несколько светильников с ароматным маслом горело в комнате, убранной роскошно, по-восточному. И несмотря на свет, горевший во многих местах, комната казалась еле освещенной. Аполлон разглядел лежавшую на высоком диване неподвижную женскую фигуру.
– Мамка, это ты? – раздался голос с дивана.
Голос был слаб, и Аполлону показалось, что он уже где-то слышал этот голос, суховатый и резкий.
– Я привела к тебе нового доктора, госпожа. О нем все здесь говорят, что он очень ученый и многим помог, – необычайно нежно и ласково ответила мамка.
– Ты становишься все глупее с каждым днем, не только с каждым годом, – ответила с большим сарказмом госпожа. – Сколько раз мне повторять тебе, что я не желаю видеть никаких докторов и имею достаточный опыт, чтобы знать их близорукость в моей болезни. Ведь ясновидца ты привести мне не можешь. Извинись перед своим доктором и уведи его обратно. За беспокойство проси мужа уплатить, – не открывая глаз, продолжала больная.
Аполлон подошел к одному из светильников, взял его в руки и поднял высоко над изголовьем больной. Внезапно освещенная ярким светом, больная широко открыла глаза и резко приподнялась на постели. По злому выражению ее лица можно было ожидать резкого выговора вновь явившемуся доктору, осмелившемуся нарушить заведенный в доме порядок. Но первый же взгляд, брошенный на лицо вошедшего, оборвал ее речь. Уставившись в его лицо неподвижным взглядом, больная вскрикнула:
– Ты? Ты? Возможно ли это? Ведь вся моя болезнь – это ты, злой демон! Как осмелился ты переступить мой порог? Ступай вон, старая дурища! – крикнула она мамке, указывая ей на дверь. – Не смей входить сюда, пока я тебя не позову. И если кто-нибудь войдет сюда, пока я говорю с этим человеком, тебе не сносить головы.