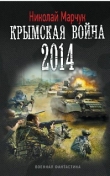Текст книги ""Две жизни" (ч.III, т.1-2)"
Автор книги: Конкордия (Кора) Антарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Пес издал рычание, которое, будь я один, принял бы за ворчание львенка. Из нескольких концов сада послышалось ответное встревоженное рычание.
– Что же ты наделал, брат Леоноре? Ты встревожил покой даже собак, не только людей. Неужели ты не понимаешь, что, пока ты весь в таких порывах и страстях, пока твои взлеты и ревнование о Боге могут доводить тебя до насилия над людьми или животными, ты не можешь трудиться рядом со мной.
– Отец, друг, прости меня! – завопил Леоноре, бросаясь к ногам Франциска. – Я не могу расстаться с тобой. Я нашел тебя. Ты один можешь привести меня ко Христу. Я только через тебя могу научиться служить Богу и найти спасение. Не отправляй меня. Я буду тих и кроток подле тебя. Прости мне мои дерзкие слова. Это только ревность моя. Я действительно хотел удавить павлина этого мальчишки, с которым ты ходишь и даешь ему счастье быть подле тебя. Не отвергай меня.
Леоноре все рыдал, обнимая ноги Франциска.
Снова послышалось рычание, и на этот раз рычание многих псов. Я разглядел целое кольцо собак, подходивших к нам ближе. Псы, очевидно, думали, что обожаемому ими Франциску грозит опасность, так я понял их маневр.
– Встань, мой бедный друг. Я ничего не могу сделать сейчас для тебя кроме того, что делаю. Можно принести кому-то весть пробуждения и спасения. Но само спасение живет в человеке, и только он один может достичь его своим собственным путем, победив в себе не только страсти тела, но и духовные порывы. В тебе чередуются ужас и восторг, подвиг и протест, своеволие и кротость. Но мира в тебе не бывает никогда. Ты все время думаешь о величии задач жизни, что ты сам себе поставил. А твой старец сказал тебе, что, пока ты не войдешь в простую жизнь обычного дня, пока не выбросишь из головы своих «исканий», не станешь простым, любящим человеком, трудящимся для людей, ты ничего не достигнешь. Только через труд серого дня ты сможешь понять величие и ужас путей человеческих. Ты обошел чуть ли не все страны мира и все сравнивал, как и где люди в Бога веруют. Ты пришел наконец к русскому старцу, признал его веру и святую жизнь и снова ушел. Теперь ты к нам пришел. И здесь все так же критикуешь, отрицаешь, выбираешь. И не занимаешься ни одним из предложенных тебе трудов, а видишь, что все здесь трудятся и никто не живет в праздности.
– Отец мой, это только потому, что я тебя так редко вижу. Я буду в самом святом послушании у тебя, только не отправляй меня, позволь за тобой следовать.
– Говорю тебе, друг, и десяти шагов за мной не сделаешь, как станешь задыхаться в моей атмосфере. Тебе – один путь, если хочешь прийти ко мне со временем: поезжай с моим великим братом, что за тобой пришлет.
– Ах, отец, отец, зачем ты говоришь такие неподобные слова? Тебе ли говорить неправду? Сияешь, как ангел, и несешь нелепицу. Ну где же мне задохнуться там, где может идти с тобой этот младенец? Он, видишь, без куклы-то и ходить за тобой не может, а ты говоришь обо мне, как о слабом младенце. Если бы он сильней меня был, нешто он за свою птицу держался бы, как девчонка за игрушку? Прогони его, возьми меня, и ты увидишь, как я буду служить тебе.
– Прощай, мой друг, все, что мог тебе сказать, я сказал. Научись не отрицать и не судить, и ты легко и просто разыщешь путь ко мне. Фриско, проводи гостя домой, – обратился Франциск к собаке, не отходившей от нас. – Помни, Фриско, гость – друг. Проводи и охраняй, введи в дом и до утра никуда не выпускай. Иди, мой брат, с миром. Иди, успокойся и жди моего друга. Перестань метаться, поезжай в дальний скит. Если найдешь силы усмирить в себе бунт, найдешь и мир и мудрость Истины.
Одно мгновение я думал, что монах снова бросится к Франциску. Глаза его сверкали как угли, он судорожно сжимал руки, зубы его скрипели… Но мгновение прошло, он низко поклонился Франциску, касаясь рукой земли, и глухо, с трудом выговорил:
– Ин быть посему.
Он повернулся было чтобы уйти, но подошел ко мне и добрым голосом сказал:
– Прости обиду, не со зла.
– О, я с первой минуты знал, что ты добрый, – и я, отдал ему такой же низкий поклон, какой он дал мне.
Когда я поднял голову, и человек и собака исчезли во тьме. Франциск взял меня снова под руку, я спустил Эта на землю, и мы двинулись в обратный путь в безмятежном молчании ночи, как будто ничего вокруг нас не происходило. Я думал, что мы идем домой, в темноте ночи не различая точного направления, куда мы шли.
Из-за гор показался краешек огромной луны и через некоторое время вокруг нас стало светло, как днем. Я увидел теперь, что мы идем все дальше и ландшафт становится все пустыннее. Мы вошли в небольшую рощу, тень от деревьев падала фантастическими пятнами на светлую дорожку.
– Теперь ты увидишь не мене несчастных людей. Это тоже наши, Божьи люди. Их долгая жизнь была посвящена Богу, постам, молитвам и толкованию священных писаний. Каждый из них стремился основать какое-либо общество, братство, отдавая всю жизнь разъяснениям, что такое Бог, каковы Его аспекты и какова задача человека в связи с деятельностью во имя Божие. Но каждый из них не видел одного: духа Божия в самом человеке – и не умел поклониться ему до конца. Вся задача исканий Бога состоит только в том, чтобы пронести полное уважения и доброты благословение той форме, в которой пребывает Единый в человеке. Чтобы труд твой для этой формы был тебе священной задачей дня. Чтобы Единый не формально был для тебя символом Любви, но живая временная форма сливалась бы для тебя в чудесный звук общей Гармонии, когда ты встретил человека. Если ты полон сияющей Радостью, ты сразу видишь в человеке чудо: он слит с Гармонией, он идет в Ней, несет в себе ее, хотя сам этого не видит. И каждый не видит по разным причинам. Один – потому что карма держит его цепко, и он никак не может освободиться от страха и мести, жадности и ревности, которым служил века. Другой не может вырваться из ряда предрассудков долга и личной любви. Третий уперся в барьер науки и не может вызволиться и вылезти в творчество интуиции, топчась по задачам узкого ума.
Пятый завалил себе выход к освобождению, бегая весь день по добрым делам, а дома сея муть и раздражение, и так далее. Сейчас мы войдем к ученому, всю жизнь решающему космические вопросы.
Франциск умолк и через несколько минут нам встретился старичок, видом вроде калмыка. Он ласково нам улыбнулся и погладил нежно Эта по шейке. Обычно не любивший прикосновения чужих рук, Эта потерся головкой о его колено.
– Что ты не спишь, Мулга? – спросил Франциск, ответив на приветствие старика.
– Не успел убрать остатки упавшего дерева, а утром поедут по дороге, будет нехорошо. Пользуюсь луной, только боязно, как бы профессор не стал браниться, что мешаю ему заниматься. Стараюсь тихо убирать, да все же кое-где ветка да трещит.
Добродушие, спокойствие так и лились из всей фигуры старика.
– Да что же это такое? Ни днем, ни ночью мне нет покоя от Вас, Мулга. Из-за Вас я должен труд мой бросать, открывать окно и напускать к себе всякую ночную нечисть в роде бабочек и мошкары. Можете потише разговаривать с Вашими несносными псами. Шагу ступить невозможно, чтобы не столкнуться с ними в любое время дня и ночи. И чего здесь караулить? Подумаешь, сокровища? Рваные домишки! Голос был раздраженный, и чувствовалось, что человек изливает на бедного Мулгу какие-то свои давнишние токи скопленной горечи и недовольства.
– И когда только я смогу втолковать в Вашу глупую голову, что Вы перебили мои мысли, от которых зависит, быть может, иное понимание жизни светил?
Голос доходил к нам из окна, окно захлопнулось, и в тишине ночи слышались только вздохи огорченного Мулги. Истинная печаль была видна на его лице. Покачивая головой, он говорил Франциску шепотом:
– Прости, дорогой брат, что я сделал тебя свидетелем немирной сцены. Всегда забываю, что голос мой так громок. Ах ты, Боже мой! Какой я глупый, опять я помешал бедному профессору и нарушил здесь общий мир. Беда, если молитвенничек тоже молился да выйдет сюда. Да вот он уже и вышел. Ну, теперь и мне, и псу моему бедному до вечера все будет доставаться.
Франциск улыбался, не трогаясь с места, хотя Мулга убеждал его уйти и избежать встречи с молитвенничком, который шел прямо на нас, опираясь на высокий посох.
Его белая полотняная одежда составляла резкий контраст с густыми черными, торчавшими шапкой во все стороны волосами, длинной черной же бородой и огненными черными глазами. Человек шел решительными шагами, в нем явно все негодовало.
– Мулга, прошлый раз я сказал тебе, что буду жаловаться на тебя в Общину. Теперь я не жаловаться буду, а требовать, чтобы тебя отсюда убрали вместе с твоими смердящими псами. Прошлый раз ты помешал мне дойти до экстаза, а сейчас я уже был в экстазе, как раз видение уже готово было мне открыться, я уже слышал, как сходила ко мне великая Дева, и сердце мое сладостно замирало, как ты снова выбил меня на землю своими разговорами со смердящими псами.
Голос человека, громкий и властный, был резкого, неприятного горлового тембра тенор. Он казался слишком высоким и тонким для плотной фигуры человека и так же не гармонировал с его общим обликом, как его борода с белой одеждой.
– Прости, дорогой брат, – сказал смущенный Мулга. – Я никак не предполагал, что тебя может обеспокоить в твоей святой молитве мой голос. Я был довольно далеко от твоей комнаты, и пес мой был рядом со мною.
– Нечего тебе Лазаря петь и оправдываться, нечего взывать к моему милосердию, – прервал его снова молитвенничек, – разве есть тебе прощение за то, что ты разбил мое видение? Небеса готовы были мне открыться, и на тебе преступление, что я их не увидел. Тебя надо убрать отсюда, я сейчас же иду в Общину, там расскажу старшему всю правду. Да и он-то хорош. Ваш старший! Ничего не знает и не понимает, что у него тут делается: ему докладывают, что пришел ясновидец, он шлет приказ мне задержаться здесь. Ну где видано подобное непонимание?
Ясновидец хотел еще что-то прибавить, но Франциск вышел из тени и, поклонившись незнакомцу, спросил его:
– Не ты ли брат Иероним, приславший в Общину крест со святыми мощами?
– Да, я послал крест с мощами и плат, которым обтер гроб Господень.
– Зачем же ты, если ты ясновидец, обманываешь людей? Ты ведь знал, что в кресте сухой хлеб вместо мощей, и ты сам лучше всех знаешь, что ты никогда у гроба Господня не был, не только его не обтирал. И платок твой, и крест я тебе возвращаю, возьми их. Я прислан тебе сказать, что и на кресте, и на платке положен зарок. До тех пор пока ты не выучишься говорить только одну правду, ты не сможешь снять с себя креста, который я на тебя надеваю, и не потеряешь платка, который я кладу тебе в карман. Где бы ты ни оставлял свой платок, кому бы ты его ни дарил, он все будет возвращаться к тебе, будет находить тебя повсюду. И только тогда, когда твои уста и сердце научатся славить Бога в тишине, в правде и в смирении, только тогда ты придешь сюда вновь и найдешь вход в Общину. Теперь же не только там, но и здесь тебе нет места. Иди отсюда, бедный человек, и чтобы речь твоя не смущала людей, иди молча, потеряй дар речи и обрети его тогда, когда на самом деле доберешься до гроба Господня. Постигни истину: чем ты лживо соблазнял, то ты должен сам же и искупить. Ты страшил людей, что призовешь на их головы наказание Божие. Сходи пешком в Иерусалим, выполни там весь обряд покаяния, через который ты заставил многих пройти, найди бесстрашие в своем трусливом сердце. Когда из него уйдет весь страх, тогда в нем проснутся любовь и правда. Вот тогда придешь сюда вновь. Я лишаю тебя дара речи не для того, чтобы причинить тебе унижение и боль, но чтобы спасти тебя от всех безумных слов, что в тебе клокочут. Иди же, друг. Здесь тебе сейчас не место. Ты достиг Общины только для того, чтобы понять ужас заблуждения, в каком идешь, и найти путь к спасению. Вот этот благородный пес доведет тебя в целости и сохранности до ближайшего места, откуда тебя увезут на верблюде и перебросят в заселенные места. Там дадут тебе немного хлеба и денег, а дальше иди уже сам.
Чем скорее сойдет с тебя гордыня, тем легче будет твой путь. Иди, Бог с тобой.
Ясновидец переживал невероятную борьбу с самим собою. Он краснел и бледнел, а луна, как назло, светила ему прямо в лицо, и под ее светом все ужасные гримасы, которые он делал в усилиях раскрыть челюсти, представляли печальное зрелище.
Наконец, видя что все его усилия напрасны, монах принялся теребить крест, рвать платок, ничего не мог с ними поделать и решился уйти. Вероятно, у него была мысль все же добраться до Общины. Он попытался сделать несколько шагов вперед и свернуть в сторону, но собака зарычала и преградила ему путь.
– Иди, друг, все время за собакой, она приведет тебя кратчайшим путем, куда я тебе сказал. Если ты попытаешься ее не послушаться, лично она вреда тебе не сделает, но и не сможет защитить тебя от диких зверей, которых ты не избегнешь, если не послушаешься своего вожака.
Человек, пока говорил Франциск, повернулся к нему и пристально смотрел ему в глаза, как бы желая удостовериться в истинности и серьезности его слов. При последней фразе Франциска трусливая волна пробежала по всему его телу, он вздрогнул, как-то согнулся и пошел за собакой.
– Что же я наделал, что я наделал, – прошептал вконец расстроенный Мулга.
– Ты ничего ему не сделал, Мулга, как и тому профессору. Пойди и собери узелок с едой, одеждой и книгами. Ты уйдешь отсюда с нами, и я покажу тебе, где ты будешь жить и что делать. Жди нас на этом же месте, через час мы будем снова здесь.
Мулга поклонился и пошел к одному из домиков, а Франциск приказал мне:
– Возьми Эта на руки, Левушка. Я тебе еще раз напоминаю, чтобы ты держал сердце широко открытым. Следи, чтобы ни один его лепесток не закрылся. Молча лей Любовь и не приходи в отчаяние, если человек не подбирает твоей любви, остается беспокойным и не просветленным. Не думай о последствиях, но всегда действуй сейчас. Действовать далеко не значит всегда и молниеносно побеждать. Это значит только всегда вносить пробуждение в дух человека, хотя бы вовне это имело вид, что ты не принес человеку мгновенного успокоения.
Франциск пошел к дому бранившегося недавно профессора, вошел в сени и постучал в дверь.
– Ну, это действительно становится невыносимым, – сказал голос за дверью, и поспешные мелкие шаги направились к нам. Дверь открылась, на ее пороге стоял высокий, худой, аскетического вида старик.
– Извольте, ночные гости, да еще в придачу с птицами! Я терпеть не могу птиц, оставьте Вашу ношу в коридоре, если желаете войти сюда.
– Я прошу равноправия для обоих моих спутников, – сказал Франциск. – Когда Вы, профессор, въезжали сюда с огромным количеством багажа. Вас ведь никто ни в чем не ограничивал. Напротив, Вам предоставили целый домик в пользование и ставили только одно условие: милосердие к людям, цветам, птицам и животным. Теперь я к нему взываю.
– Странные у вас здесь нравы. Я приехал сюда поделиться знаниями с вашими учеными, знаниями, которые могут мир обогатить. И вместо того, чтобы спешить ко мне, меня держат в совершенно не подходящем мне обществе, и первыми являетесь вы со своим призывом к милосердию. Какой толк из всех тех жертв, что я принял на себя, добираясь до вас? Для чего я ехал? Чтобы сидеть в лесу с москитами?
– Перед Вами был иной путь. Вам прелагали ехать в Америку. Вам говорили, что Вы можете там найти сбыт Вашей учености. Вы ведь знаете, что не поехали туда, боясь конкуренции и опасаясь, что не займете там первого положения.
– Потому-то я и приехал сюда, что верю в бескорыстие Ваших ученых. Верю, что они меня не надуют, как это могут сделать янки.
– Перед Вами сейчас очень серьезная проблема. И тот, кто основал Общину, прислал меня сказать Вам, что Вы заблуждаетесь, что все Ваши открытия, на которые Вы истратили жизнь, давно известны у нас, на Востоке. Вы подошли только к самому первоначальному источнику, а наши ученые уже давно решили все начальные задачи и пришли к окончательным выводам. Вы идете неверным путем, и для истинной науки Вам надо начать все с самого начала. Если Вы хотите, Вы можете остаться здесь и, начав все с сначала, следуя указаниям наших ученых, на правах простого ученика учиться, руководясь заданиями, которые будут Вам указаны. Вы можете в наших библиотеках пользоваться всеми книгами мира, и Вам нет надобности таскать за собой свою небольшую библиотеку. Вы можете выбирать себе любые системы для разработки даваемых Вам заданий. Но самые задания для первоначальной работы будут Вам даны. Это еще не все. В нашей науке не могут работать люди, пренебрегающие всеми другими свойствами в себе, кроме ума. В человеке есть еще душа и дух. Тот, кто, как Вы, не поинтересовался развитием в себе духовных сил, не может быть тружеником восточной науки. И не потому, что он недостоин этой чести, как саркастически думаете сейчас Вы, друг. Но только потому, что в нашей науке все начинается и кончается основой духа. Разъяснить Вам в столь короткой беседе этот огромный вопрос невозможно. Да и для Вас сейчас сила не в нем. Сила в Вашей любви к науке для пользы и счастья людей, или же весь Ваш интерес к науке лежит в Вашем собственном «Я», которое Вы желаете вознести на высшую ступень земной человеческой славы. Если Вы ищите славы, ищите ее где угодно, только не у нас. Если ищите науки для пользы и счастья людей, Вы мажете располагать каждым из нас, равно как и всем тем, что есть у нас.
Лицо ученого, сначала саркастическое, стало очень серьезным.
– Я не мальчишка, мчащийся за славой. Если Вы говорите, что я не развивал в себе ничего, кроме ума, то, право, мне было некогда думать о чем-либо, кроме науки. Я голодал и холодал потому, что все, что мог заработать, уходило на мои книги. У меня не было времени заниматься проблемами любви и милосердия к людям, так как я и для личной своей жизни не имел времени. Тратить в пустоте драгоценные минуты, отрываясь от науки, я не мог. Но, если Вы говорите, что я шел неверным научным путем, что где-то я сделал неверные расчеты и выводы – о, это серьезно, это очень серьезно. Если кто-либо из Ваших ученых может мне это доказать, я готов начать все с самого начала и, можете верить моему слову, хныкать не буду. Я буду работать без ропота и разочарования. Никто, кроме меня, не виноват, если я сделал в своих вычислениях ошибку. И признак ума вовсе не в том, чтобы настаивать на своем, если ты понял, что ты не прав. Но это надо доказать. Кто же этот титан-математик, который мог бы понять работу всей моей жизни и указать мне мою ошибку? Во всем мире есть только один, равный мне по знаниям в этой области, и он – мой враг – признает мой труд.
Ученый, на мгновенье допустив возможность своей ошибки, снова гордо поднял голову. В его глазах поблескивал сарказм.
– Этого титана, если хотите, Вы увидите завтра. Но, повторяю Вам, придется принять условие, о котором я Вам сказал, если Вы убедитесь, что Вы были не правы.
– Бог мой, странный Вы человек! Только что Вы толковали о любви. Да разве для моей любви к науке могут существовать какие-либо условия, условности, препятствия? Чтобы достичь истины в том, что составляет для меня цель жизни, даже не цель, а самое жизнь, я пойду на все до конца, если бы на доску ставилась вся моя жизнь. Что значит для меня «жить»? Разве это дышать, есть, наслаждаться, богатеть? Это значит учиться, чтобы в вопросах, дивных для меня, найти верный и точный ответ. Не подвиг или долг для меня моя наука, но жизнь, Бог, вселенная – все. Ведите меня к Вашему титану, и я буду защищаться, как лев. Но если он меня положит на обе лопатки, я не умру, не воображайте. Я не возненавижу ни Вашего титана, ни мою науку. С Богом спорят, но его не ненавидят. Кто меня опровергнет, должен быть полубогом по крайней мере. Ведите меня к нему, и чем скорее, тем лучше.
Пока ученый говорил, его внешний образ менялся, а для меня раскрывался и его внутренний образ. Я увидел, как его старое лицо помолодело, а от всей фигуры веяло силой и энергией, и через все поры его существа лились благородство и мужество. Он остановился перед Франциском, пристально посмотрел ему в глаза и снова заговорил:
– Нередко в жизни меня обманывали люди, я не умел разбираться в них так хорошо, как в моей науке. Впрочем, Вы говорите, что и в ней я не разобрался толком. – Тон его голоса понизился, он горько улыбнулся, помолчал, вздохнул, снова пристально посмотрел на Франциска и продолжал:
– Я хотел от Вас, в свою очередь, слова, что если я окажусь правым, то получу всяческое содействие именно так, как я продиктую. Но… Ваше лицо и что-то такое особенное в Вас заставляет меня довериться до конца Вашей чести. Я ни о чем не спрашиваю, ничего не хочу знать, где будет мое свидание с Вашим гигантом, я повторяю: следую за Вами, ведите.
– Пойдем, дорогой брат, счастлив Ваш день сегодня. Великая радость ждет Вас. И все, чего Вы искали, откроется Вам.
Мы вышли из дома и встретились с Мулгой в условленном месте. Когда мы вышли из леса и очутились снова в море лунного света, ученый снял шляпу, вздохнул полной грудью и, смеясь, сказал:
– Как это ни странно, но первый раз в жизни мне приходится благодарить человека за то, что он оторвал меня от работы. Впервые в жизни я иду ночью в лунном свете свободным, без угрызений совести, что теряю время и оставляю мою науку. Я еще ни разу не выходил из комнаты с тех пор, как приехал. А приехал темной ночью и не знал, что здесь такая красота. Впрочем, в той части Германии, где я жил, было очень красиво, но мне было некогда заниматься природой и ее живописностью.
– Если бы Вы могли, профессор, нести все свои фолианты с собой, то все равно Ваше сердце сейчас освободилось бы от Вашего постоянного страха потерять мгновение в пустоте от научного труда. Пришло Вам время по-иному понять не только что такое «пустота», но и что такое самая наука.
Профессор расхохотался, как будто он услышал от Франциска самую забавную из шуток.
– Право, я готов радоваться встрече с Вами. Простите, я не знаю, как мне вас называть.
– Меня зовут Франциск, зовите и Вы меня так.
– Значит, Вы не англичанин? Я готов был думать, что подобная железная выдержка может вырабатываться только у этого народа. Но это к делу не относится. Я хотел сказать Вам, что первый раз в жизни веселюсь и ощущаю совершенно новую силу в себе: я радуюсь тому, что светит луна, что бежит этот белый павлин, которого час тому назад я ненавидел, что рядом со мною идут люди, хотя они ничего в науке и не понимают, и меня не давит, что они не отдают себе отчета в силах природы. Я не представлял себе раньше возможности провести даже нескольких минут с людьми, не имеющими непосредственного отношения к науке. А сейчас рад, что пробуду с Вами несколько часов.
Тон ученого, его полное непонимание, кто был радом с ним, снова меня поразили. Я не мог уже теперь вспыхивать и угасать, как делал это раньше, но в сердце моем было возмущение, негодование и… сострадание. Я поражался грубой нечуткости человека, считавшего себя избранником и чуть ли не вершителем мировых законов жизни. Где же внимание этого человека? Как может он не чувствовать тех струй любви, что бежали к нему от Франциска и которые, несомненно, влияли на него, и от них-то он и чувствовал свое раскрепощение от условного долга.
Луна стала заходить за рощу, ночь становилась темной, но уже чувствовалось, что вскоре заря сменит короткую ночь. Мы все шли прямо, и мне казалось, что мы идем не к Общине. Но я потерял давно ориентировку и уже не мог ясно определить, куда мы шли. Внезапно ученый спросил Франциска:
– Скажите, брат Франциск, что это там, вдали так сверкает? Если бы это был пожар, то можно было бы видеть колебания пламени, чувствовался бы запах гари и дыма. Но я вижу совершенно неподвижный яркий огромный круг света. Этот феномен Вашей природы мне неизвестен. Что это? Впрочем, что же это я, глупец, спрашиваю Вас о явлениях природы? Вы, вероятно, кроме послушаний, налагаемых на Вас Вашей сектой, ничего и не знаете? До сил природы Вам столько же дела, сколько мне до дел Вашей секты.
Франциск оставил без ответа все выпады профессора, просто ответив:
– В том месте; где Вы увидели круг света, живут люди, владеющие силами природы и умеющие направлять их так, чтобы благо и счастье встречаемых ими людей не нарушалось от потрясений и нервных токов и толчков тех людей, что живут эгоистическими порывами и мыслят о себе как о первых и важнейших величинах. Если бы Вы могли освободиться от давящего Вас ложного долга перед наукой, Вы могли бы увидеть сейчас больше, чем простая внешность людей, к которым мы идем. Вы увидели бы сейчас это место светящимся не потому, что оно светится само по себе для всех. Я присоединил Вас сейчас к силе моей мысли, и Вам открылась возможность увидеть влияние мыслей людей, увидеть их действенную энергию. Этот огонь мыслей, видимый сейчас Вами, принадлежит людям бескорыстным, людям, ставящим не себя в центр вселенной, но отдающим от себя энергию на строительство вселенной, на творчество всем тем, кто может подхватить их энергию и передать ее дальше как вдохновение, озарение, мужество, гармонию мысли и сердца в ежедневном творчестве дня. У вас нет мира в себе. А для того чтобы достичь необходимой для творчества гармонии, надо найти мир сердца. Эти люди, приносящие свои мысли в мир, как свет, проходя свой день, не задумываются о долге. Они идут любя, любя побеждают и рассыпают искры своей любви каждому. И Вы можете вобрать в себя от них частицу гармонии. Но для этого Вам надо сбросить с себя предрассудок, что есть условные разграничения людей. Пока Вы будете видеть в человеке только ту или иную культурную единицу и ценить человека, как ум, а не как сознание – частицу Вечного, до тех пор Вы не сможете воспринять их гармонии, так как в Вас закрыты все пути к ней.
Мы подходили все ближе к сияющему полю света, и я радовался и отчетливо понимал, что все дома здесь светятся ровным огнем так же, как домики в дальней долине сияют разными цветами в зависимости от тех эманаций, которые истекают от живущих в них людей.
– Хорошо, что Вы сейчас ведете частный разговор, не требующий от Вас ни логических обоснований, ни доказательств, – саркастически звучал голос ученого.
– Вы вскоре получите столь яркий опыт ума и сердца, что вся потребность во внешней логике для Вас исчезнет, – спокойно ответил ему Франциск. – Мы подходим к целому ряду домиков. Какого цвета они Вам кажутся?
– Ваш вопрос очень странен. Из всех пор камня, со всех стен идут светлые лучи.
Но цвета их я определить не могу. Самый обычный беловато-молочный цвет, какой может испускать пористый камень. Обычно он не виден, но здесь очень ясен.
Ответ профессора был мне очень смешон, так как домики были совершенно определенного ярко-алого цвета и чудесно сверкали во тьме. Я посмотрел на умиленное лицо Мулги, шедшего рядом со мной, и понял, что и он также видит домики алыми и понимает смысл их цвета.
– Дайте мне Вашу руку, профессор, и разрешите мне коснуться Вашего затылка, – снова сказал Франциск, беря протянутую ему руку ученого и касаясь второй рукой головы ученого. – Что Вы сейчас видите?
Ученый молчал несколько минут, остановившись как пораженный внезапным параличом.
– Что же это за фокус Вы мне показываете? Дома пылают как огонь! – Смотрите дальше. Что Вы видите? – опять спросил Франциск, не отнимая руки.
– Я вижу насквозь, через пылающую стену. Вижу, что в комнате сидит пожилая женщина. Послушайте, ведь это ужас! Она же сгорит! Все стены внутри комнаты, все предметы в ней уже охвачены пламенем. Кричите скорее, чтобы она спасалась, я не в силах ни кричать, ни бежать ей на помощь, – все так же тихо говорил ученый.
– Не беспокойтесь, этот огонь не сжигает тела. Это духовная сила, которая может сжечь и испепелить Вас, если Вас ввести внутрь этого дома. Не будучи подготовленным к овладению теми силами огня вселенной, которыми полна эта комната, Вы задохнетесь в ней в течение нескольких минут. Не рассеивайтесь, соберите все свое внимание на фигуре женщины и сосредоточьтесь на желании увидеть ее мысли и прочесть их.
Ученый, стоявший очень близко к Франциску, тяжело и прерывисто дышал, точно бежавший к нему от Франциска ток был ему тяжел. Помолчав, он сказал:
– Женщина сидит перед раскрытой книгой, но мысли ее вовсе не у книги. Она думает о какой-то далекой дороге, о доме, наполненном детьми. Теперь в ее мыслях рисуются два образа девушек-красавиц, похожих друг на друга, как близнецы. Но – как это странно – одна из них совершенно седая. Очень смешно и странно: седа, как лунь, и юна, как Венера. Рядом с ними мужчина, статный, воинственного вида.
Но в каком это все сочетании, я разгадать не могу. Ах, вот я ясно вижу там Ваш образ, но тоже очень странно, у Вас в руках красная чаша, на Вас белая одежда…
Франциск отнял свои руки, ученый вздрогнул, слегка пошатнулся.
– Какого цвета теперь домики перед Вами? В котором из них Вы видели женщину? – спросил его Франциск.
– Дома все молочно-белые. И, если бы я не видел пылающего дома мгновение назад, я утверждал бы, что между ними нет красного дома. Ваш гипноз потрясающе силен, и я от него так устал, что не могу идти дальше.
– Хорошо, посидите здесь с Мулгой, он охранит Вас от ночных ящериц и скорпионов.
Не бойтесь ничего, посидите под этими пальмами, там есть скамья. Скушайте эту конфетку, она прекрасно Вас освежит. Уверяю Вас, что через четверть часа, когда мы с Левушкой вернемся к Вам, Вы найдете силы не только идти, но даже весело идти.
Франциск протянул ученому коробочку, где лежали довольно крупные квадратики, на вид вроде шоколада. Ученый молча положил квадратик в рот. Взяв меня под руку, Франциск повел меня к тому месту и дому, где профессор видел женщину и читал се мысли. Он видел только ряд образов, не умея связать их, я же видел, что женщина страстно ждала Никито и обеих его племянниц. Мы приблизились к домику, и Франциск постучал в окно.
Через минуту на пороге открытой двери стояла женщина, которую ученый назвал пожилой. Теперь я увидел, что она не была пожилой, ей не могло быть более тридцати лет. Но отпечаток какой-то драмы, тяжело проехавшей по ее жизни и раздавившей ее, лежал на всей ее фигуре. Необычайная кротость и радостность, с какими она приветствовала Франциска, поразили меня, хотя я видал немало кротких и радостных лиц в Общине. Низко поклонившись Франциску, женщина пригласила нас войти.
– О, Учитель, ты сам пришел ко мне. Тебе вреден такой долгий и утомительный, путь. Разреши мне сходить хотя бы за молоком для тебя и твоего юного спутника, – говорила женщина, когда мы вошли в комнату, придвигая нам стулья.