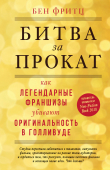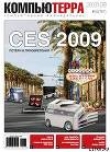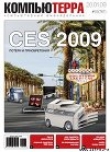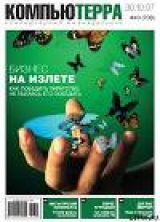
Текст книги "Журнал "Компьютерра" №708"
Автор книги: Компьютерра Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
ОКНО ДИАЛОГА: Дуглас из Гугла
Автор: Илья Щуров Voyager
В Google он – вице-президент по технологиям. Ранее топ-менеджер в двух крупных корпорациях – специалист по информационной безопасности, инфраструктуре и управлению «людскими ресурсами». Исследователь в RAND Corporation – в области «информационных наук». Доктор наук (Ph.D.) – по психологии. Автор ряда научных публикаций – по вопросам компьютерного образования. Блоггер – по жизни. Одним словом – Дуглас Меррил (Douglas Merrill).

«Если вы знаете три языка – вы „трехъязычный“ (trilingual), если вы знаете два языка – вы „двуязычный“ (bilingual), если же вы знаете только один язык – вы американец. Извините, ребята, я знаю только один язык – и спасибо за теплый прием в Москве», – шутит Дуглас, рассказывая о достижениях российского офиса компании.
Дуглас вообще любит подшучивать и подтрунивать – над собой, над аудиторией, над своими коллегами, над собеседниками. "Я вырос в маленьком городке в Арканзасе, пошел в колледж в Оклахоме и учился в университете в Принстоне. Да, у меня смешной акцент", – пишет он в своем блоге. Порой его действия и слова кажутся несерьезными – однако именно от Дугласа во многом зависит, как будет развиваться компания, название которой стало нарицательным.
Гуглокультура
Вице-президент по технологиям – необычная должность для человека, занимавшегося информационной безопасностью, работавшего в RAND (исследовательская организация, тесно связанная с военным ведомством США. – И.Щ.) и имеющего ученую степень в психологии. Скажите честно: чем в действительности вы занимаетесь в Google?
– Да, это очень хороший вопрос: я задаю его себе каждый день. "И чем я здесь занимаюсь?" (Смеется.) Моя диссертация относится к психологии, но на самом деле связана с искусственным интеллектом. В основном она посвящена тому, как люди учатся, в ней рассматриваются различные модели обучения. Моя карьера действительно может показаться несколько странной. Во-первых, я всегда выбирал работу в областях, где никогда на 100% не знаешь, что точно ты делаешь: я люблю бороться, люблю, когда, работая, мне приходится познавать новое. Во-вторых, меня интересуют области, связанные с обучением – и с инструментами, которые помогают в учебе. Например, поиск. Ведь когда мы говорим о поиске, мы на самом деле говорим о пользователях, желающих что-то узнать и задающих для этого вопросы. Мы пытаемся создавать все более полезные сервисы типа "Вопросов и ответов", "Google Suggest" и т. д., упрощающие процесс обучения.
Можете ли вы назвать самую сложную или самую интересную проблему, с которой вы столкнулись в Google?
– О, у нас каждый день приносит интересные проблемы. (Смеется.) Но, наверное, самая сложная из них – это Эмма (кивает на свою помощницу). И она еще не решена! Если серьезно, я участвовал в принятии решений о том, что именно мы делаем. Я участвовал в развитии центров разработки по всему миру – это было очень любопытно с точки зрения "человеческой разработки" (human development). Например, как сделать, чтобы наши инженеры понимали корпоративную культуру разработки и следовали ей, как организовать взаимодействие инженера в Бангалоре с инженером в Москве и т. д. Но больше всего я горжусь приемом новых сотрудников. Google – это двигатель талантов ("talent engine"). Мы нанимаем людей, которые могут делать замечательные вещи. Но здесь очень сильно проявляется локальная специфика. Например, если говорить о вашей стране: 33 из 100 лучших результатов последнего Code Jam принадлежат участникам из России. Мы это видим и думаем: "Вы воспитываете прекрасных инженеров. Мы должны нанять их!" Но как это сделать, как искать их, какие связи с университетами налаживать – это часть моей работы. Я занимаюсь техническими и человеческими проблемами каждый день, в сотне стран по всей планете. И это действительно веселая работа!
Как организован процесс разработки? Что представляет собой эта самая «корпоративная культура»?
– Мы нанимаем блистательных инженеров и разработчиков, и наш менеджмент и культура нацелены на то, чтобы позволить им блистать. Часто в различных организациях на одного менеджера приходится сравнительно немного инженеров, и такой подход замечательно работает для некоторых типов задач – когда понятно, что нужно делать. Google в этом отношении сильно отличается: организация разработки у нас довольно "плоская". На каждого менеджера приходится много-много инженеров, причем сами менеджеры хорошо подготовлены технически. Мы верим, что важнейшая задача – дать разработчикам много свободы для движения, дать возможность экспериментировать. Дело в том, что мы не знаем, какие проблемы для нас наиболее важны. Мы пробуем очень разные вещи.
Наша культура состоит в том, чтобы дать возможность разработчикам общаться и спорить друг с другом и предлагать новые идеи. Да, это может показаться немного хаотичным процессом: мы спорим по самым разным поводам, ведем огромную переписку. Впрочем, мы вводим некоторую структуру там, где мы считаем это важным. Например, распределяем наших разработчиков в пространстве задач в соответствии с пропорцией 70/20/10: 70% – поиск, 20% – что-то близкое к этому, расширения к поиску; оставшиеся 10% – не связанные с поиском вещи. Каждый из наших инженеров тратит 20% времени на работу, не связанную с его текущими задачами. Это время позволяет генерировать новые и важные идеи. Всё вместе – плоская структура, 70/20/10, 20% "свободного времени" – и позволяет нам быть столь успешными.
На мой взгляд, такая структура может быть не очень эффективной. Например, вы можете тратить кучу усилий на решение проблем, которые на самом деле никому не нужны...
– Об эффективности можно говорить тогда, когда вы знаете, как что-то сделать, и пытаетесь сделать это лучше. Я не думаю об эффективности, когда речь идет об инновациях. Наш способ организации действительно приводит к тому, что мы можем тратить время и усилия на бессмысленные задачи. Так оно и есть. Проблема в том, что заранее мы не знаем, какая инновация будет полезной, а какая – нет. Вот вам пример: на этапе разработки были многочисленные попытки "убить" Gmail – мы думали, что Gmail будет бесполезным. Мы ошибались. Были многочисленные попытки "убить" AdSense. И опять мы ошибались. Мы позволяем людям создавать новое и делаем достаточно простым запуск проектов. Потом мы измеряем рост числа пользователей. Если он есть – значит, это интересно, если нет – не интересно. Пользователи сами рассказывают нам, что им нравится.
Гуглосообщество
На пресс-конференции, предшествовавшей нашей беседе, много раз звучало слово «сообщество». Ссылочное ранжирование, позволяющее оценить степень авторитетности ресурса среди людей, вместо формального анализа текста на наличие ключевых слов, – уже хрестоматийный пример подключения «человеческого фактора» к задаче поиска. Однако, несмотря на такие проекты, как недавно запущенные российским офисом «Вопросы и ответы», Google ассоциируется скорее с мощными кластерами и умными алгоритмами, нежели с сообществом.
Известно, что Джимми Уэйлс вот уже несколько лет планирует сделать поисковую систему (под рабочим названием Search Wikia), основанную на тех же идеях, что и Википедия. Как вы к этому относитесь?
– Википедия и Search Wikia – интересные модели работы с сообществом. По своей сути Википедия – это изумительная система, позволяющая пользователям создавать свой контент (user generated content, UGC) и классифицировать его. Это замечательная и абсолютно верная идея. UGC и сообщество – критическая часть поиска. Проблема в том, что эта штука масштабируется линейно с появлением новых пользователей и языков. Если вы хотите добавить новый язык, вам придется добавить пользователей для этого языка. То, что действительно хочется сделать в поиске, – это движок, который давал бы возможность и создавать свой контент, и расставлять метки (tagging) для всей существующей информации на всех языках мира, и подключить к этому автоматические алгоритмы, умеющие находить скрытые связи между разными вещами. Пользователь должен иметь возможность, например, сказать: "эта статья вот об этой минеральной воде". (Дуглас показывает на бутылку, стоящую на столе.) В дальнейшем, когда кто-то будет искать информацию про минеральную воду, он должен также найти статьи о том, как много энергии ушло на производство этой воды, или о том, какие отходы она дает, или о компании, которая ее произвела, и т. д. В общем, хочется сделать смесь из UGC, классификации и расстановки меток силами сообщества и искусственного интеллекта, который бы позволил людям работать эффективнее.
Еще про сообщество: Google активно использует свободный софт и поддерживает его. Почему и зачем?
– Да, мы верим в open source и считаем, что конкуренция должна быть на всех уровнях стека технологий. Мы используем свободное ядро Linux и возвращаем многие наши наработки в сообщество (например, делаем немалый вклад в поддержку распределенных файловых систем), мы используем Firefox, у нас есть программа Summer of Code. В разработке open source участвует множество прекрасных людей, которые решают интересные проблемы и пишут свой код. Даже если код иногда получается плохим – это не страшно; гораздо важнее иметь выбор. Еще одна вещь, близкая по духу к open source: наше открытое API. Суть та же: мы считаем, что самое главное – это позволить множеству замечательных разработчиков по всему миру разрабатывать замечательные инструменты для всеобщей пользы.
Когда я думаю о Google и контекстной рекламе, мне вспоминается рассказ Генри Каттнера и Кэтрин Мур «День не в счет» («Year Day», 1953). В нем нарисована картина мира, в которой донельзя назойливая персонифицированная реклама преследует людей буквально на каждом шагу. Не находите ли вы, что Google со своими огромными архивами персональных данных приближает такое будущее?
– Нет, я так не считаю. Соблюдение privacy наших пользователей является для нас первоочередной задачей: если пользователи не будут нам верить, они не будут пользоваться нашими сервисами. Все наши сервисы доступны анонимно. Мы храним лог-файлы без привязки к конкретным людям – эти логи нам нужны, они позволяют улучшать наши сервисы, но они анонимны. Наконец, вы всегда можете попросить Google "забыть" все, что он знает о вас, – и мы это сделаем.
Правда, сделаете? Например, если я удалю всю свою старую почту на Gmail, я не буду получать в Gmail рекламу, соответствующую моим интересам, «засветившимся» в удаленной переписке? Система забудет о них?
– Контекстная реклама ориентируется не на вас лично, а на содержимое конкретной страницы или конкретного письма. Мы не анализируем информацию о конкретном пользователе. Вы лично меня мало интересуете. При всем уважении. (Смеется.) К тому же персональная информация никогда не просматривается людьми, а только анализируется алгоритмами.
Гуглюди
Дуглас ведет собственный блог под названием «The Other End of Sunset» (otherendofsunset.blogspot.com): откровенный, искренний, слегка романтичный, со множеством цитат из песен и книг; блог о жизни, а не о технологиях.
Дуглас, зачем вы это делаете?
– Мне нравится рассказывать людям истории. Подумайте: четыреста лет назад меньше двух процентов людей на Земле умели писать. Два процента! Прошло не так уж много времени с тех пор – даже некоторые здания сохранились. Двести лет назад десять процентов людей умели писать. Сейчас ситуация совсем иная. Но до недавнего времени то, что вы умеете писать, не имело особого значения: никого не интересовало, что вы можете сказать. Только победители могли рассказывать свои истории – и история писалась победителями. Мне кажется, что это нечестно: каждый должен иметь возможность рассказать свою историю. И я считаю, что мир стал лучше, потому что больше людей могут рассказывать свои истории и понимать друг друга. Вы знаете больше обо мне, потому что вы читали мой забавный блог, который не имеет никакого отношения к моей работе. И если есть семь человек, которым это интересно, – о’кей. Каждый должен рассказать свою историю…
А это не противоречит вашей работе? Все-таки должность вице-президента такой компании, как Google, должна накладывать определенные ограничения…
– Нет, не противоречит: просто я никогда не пишу о работе, и ничего полезного в блоге вы не найдете. Я пишу о людях.
В одной из записей вы признаетесь: «В душе я интроверт, и я чувствую себя лучше в Интернете и блогосфере, нежели в реальной жизни». Не создает ли это проблем в вашей работе?
– Я считаю, что важно собрать вместе людей разных типов, из разных стран, разговаривающих на разных языках, с разными взглядами на мир и сделать так, чтобы они работали вместе, в одной команде. Я – интроверт, вокруг меня – экстраверты, с которыми я работаю каждый день. Важно взять людей, которые видят мир по-разному. Мы не обязаны говорить на одном языке и думать одинаково, мы должны взять людей, имеющих разный опыт, и каждый должен делиться своими взглядами на мир с другими – так мы будем получать гораздо более интересные и креативные решения. Я не считаю проблемой то, что я интроверт: я считаю это ценностью.
Может быть, вы хотите что-нибудь сказать для российской аудитории?
– Хочу рассказать о том, что мне кажется самым клёвым в нашей работе. У нас есть пятнадцать центров разработки по всему миру. Один из наиболее успешных – российский: я только что завершил проверку реализованных здесь проектов, и работа, сделанная здесь, великолепна. Да, я верю, что в России множество талантливых инженеров, и история это подтверждает – вспомним хотя бы успехи в математике. Я очень впечатлен инженерной работой здешних сотрудников, помогающей улучшить наши сервисы для местного рынка. Но большая часть вещей, которыми мы занимается в России, может пригодиться пользователям Google по всему миру. Это действительно здорово, что благодаря нашему подходу к разработке, каждый офис работает над задачами, покрывающими весь мир. Мы не приходим к вам и не говорим: "вы должны работать только над такой-то задачей", вы можете работать над любым количеством задач – возможно, для вашего рынка, возможно, для США или для Южной Америки. Это то, что делает нашу работу столь замечательной.
ОПЫТЫ: Лукавый заплыв
Автор: Филипп Казаков
С момента появления первых компьютерных систем охлаждения на базе теплотрубок [Термотрубка – герметичная трубка, содержащая легкокипящую жидкость, испарение и конденсация которой при нагреве приводит к эффективной передаче тепловой энергии] я задавался вопросом – раз существует такой замечательный способ передачи теплоты на расстояние, почему бы не решить вопрос с охлаждением компьютерных компонентов самым радикальным образом. Не взять, например, да и не вынести радиаторы от процессора и видеокарты куда-нибудь в холодный внешний мир, где остудить их куда как легче.
Ответ на этот вопрос мне могли бы дать учебник по термодинамике и вечер расчетно-умственного напряжения. Могли, но, разумеется, не успели, так как совершенно случайно мне на глаза попался Thermaltake Schooner – пассивный радиатор для видеокарт, как раз реализующий подобную идею. Весьма кстати мне надо было сменить штатную систему охлаждения новой видеокарты Sapphire Radeon x1650, шумность которой, на мой придирчивый слух, не вписывалась ни в какие рамки. Таким образом, Schooner незамедлительно оказался у меня в руках. Пытаясь определить, с чем же мне предстоит иметь дело, я обратился к Lingvo, которая заявила, что Schooner – это либо шхуна, либо фургон переселенцев, либо бокал для пива. На первый взгляд ничто из этого не связано с охлаждением видеокарт, но на самом деле, как выяснилось позже, название более чем удачное.

Thermaltake Schooner принадлежит к роду пассивных «бутербродных» кулеров для видеокарт, начало которому положил известный новатор Zalman со своей серией ZM80x-xx. В основе «бутербродности» – рассеивание тепла двумя массивными радиаторами, расположенными под и над видеокартой, которая играет роль «горячей начинки» [1]. Так как процессор располагается только с одной стороны карты, верхняя и нижняя «булки» соединены теплотрубками, распределяющими теплоту по всему «бутерброду». К классической схеме в Schooner’e добавлена «изюминка»: еще две длинные теплотрубки с медным радиатором на конце, крепящиеся к основной конструкции и при установке выводимые за пределы корпуса компьютера через соседствующее с видеокартой отверстие для PCI– или PCI-E-устройств [2]. Оправданный шаг, ведь этот слот все равно блокируется любой мало-мальски приличной системой охлаждения видео. Для моих экспериментов также оказалась ценна возможность развернуть «изюминку» и ориентировать ее внутрь системного блока.

Такелаж
[Такелаж – общее наименование всех тросовых частей. Мачты и рангоут удерживаются на своих местах стоячим такелажем, паруса управляются бегучим такелажем (К. М. Станюкович, «Морские рассказы»)]
Schooner далеко не самый дешевый радиатор, поэтому некоторые его элементы вызвали удивление. Целиком медная конструкция – согласен, дорого, но разве теплосъемник, непосредственно контактирующий с видеопроцессором, не является самым ответственным узлом системы? Инженерам Thermaltake, конечно, виднее, но я бы сэкономил на чем-нибудь другом – только не на теплосъемнике. Также удивляет, что в комплект не входят радиаторы для чипов памяти. Зато прилагается увесистый бочонок фирменной термопасты – при желании, наверное, его хватило бы, чтоб обмазать поверхность всего системного блока [3,4].


Установку Schooner простой не назовешь. Я прокопался часа два, что, даже делая скидку на мою не самую завидную "рукастость" и периодические прерывания для документирования процесса, все равно много. С другой стороны, время пролетело незаметно – стало быть, процесс был интересным и захватывающим. Более того, есть подозрение, что зачастую многие производители разнообразных систем охлаждения нарочно слегка усложняют устройства, чтобы дать возможность "большим дядям" вдоволь покопаться с интересным конструктором под благовидным предлогом.

Но вот, наконец, радиатор установлен, и только тут я заметил презабавнейшую надпись на нем: «Fanless – 0 dBA» [5]. Ведь, как известно, децибел – это логарифм отношения двух величин, который, следовательно, равен нулю тогда, когда это отношение равно единице. Для акустического децибела берется отношение текущего звукового давления к минимально различимому человеческим ухом. Напрашивается вывод, что, по мнению маркетологов Thermaltake, их безвентиляторный радиатор все же хоть и еле слышно, но жужжит (или гудит?). Ну что ж, проверим на опыте!
Опыты с бакштагами
[Бакштаги – снасти стоячего такелажа, поддерживающие с боков рангоутные деревья, боканцы, шлюпбалки, стеньги, дымовые трубы и пр. (Л. Н. Скрягин, «Морские узлы»)]
Видеокарты уже научились самостоятельно определять температуру собственных процессоров, так что измерение относительной эффективности охлаждения свелось к несложной лабораторной работе. Для разогрева видеокарты я запускал "3D-окно" разгонно-диагностической утилиты ATITool не менее чем на полчаса. Я не бог весть какой игроман и не берусь судить, как результаты усилий этой утилиты коррелируют с тяжелыми современными играми. Но могу уверенно заявить, что полчаса ее работы оказались градусов на пять "полезнее", чем пара часов боевых действий в Supreme Commander. А чтобы получить температуру в покое, я оставил компьютер с рабочим столом Windows XP "на лице" до стабилизации показателей.
В процессе измерений я заметил, что в комнате без кондиционера не так-то просто поддерживать постоянную температуру. Несмотря на то что эксперименты проводились по несколько раз, все же следует относиться к ним с долей рационального скепсиса и учитывать, что погрешность составила градуса два. Впрочем, для поставленной задачи такой точности вполне достаточно.

Прежде чем навсегда распрощаться со штатной системой охлаждения, я снял показания: 50 и 68 градусов Цельсия в покое и под нагрузкой соответственно. В отличие от легковесного радиаторчика штатного кулера, полукилограммовое творение Thermaltake переходит в установившийся режим заметно дольше. Оно и понятно – поди разогрей такую массу металла! Убедившись, что внешний радиатор нагревается, а, стало быть, вся система функционирует правильно, я приступил к тестам. 52/69 – первый результат в «дефолтной» конфигурации радиатора показал, что его эффективность сравнима с активной системой охлаждения. Неплохо для начала!
Следующий тест: разворот выносного радиатора внутрь компьютера. Эта операция возможна только в достаточно просторных системных блоках, и даже в моем отнюдь не тесном Chieftek’е пришлось извлечь один жесткий диск и положить на дно. Радиатор при этом оказался недалеко от 80-мм вентилятора, вращавшегося со скоростью около 1100 об./мин. Результат подозрительный – 49/66. Очевидно, что эффективность "изюминки" сильно зависит от внешнего обдува, значит, для продолжения эксперимента необходимо уравнять условия вентиляции.
Чтобы добиться "безветренной погоды" внутри блока, я выключил все возможные кулеры, до которых только смогли дотянуться софтверные рычаги управления последней версии утилиты SpeedFan. В результате встали все вентиляторы (даже процессорный!), кроме своевольного 120-мм индивидуалиста в блоке питания, продолжавшего невозмутимо вращаться на скорости около 800 об./мин. (впрочем, создаваемый "индивидуалистом" воздушный поток на лицевой части системного блока едва ощутим). В новых условиях температура, разумеется, выросла: при внутренней ориентации выносного радиатора – до 59/78 градусов, а при внешней – аж до 62/84! Выходит, во-первых, что от внешнего радиатора при отсутствии обдува гораздо меньше проку, чем от внутреннего при наличии малейшего ветерка! А во-вторых, судя по радикальному изменению результатов при отключении обдува, от внешнего радиатора вообще мало толку, а эффективность системы зависит в основном от обдува самого "бутерброда".
Для проверки последнего предположения я вовсе снял "изюминку" и повторил эксперимент с обычной вентиляцией блока. 52/70 – то есть результат сравним с самым первым тестом и говорит о том, что эффективность внешнего размещения радиатора сравнима с погрешностью моих измерений!
Маневр лоцмана
[Лоцман – моряк, хорошо знакомый с характером данного побережья и со всеми местными проходами и фарватерами (К. М. Станюкович, «Морские рассказы»)]
Вот так раз, оказывается, инженеры Thermaltake придумали очень эффектное, но совсем не эффективное решение [По крайней мере для видеокарт сравнимого энергопотребления. На многомощных монстрах ситуация может измениться]! Скрытый смысл названия сразу стал ясен: Schooner – это, конечно, не что иное, как шхуна, а выносной радиатор – ее красивый парус, в безветренную погоду совершенно бесполезный. Если "парус" как-нибудь разместить внутри системного блока, то даже в тесном и запыленном корпусе эффективность "шхуны" заметно повысится. Другое дело, что предложенную конструкцию удастся сориентировать внутрь далеко не каждого системного блока.
Что касается общих выводов, то они еще более неутешительны. Оказывается, самый легкий обдув влияет на охлаждение настолько столь благотворно, что компенсировать его конвекционным охлаждением радиаторов, пусть даже в холодной среде, не так просто, как кажется. Придется делать сложные медные радиаторы с очень большой поверхностью рассеивания и высокой ценой. Компромиссное активное охлаждение низкооборотистыми вентиляторами остается самым рациональным и эффективным способом организации тихих компьютерных систем.