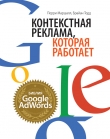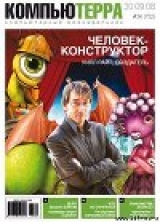
Текст книги "Журнал "Компьютерра" №752"
Автор книги: Компьютерра Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
9 Каждая игра Райта представляет собой расширенную метафору одной или нескольких научных идей, но его склонность к новаторству проявляется и на прикладном уровне: почти в каждой игре Райту приходится решать задачи, которых другие разработчики избегали. В Spore таких задач две.
Первая – это система динамической подстройки под пользователя, когда игра анализирует действия игрока и преобразует себя в зависимости от его ожиданий. Преобразования могут быть самыми разными: это может быть изменение стиля игры (когда мирно настроенному игроку не встречаются агрессивно настроенные персонажи), или снижение уровня сложности, или еще какое-нибудь изменение, превращающее игровой процесс в по-настоящему персональное переживание, когда одна и та же коробка с игрой в руках разных хозяев ведет себя по-разному. По словам Райта, нечто подобное реализовано в Spore, но, по большому счету, вариативность реакций Spore на действия игрока не слишком отличается от вариативности любой другой современной игры, – если этот подход действительно совершит революционные изменения в игровой индустрии (как предполагает Райт), то произойдет это не сегодня.

Вторая задача, которую пришлось решать разработчикам, впечатляет меньше, но реализована она куда в большей степени. Речь идет об анимации в реальном времени. В подавляющем большинстве игр анимация поставляется уже в готовом виде просчитанных заранее роликов. В Spore такой подход не работал – ведь разработчики не знали заранее, каких существ придумают пользователи (учитывая, что еще до запуска Spore пользователи «Лаборатории существ» создали почти 4 млн. объектов[Для сравнения: сегодня нам известно чуть более 1,5 млн. видов живых существ.], это знание им вряд ли помогло бы). Однако движок Spore способен проанализировать любой созданный в рамках игры объект – в случае живых существ, например, понять, где у них руки и ноги, – и на основании этого анализа сгенерировать необходимую анимацию в реальном времени. Для игрового процесса это, вообще говоря, мелочь – вряд ли игра сильно потеряла бы, не будь в ней такой возможности. Но на вылизывание этой мелочи ушла не одна тысяча человеко-часов, благо подавляющее большинство сотрудников Райта – разработчики, на дизайнерах в этот раз решили сэкономить – ведь по замыслу Уилла основную часть контента «нарисуют» сами пользователи. Они и нарисовали.
10 Райт отказался отвечать на вопросы о своем следующем проекте. Он знает, что хочет сделать, но "вы же понимаете, если я сейчас что-нибудь расскажу, то это предполагает некие обязательства, а у меня все пока на уровне идей". Стремление Райта избежать предварительной огласки понятно: The Sims он придумал в начале 1990-х, а реализовал только в конце десятилетия, идея The Spore пришла к нему в 2000 году, официально разработка началась в 2005, а вышла игра – после нескольких переносов – только осенью 2008-го.
– А в EA вас не слишком дергали? – спрашиваю я. – Не было давления в стиле "мы уже с магазинами обо всем договорились, а вы какую-то игру запрограммировать не можете"?
– Нет, – говорит Райт. – Наоборот. Работайте, сколько нужно: главное, сделайте настоящую игру.

Исходя из увлечений Райта можно осторожно предположить, о чем будет его следующая игра (в случае с Райтом, конечно, вопрос «о чем» не так важен, как вопрос «какая», но о том, какой будет его новая игра, гадать бесполезно). Райт собирал кукольные домики с дочерью – появились The Sims, заинтересовался муравьями – родилась игра SimAnts, вспомнил о детском увлечении космосом – и придумал Spore. Из непереработанных в игровые концепции хобби осталось два: гонки (в молодости Райт проехал от Нью-Йорка до Калифорнии за 33 с половиной часа – результат почти невероятный и наверняка невозможный без нарушения скоростного режима на всех участках пути[Редакторы «КТ» совершили похожее путешествие в 2007 году и, в общем, наивно полагали, что 85 часов – хороший результат (Нью-Йорк – Лас-Вегас).]) и роботы (здесь Райт тоже отличился, придумав эффективную технику для участия в соревнованиях BattleBots[Примечание по просьбе выпускающего редактора, которому словосочетание «бои роботов» показалось слишком непонятным. Соревнования BattleBots это бои управляемых дистанционно устройств, в задачу которых входит обездвижить, а еще лучше уничтожить своего противника. Собственно, правила позволяют участие в боях и настоящих автономных роботов, но выживаемость таких устройств заметно ниже, чем в среднем по арене, так что роботы в полном смысле этого слова на таких соревнованиях – экзотика.], – его модель вместо «честного противостояния» обматывала своих противников проволокой; впоследствии эта техника была признана «нечестной» и запрещена к применению). Если выбирать между гонками и роботами, то у роботов шансов больше.
11 Напоследок я спросил Уилла Райта, не кажется ли ему, что мир – это большая компьютерная игра, и, если да, что в ней стоит поменять? Для выравнивания, так сказать, баланса. Райт рассмеялся и сказал, что наш мир, в отличие от любой, сколь угодно совершенной компьютерной игры, непредсказуем, тогда как игровые действия ограничены фантазией сценаристов и, в меньшей степени, возможностями разработчиков.
Через несколько дней я вспомнил эту фразу почти дословно, потому что запись нашей беседы оказалась безнадежно испорчена сильнейшей наводящей помехой[Автор благодарит российское представительство Electronic Arts за предоставленные фотоматериалы и особенно за резервную копию записи интервью.].
У меня, конечно, нет доказательств, но я почти уверен, что это дело рук коварной цивилизации Животиньо.
Биологический антураж
О «Споре» я услышал года полтора назад. Мы с коллегами обсуждали сценарии обучающего комплекса, где устройство биосферы изучают, конструируя ее на виртуальной планете. Тогда рекламка этой игры со скриншотами режима конструирования организмов вызвала зависть. Ох, как нелегко предусмотреть все возможные решения пользователей в условиях, ежели им позволено выбирать!
Когда Владимир Гуриев предложил скачать "Спору" и высказаться о ней с точки зрения биолога, я побаивался, хватит ли для этого моей игровой квалификации. Первый компьютер появился у меня дома еще в 1992 году, так что я достаточно опытный пользователь. Но за эти шестнадцать лет я не ставил у себя игры "игровее" преферанса. Но что больше подходит для начала, чем игра об эволюции? А можно ли ее использовать для обучения биологии?
Скачал. С моей видеокартой игра запускаться не захотела. Надо же: и для видео, и для серьезной верстки ее хватает вполне. Получил совет – не просто докупать видеокарту, но менять сразу и материнку с процессором и памятью. Но ведь в моей работе меня все устраивает! Пожалел денег… Ничего: у Марины, моей подруги и коллеги, машина поновее. Но Марина первый день как переехала с одной съемной квартиры на другую и живет пока без стола и без стульев. Мы поставили ее компьютер на пол, уселись перед экраном и инсталлировали игру…
И зачем Гуриеву моя квалификация биолога? Биологической логики в "Споре" практически нет. Если игровые баллы назвать "баллами ДНК", это не сделает игру "биологичнее". Я напрасно брюзжу, не понимая разницы между стебом и наукой? Но уж коли мы играем в эволюцию, то пусть игра отражает ее существенные особенности!
Мне скоро стало скучно, и я просто лежал на полу возле монитора, наблюдая, как Марина выгуливала свое виртуальное создание. "Твой" объект прилетает на планету в метеорите, но попадает в густонаселенную среду. Она двумерная и говорит о знакомстве дизайнеров с забавой юных натуралистов: рассматриванием под микроскопом грязцы из лужи. Но дальше элементов дизайна биология не проникает. У "клетки" могут быть органы многоклеточного существа: челюсти и глаза на стебельках. Размножение пуританское: партнеры танцуют в окружении парящих сердечек, потом затемнение… и режим конструирования следующего поколения. В нем можно не только "купить" за "баллы ДНК", но и "продать" (!) отдельные "органы".
Затем наш организм выходит на сушу. Переход от одноклеточности к многоклеточности таков: сконструированная в воде клетка становится туловищем, на которое привешиваются всяческие придатки. "Твой" вид бегает по 3D-ландшафту, встречаясь с аборигенами, с которыми можно дружиться или бороться. Дружение – это совместные танцы, пение и кокетство, а борьба – укусы, удары и прыжки. Марина, кажется, сразу нащупала адекватную стратегию, подловатую такую. Пока ты слаб, ты со всеми дружишь. Развиваешься, и вот уже ты дружишь лишь с сильными, а слабых убиваешь и ешь…
Каждое следующее поколение можно совершенствовать. Этот орган прибавит способности к пению и позированию, этот – к прыжкам. Ставишь приобретения на своего монстра, оттягиваешь в нужное положение суставы – и сконструированная пакость начинает пританцовывать, щелкая челюстями. С графикой не все в порядке: если из бока твари торчит шип, ее собственная нога на каждом шагу проходит сквозь него туда-обратно.
Описывать игру дальше? Нет смысла. Лучше скажу, чем она отличается от настоящей жизни (или моих представлений о таковой).
Метафора магазина, где покупаются органы, дающие определенный уровень приспособленности (а на этапе цивилизации – "изобретения"), очень далека от действительности. Зачастую нельзя сказать априорно, повысит ли то или иное изменение шансы его обладателя. Оставит ли особь успешных потомков, зависит от множества взаимодействий; чтобы предвидеть результат, нужно создать виртуальную биосферу чуть ли не сложнее настоящей.
Приспособленность не существует в отрыве от образа жизни. И в "Споре", в зависимости от того, стремитесь вы танцевать или кусать, вам будут попадаться разные соседи. Но действительных образов жизни (экологических ниш) несравнимо больше: они отличаются и множеством деталей, и шириной (степенью специализации). Да и разнообразие земных организмов качественно выше. В игре реализован один план строения со всякими финтифлюшками. Землю же населяют принципиально разные по плану строения организмы!
Несмотря на определенную модульность своей конструкции, животные не состоят из отдельных блоков. Изменение одной части тела отражается на всех остальных. Земные существа не выскакивают в полной боекомплектности из споры или яйца, как Афина Паллада из головы Зевса. Они являются результатом онтогенеза, развиваясь, в типичном случае, из одной клетки.
Да вообще, земные организмы не собраны, они сделали себя сами на протяжении всей своей истории! Может, поэтому мне они интереснее виртуальных страшилищ?
Похоже, игроком я пока не стану. Жаль, конечно.
ГОЛУБЯТНЯ: Экстаз гламурного мужчинки
Автор: Сергей Голубицкий
Без повидла обойтись не получится – уж больно интенсивно развиваются события ранней осенью, неожиданно выводя планетарную жизнь на очередной неведомый виток катастрофы. Догадываюсь, что большинство читателей «КТ» располагается по жизни так далеко от международных финансовых реалий, что сентябрьская революция, случившаяся в американской экономике, наверняка прошла мимо сознания. Уши зацепила – через малоосмысленную ленту новостей, а вот сознание не оцарапало.
И напрасно! Напрасно, поскольку, вопреки внешней невыразительности, эффект от сентябрьских потрясений в Америке в разы перекрывает картинную драму 9/11. Потому освежаю цепочку событий для тех, кто совсем не в курсе: 6 сентября американское правительство установило государственную опеку над кариатидами национальной ипотечной системы – компаниями Fannie Mae и Freddie Mac. Через неделю судьбу Фанни и Фредди разделил страховой гигант AIG. Параллельно с этими событиями разорился 168-летний инвестиционный дом Lehman Brothers; Merrill Lynch – символ Уолл-стрит – продался Bank of America, а два последних оставшихся в живых инвестиционных банка – Goldman Sachs и Morgan Stanley – расстались со своим инвестиционным статусом и ушли под хартию рядового банковского холдинга с несопоставимо более жестким уровнем государственного контроля.

Завершением революции стала неслыханная и невиданная в истории правительственная программа по выкупу у частных финансовых структур низкокачественного ипотечного долга населения страны (так называемого subprime debt) на сумму в 700 миллиардов долларов. Для проведения столь невероятных реформ пришлось даже апробировать в Конгрессе специальное положение, поднимающее планку национального долга до новой невменяемой цифры – 11,3 триллиона долларов!
Не хочется пережевывать детали кульминационной фазы ипотечного кризиса в США и анализировать экономические последствия национализации Фанни и Фредди – все это подробнейшим образом я уже описал на прошлой неделе в своей регулярной рубрике для "Бизнес-журнала" (эссе "Nebula Nebulorum"), куда и отсылаю всех любителей финансовых вкусностей. Повторю лишь заключительную фразу, которая акцентирует универсальную значимость случившейся катастрофы, оправдывая тем самым дублирование темы в, казалось бы, далеком от экономики околоайтишном журнале: "Настало время платить по счетам. Поскольку платить нечем, остается последний благородный, хотя и малоприятный выход – сыграть в ящик! Этим, собственно, американская финансовая и ипотечная система сегодня успешно занимается на глазах перепуганной мировой общественности. К слову, мировая общественность перепугана вполне обоснованно – отсидеться в сторонке на сей раз не получится. Мера зависимости мировой экономики от финансовых инструментов США столь велика, что тонуть будут все не по отдельности, а дружно и вместе!"
В рамках культур-повидла мне бы хотелось остановиться на несколько авантюрной, однако же чрезвычайно захватывающей гипотезе, которая пришла мне в голову уже после того, как "Nebula Nebulorum" была опубликована в "Бизнес-журнале".
С другой стороны, на момент написания первой статьи американское правительство еще не продемонстрировало готовность идти до самого конца, а потому и не давало повода для существования моей гипотезы. Речь вот о чем.
Национализация Фанни и Фредди, которая по взятым с абсолютного потолка цифрам обойдется американским налогоплательщикам в 100 миллиардов долларов, а также выкуп частной страховой конторы Мориса Гринберга AIG[См. "Nephila maculata" в "Бизнес-журнале" #25 от 20 декабря 2005.] за 85 миллиардов долларов – это сделки хоть и грандиозного масштаба, однако сами по себе не отменяющие существующего порядка вещей. Этот порядок вещей состоит (вернее, состоял) в том, что финансовый мир Соединенных Штатов и всей нашей планеты хоть и строился на виртуальных деньгах (доллары США после "Шока Никсона" в 1971 году[См. "Мула и президенты" в "Бизнес-журнале" #17 от 17 сентября 2007 года.]), однако же подчинялся вполне реальным законам, которые привязывали эти виртуальные деньги к более чем реальным событиям материальной экономики: уровню производства, цен, инфляции и безработицы, покупательной способности, конъюнктуре международной торговли, потребности в энергетических носителях и прочая и прочая.

О том, что на самом деле мы давно уже живем в мире, в котором виртуализированы не только деньги, но и вся финансовая система, я догадывался задолго до событий сентября 2008 года, однако догадки эти оставались лишь догадками, основанными на эмоционально-психологическом анализе событий. В частности, в той же "Муле и президентах" были такие строки: "Национальный долг Америки вырвался на стратегический простор и благополучно достиг 10 триллионов долларов. Пикантность ситуации, однако, заключается в том, что от всех этих ужасающих цифр волосы на голове встают только у людей непосвященных. Взгляните на руководителей Федерального Резерва – Алана "Саваофа" Гриншпана, невозмутимого Бена Бернанке: глаза их излучают вселенскую безмятежность и нечеловеческую уверенность в завтрашнем дне. Почему так? Да потому, что американские деньги, в том виде, как они представлены сегодня, – не более чем виртуальная фикция! А значит, бессмысленны и страшилки про триллионы долга. Триллионы долга ЧЕГО? Золота? Серебра? Или обязательств частной компании под названием "Федеральный Резерв", не подкрепленных ничем, кроме доброй воли акционеров и слепой веры человечества в несокрушимость финансовой системы Америки? При правильном ответе на поставленный вопрос можно спать спокойно и смело наращивать национальный долг хоть до квадриллиона, хоть до гугла".
Год назад эти слова смотрелись чистой эмоцией, не подтвержденной никакими фактами. Так, одна интуиция. 18 сентября эта интуиция обрела материальную форму в виде фантастического демарша Администрации Буша, единодушно поддержанного Конгрессом: разваливающуюся на глазах экономику просто взяли на руки и убаюкали, промурлыкав колыбельную на 700 миллиардов долларов! Национальный долг США, соответственно, разбух с 10 триллионов до 11,3 триллиона – аккурат, что я и говорил год назад: да хоть бы и до гугла, какие проблемы?
В самом деле: проблем никаких. Сегодня американская пресса наперебой обсуждает последствия невиданного государственного демарша для налогоплательщиков: насколько тяжким бременем обернутся дополнительные деньги из бюджета, которые, по кулуарным разговорам в Конгрессе, могут обернуться даже не 700 миллиардами, а целым триллионом? Насколько соответствует череда национализаций духу свободного капитализма? Нет ли в демарше душка социалистической провокации?
Побойтесь бога, господа мистификаторы! О каком бюджете может идти речь? 700 миллиардов берутся не из реальных доходов американской экономики, не из бюджетных сбережений, не из экстренных сберегательных фондов, а… ниоткуда! Берутся с потолка в форме изменения записи в строке национального долга: было 10 триллионов, замазали ластиком и написали поверх 11,3 триллиона – всего делов-то!
То, что за 700 миллиардами последуют гуглы, можно не сомневаться: ведь одни только Фанни и Фредди покрывают своими гарантиями ипотечные закладные на сумму около 6 триллионов долларов. Уже в начале лета широким потоком потекли дефолты не по subprime-долгам, а по так называемым кредитам alt-A, а затем уже и по чистым А, которые всегда считались доброкачественными. Если кредиты alt-A получали клиенты с хорошей кредитной историей, однако без документально подтвержденных доходов, то кредиты А предполагали наличие справки о доходах, однако не учитывали самого малого: возможности потерять работу из-за экономического кризиса.
Все так и вышло: ипотека потянула за собой биржу, биржа потянула реальное производство и услуги. 700 миллиардов перспективных дефолтов, на которые секретарь Казначейства США получил добро от Конгресса, почти гарантированно выльются в несколько триллионов по мере схода лавины неплатежей по кредитам выше subprime.
Не подумайте только, что я рисую тут очередные страшилки! Боже упаси! Смысл всей моей гипотезы как раз в том и заключается, что это чрезвычайно оптимистичная гипотеза, светлая, уверенно смотрящая в будущее. 18 сентября 2008 года Америка дала зеленый свет реальному воплощению в жизнь концепции виртуальной экономики. За 700 миллиардами последуют 7 триллионов и далее до бесконечности, и – главное! – то, что мы считаем сегодня экономикой, замечательным образом все выдюжит и переварит.

Откуда такая уверенность? На сей раз тоже не из интуиции, а из чистых фактов. 15 сентября основной показатель биржевой активности, индекс Доу-Джонса, упал на 504 пункта – самое страшное падение со времен 9/11 (на волне новостей о банкротстве Lehman Brothers). 17 сентября индекс упал еще на 449 пунктов (отреагировав на грядущий коллапс AIG). Зато 18 сентября Доу-Джонс благополучно вырос на 410 пунктов, а на следующий день – еще на 369, – оба спурта вызваны решением правительства выкупить весь гнилой ипотечный долг у всех частных финансовых учреждений!
В нормальной – реальной – экономике подобные шаги вызвали бы не спурт, а катастрофический обвал, равного которому в истории не было. Почему? Потому что нормальные люди должны понимать, что правительству, обремененному национальным долгом в 10 триллионов долларов, элементарно негде взять лишние 700 миллиардов. Разве что допечатать. Радостная экстатическая реакция объясняется только одним: люди перестали адекватно воспринимать реальность. Или наоборот: стали воспринимать ее более чем адекватно и именно в том виде, в каком эта реальность существует – в виртуальном виде.
Нам остается лишь добавить к виртуальной валюте и виртуальной экономике еще и виртуальное информационное пространство, в котором СМИ столь массированно и столь единодушно отражают не события, которые имели место быть на самом деле, а некую условную картинку, обслуживающую конкретные идеологические интересы, что даже отдаленно представить себе реальное положение дел не представляется ни малейшей возможности. Что мы получаем в результате? Мы получаем идеальный мир – матрицу Дэвида Айка, которая не имеет к реальности никакого отношения. Прелесть же в том, что и самой реальности уже нет, потому что ее никто не ощущает и не видит. Как в замечательном советском анекдоте про обожравшихся в дупель Василия Ивановича и Петьку ("Ты меня видишь? Нет? И я тебя тоже – вот и закамуфлировались!").
Переходим теперь к гламурному мужчинке (если кто не догадался: все вышесказанное к названию "Голубятни" отношения не имело). Опять же поймите меня правильно: речь пойдет не о сексуальных меньшинствах, а о новом гаджете, который похитил мое сердце. Сам же термин гламурного мужчинки объясняется просто: в каждом мужчине заложено множество архетипов, с рогами и без, которые уходят корнями в коллективное бессознательное. Тут тебе и "садист-мачо", дулшитель, мучитель, истязатель, тут тебе и "охотник", тут и "герой-любовник", половой гигант, титан сладострастья (в воображении, ралзумеется, все происходит в воображении).
"Гламурный мужчинка" соответствует образу крутого мэна на Aston Martin и с Breitling’ом на запястье. Стоп! Правильно ли подобраны брэнды? Я, конечно, не Сергей Минаев, однако чутко ощущаю два непересекающихся тренда в движении "гламурных мужчинок". Первый – спортивно джеймсбондовский, тот самый, что с Aston Martin’ом и Breitling’ом. Второй – расслабленно марлонбрандошный: с Maybach’ом под задницей и Piaget’ом на жирной ручке.
Повторюсь, "гламурный мужчинка" подсознательно живет в каждой самцовой особи. В нашем айтишном царстве водораздел между двумя типажами пролегает четко: одним нравятся навороченные сложные профессиональные программы, другим – комфортные двухкнопочные визарды со "шкурками" вместо интерфейса. Одним нравится многофункциональный коммуникатор, другим стильный айфон, одним – потрясающий по звуку и всеядности форматов Cowon D2, другим – белоснежно-хромированный iPod, заточенный под iTunes.
До недавнего времени универсального устройства, способного объединить оба гламурных тренда не существовало: приходилось жертвовать функциональностью ради стиля, либо исповедовать эстетический комфорт за счет ущемления функциональности. Читатели, следящие за гаджетными играми колумнистов "КТ", знают, что Антонелло всегда предпочитал "малюсенькое и красивенькое", а Старый Голубятник – "функционально напичканное по самое небалуйся".
При этом время от времени – чего уж греха таить! – гламурный мужчинка во мне бунтовался и склонял к компромиссам, типа Sony PRS-505 вместо так и напрашивающегося функционального титана и по совместительству эстетического уродца LBook V3.
Повторюсь: так было раньше, пока не существовало универсального устройства. Сегодня такое устройство появилось, я увидел его, влюбился с первого взгляда, восхитился невообразимой гармонией функциональности и стиля и сразу же купил, распрощавшись с самым жутким, тупым и ненавистным гаджетом в моей жизни – наладонником Dell x51v.
Итак, представляю шедевр: HTC Touch Pro!
Поверьте, было нелегко избрать этот коммуникатор на роль объекта для восхищения и тем более вынести свой выбор на суд читателей "Голубятен". Нелегко, ибо слишком уж много я раздал контравансов и лозунгов в прошлом: "Жуткий HTC, почивший на лаврах и уступивший на более чем два года технологическое первенство конкурентам вроде E-Ten!" – с одной стороны. "Чтобы я когда-нибудь в жизни купил себе коммуникатор с выдвижной клавиатурой после жуткого опыта общения с Tytn!" – с другой.
Тем не менее вот он тут, стоит перед вами Старый Голубятник с пристыженно потупленными очами: нервно сжимает в кулачке свою новую гламурную игрушку – "раскладушку" от HTC!
Как такое могло случиться? Это какие же козыри должен предъявить гаджет, чтобы заставить упертого гаджетомана не только отказаться от публично заявленных принципов и предпочтений, но и расстаться с суммой денег, которая на добрые 30% состоит из бонуса за гламурность и торговую марку! Об этом бессовестном бонусе HTC я, кажется, тоже писал: "Доколе мы будем терпеть… и т. д."
Однако поди ж ты – не устоял! Взял в руки HTC Touch Pro, поиграл с часок и… поплыл! Полюбил вопреки всем предрассудкам и былым предпочтениям. На самом деле магия Touch Pro гораздо глубже и сложнее, чем простое функциональное превосходство этого устройства над своей сестрицей – HTC Diamond.
Когда в июне Diamond появился на прилавках, я, сидя на море, готов был сорваться на два дня в Москву, чтобы купить гаджет, который, как мне казалось, обещал наконец-то соединить в себе взрослую функциональность, VGA-экран и высокий эстетический стиль. Отговорил меня от поездки Антонелло, который уже успел помусолить Diamond в руках и выложил целый список чисто женских ограничений девайса. В смысле, что марлонбрандошные гламурные мужчинки эти ограничения даже не заметят, зато джеймсбондовцы никогда Diamond не примут.
Аккурат с этого места и продолжим через неделю.